[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]
Юлия Сафронова Русское общество в зеркале революционного террора. 1879–1881 годы

БЛАГОДАРНОСТИ
В основу этой книги легла кандидатская диссертация, которую я писала в 2006–2009 годах на факультете истории Европейского университета в Санкт-Петербурге (ЕУСПб) и защитила в 2010 году в Санкт-Петербургском институте истории РАН. Я глубоко признательна моему научному руководителю Алексею Николаевичу Цамутали за теплое отношение и воистину безграничное терпение при работе с бессчетными вариантами этого текста. Также я благодарна моему первому научному руководителю Ольге Юрьевне Солодянкиной за обучение ремеслу и за самую первую формулировку темы исследования. За прошедшие годы моя работа несколько раз обсуждалась в диссертационном семинаре факультета истории ЕУСПб. Я хочу сказать спасибо за критические замечания и ценные советы руководителям семинара: Виктору Моисеевичу Панеяху, Михаилу Марковичу Крому, Сергею Викторовичу Ярову, Владимиру Викентьевичу Лапину, а также всем слушателям ЕУСПб, посещавшим семинар. Очень полезны для меня были комментарии Михаила Дмитриевича Долбилова и консультации по работе с архивами Галины Георгиевны Лисицыной. Важные и остроумные замечания, а также энергичная поддержка Бориса Ивановича Колоницкого вдохновляли меня во время работы над исследованием и продолжают вдохновлять сегодня. Кроме того, я хочу поблагодарить моего оппонента на защите Сергея Игоревича Григорьева за его содержательный и эмоциональный отзыв на диссертацию и огромное количество идей о дальнейшем развитии темы, которые я использовала при написании книги. Также я признательна Виктору Ефимовичу Кельнеру: не только за его рецензии на мои тексты и предоставленную возможность познакомиться с важными источниками из семейных архивов, но прежде всего за его удивительную отзывчивость и помощь в самых разных ситуациях. Эта книга не была бы написана и издана так быстро без поддержки двух немецких коллег — Анке Хильбреннер и Яна Плам-пера. Я необычайно благодарна им, в особенности за помощь с немецкими текстами. Во время исследования я располагала щедрой финансовой поддержкой фонда Gerda Henkel Stiftung, благодаря которой у меня появилась возможность посвятить два года исключительно этой работе, а также провести много времени в московских архивах.ВВЕДЕНИЕ
Героем этой книги является русское общество. Утверждение это столь же коварно, сколь лаконично. В самом деле, понятие «общество» широко используется в исторических сочинениях и при этом редко проблематизируется. Между тем любая попытка пристальнее вглядеться в этот предмет, а тем более дать ему какое-то одно четкое определение оканчивается неудачей. Нельзя сказать, чтобы смысл этой концепции вовсе ускользал от исследователя. Скорее, в разные моменты общество поворачивается к ученому отдельными и при этом трудносопоставимыми гранями. Более того, в разные исторические эпохи мы имеем дело с разными явлениями: русское общество, каким оно было в ноябре 1879 — марте 1881 года, существенно отличается от общества петровской и даже николаевской эпох. О чем — или все-таки о ком пойдет речь? Ответ на этот вопрос можно искать по-разному. Один из возможных путей — обратиться к истории понятия. Прослеживая бытование понятия «общество» в русском языке начиная со Средневековья, Д.Я. Калугин, один из авторов коллективной монографии «От общественного к публичному», указывает на радикальный перелом, произошедший в его употреблении в XVIII веке. Под влиянием западноевропейских политических теорий, восходящих к идеям естественного права и общественного договора, рождались новые формы концептуализации понятия «общество» и ряда устойчивых словосочетаний с прилагательным «общий» («общее благо», «общая польза», «общее спокойствие»)[1]. Начиная со второй половины XVIII века они стали наполняться содержанием, причем в этой сфере действовали два контрагента. «Официальные педагогические доктрины» были направлены на воспитание у подданных качеств, «которые ограничивали сферу компетенции разума»: нравоучительный элемент преобладал над интеллектуальным. «Создавая “общество” западноевропейского типа, власть фактически ограничивала его задачи лишь овладением навыков “светского” (цивилизованного) поведения и демонстрацией лояльности»[2]. В это же время в нарождающейся «публичной сфере» активно действовали интеллектуалы, представлявшие добродетель результатом «общения». Для них «пластика социальных взаимодействий оказывается более значимой, чем власть предписаний»[3]. В результате идейных исканий кружков интеллектуалов дореформенной поры рождается новое представление о человеческой личности, «противопоставляющей себя всем остальным за счет образования и активного отношения к жизни». Параллельно с 40-х годов XIX века наблюдается закат «хорошего общества» «с его гипертрофированной значимостью поведенческого кода», это общество «начинает восприниматься как фальшивое и неестественное»[4]. Изменяется «социальная топография»: понятие «общество» употребляется в это время уже не для обозначения социального верха, а как синоним «публики», которая является «потребителем культурной продукции»[5], создаваемой печатными текстами «интеллектуалов». В.Л. Каплун представляет историю этого же понятия в XVIII–XIX веках не как поступательное развитие, но как серию радикальных разрывов, смену «стилей мышления» об обществе. С его точки зрения, в связи с Великими реформами Александра II сложился стиль мышления об «общественности», который отличался от стиля мышления об «обществе» и «публике» последней трети XVIII — первой половины XIX века. Он предполагал «иные формы мысли, иной тип морального субъекта и форму экзистенциального опыта, иные культурные практики»[6]. Экскурс в историю понятия «общество» позволяет с уверенностью говорить о невозможности дать ему универсальное определение или воспользоваться статьей в словаре интересующей эпохи. Вместо этого следует сказать несколько слов об особом «стиле мышления» об обществе, характерном для пореформенной поры. В отличие от авторов сборника «От общественного к публичному», сосредоточивших внимание на творчестве интеллектуальной элиты, я воспользуюсь здесь текстами статей ежедневных газет. Разговор журналиста с читателем, изучающим свою утреннюю газету за завтраком, как правило, не предполагал полета интеллектуальной мысли или блужданий в дебрях философской терминологии, но велся на уровне здравого смысла о вещах всем понятных. Именно он позволяет зафиксировать в представлении об обществе, постоянно менявшемся под воздействием идейных исканий и политических событий, интересующую меня точку: последние годы правления Александра II. В 1879–1881 годах факт существования в Российской империи «общества» сомнений не вызывал. Даже парадоксальное суждение из статьи газеты «Неделя»: «Общество, общественное мнение, интересы печати, борьба партий — об этом мы еще недавно читали в одной газете, будто оно у нас есть. Все это европейские громкие слова, без европейского смысла и европейского содержания»[7], — в сущности, не отрицало его наличия, но лишь яснее обнажало господствовавший идеал. В это время редкостью становилось понимание общества как сферы происходящего («В обществе говорят»). На страницах газет оно все чаще рисовалось как агент действия: «Общество одушевилось благодарностью и доверием», «Общество может предотвращать зарождение и развитие разного рода противообщественных элементов» и т. д.[8] Центральным событием, явно или подспудно конституировавшим нормативное представление об обществе, была отмена крепостного права. К концу 1870-х годов в описаниях этой эпохи явственно видны признаки мифологизации: начало царствования Александра II ностальгически изображалось как золотой век, когда возникли всесословные учреждения, появилась печать, имевшая возможность, как никогда ранее, свободно обсуждать общественные и политические вопросы, были созданы новая школа и новый суд — иными словами, «явилось все, на чем лежит печать общественности и некоторой гражданской свободы»[9]. В противовес этому настоящее описывалось как время «апатии», «разброда», «нравственного разложения», вызванных тем, что общество «находилось или было поставлено в самое пассивнейшее положение»[10]. На какие бы причины этого ни указывали журналисты в соответствии с собственными и своей редакции политическими пристрастиями[11], норма представлялась им совершенно иначе. Общество мыслилось как реально существующая сила, действующая в публичном политическом пространстве, а о степени его самостоятельности и праве участвовать в политической жизни страны и влиять на решения самодержавной власти велись бурные дебаты. В отличие от журналистов, чьи размышления об обществе нередко носили абстрактный, теоретический характер и мало соотносились с реальным положением дел, представители административного аппарата были вынуждены постоянно оперировать этим понятием исключительно в утилитарных целях. Прерогатива здесь принадлежала III отделению собственной Его Императорского Величества канцелярии, смысл существования которого заключался именно в надзоре за политическими настроениями населения. Наблюдение за тем, каким образом использовали понятие «общество» жандармы при составлении ежегодных политических обзоров, позволяет сделать ряд выводов. Чаще всего они употребляли понятие «общество» как удобную обобщающую категорию, позволяющую отделить «образованный класс населения» от «простого класса». В том случае, когда слово это употреблялось не в качестве простого маркера определенной группы сословий, но для описания реально существующего актора, тот воспринимался скорее как объект надзора и воспитания, а не как полноправный действующий субъект. Политическая полиция оценивала общество как «беспечное», находящееся под влиянием «двусмысленных внушений» прессы, неспособное к самостоятельности, а потому уповающее на правительство как на единственную силу, способную «найти выход из настоящего крайне трудного положения»[12]. Нормой для общества были «доверие» к правительству, «политическая благонадежность» и отсутствие стремлений, «противных видам и намерениям правительства». Единственным проявлением инициативы, которое ожидала от общества власть, были «указания правительству лиц преступного направления, ежели таковые будут ему известны»[13]. Таким образом, источники позволяют зафиксировать продолжавший углубляться разрыв в понимании того, что есть «общество», у представителей административного аппарата и у журналистов, в это время претендовавших на роль руководителей общества и производителей смыслов. Разыскания в области истории понятий позволяют ответить только на часть вопроса, заданного в самом начале: что такое общество или, точнее, как возможно было помыслить общество в пореформенную эпоху. Между тем остается второй вопрос: кто были те люди, которые составляли общество и думали о себе, в соответствии со «стилем мышления» своего времени, как о его представителях. Единственная на данный момент попытка написать «большую историю» русского общества была предпринята В.Я. Гросулом в книге «Русское общество XVIII–XIX вв. Традиции и новации». В ней дано определение общества как «особого социального организма, отличного от власти и от народа»[14]. Американский историк Я. Коцонис пишет, что «общество», «культурные люди» существовали только в противопоставлении «темным массам». Все признаки различия внутри общества «перекрывались общими для всего русского образованного общества исходными посылками: различные группы связывал уже тот факт, что они могли обсуждать одни и те же вопросы внутри общей для них структуры воззрений»[15]. Эти наблюдения очень четко демонстрируют парадокс, с которым сталкивается исследователь, когда речь заходит о социальной топографии: общество (тех, кто его составляет) можно определить только через противопоставление кому-то другому, кого не включают в состав общества. Указанная проблема была очевидна и в 1880 году, когда журналист Сергей Атава (С.Н. Терпигорев), задавшись вопросом, что такое общество, определил его с помощью двойного отрицания: это не «известный сорт и круг людей, имеющих прекрасные манеры, французский язык, бледный и изношенный цвет лица, плешь в двадцать лет». С другой стороны, это не «народ», а все, что «стоит над ним»[16]. Расплывчатость категории «общество» заставляла постоянно прибегать к разного рода уточнениям. В ходу были понятия «образованное общество», «интеллигентное общество», «культурное общество», «мыслящее общество» и т. д., подчеркивавшие такую характеристику этого слоя, которая позволяла выходить за пределы отдельных групп (сословных, корпоративных) и мыслить их частью целого. Изъян всех подобных определений заключается именно в отсутствии четкой границы, отделяющей общество от «простого народа». Очевидно, что во всех случаях речь идет не столько о грамотности, занятиях или уровне дохода, сколько о других, слабо формализуемых признаках, определяемых ситуативно и интуитивно. Еще больше сложностей возникало и возникает при попытке в триаде «власть — общество — народ» отделить общество от власти. В политическом лексиконе конца 1870-х годов существовало множество понятий, описывавших эту противостоящую обществу силу: «правительство», «администрация», «бюрократия», «сановники», «заправляющие классы», «правящие сферы» и пр. Во всех случаях употребления этих понятий их объединяла одна особенность. Упоминания конкретных лиц, чьи действия соотносимы с действиями правительства (М.Т. Лорис-Меликов, А.А. Сабуров, Д.А. Толстой[17]), были до крайности редки в сравнении с упоминаниями власти как абстрактной силы не только на страницах газет (что зачастую было невозможно по цензурным соображениям), но и в частных, даже анонимных письмах. С другой стороны, трудно обнаружить полагавших себя членами общества людей, которые не были бы так или иначе связаны с чиновной иерархией: даже университетские профессора имели классный чин статского советника. Обращаясь к власть имущим, люди, давно вышедшие в отставку, подчеркивали свой статус «отставного полковника» или «отставного коллежского асессора и кавалера»[18]. Более того, представители «правящих сфер», такие как тайный советник цензор Н.В. Варадинов или генерал-майор Генерального штаба Н.Н. Гаврилов, не сомневались в том, что являются членами общества[19]. Если даже сенаторы порой воспринимались как часть общества[20], то с уверенностью можно говорить лишь о том, что его представителями не были Государь Император, члены Императорской Фамилии, министры и, пожалуй, губернаторы. Альтернатива определению общества через противопоставление «власти» и «народа» была предложена в уже цитировавшейся статье С.Н. Терпигорева: «Общество — это все то, с включением и хорошего, и дурного, что грамотно, читает, служит, торгует, командует, пишет и проч. Иначе, кажется, и нельзя ведь определить»[21]. Таким образом, общество возможно было определить не через принадлежность к какому-то слою или простую включенность в какую-то социальную сеть, а через активную самостоятельную деятельность. При этом в размышлениях об обществе на первый план неизменно выходила политика, поскольку всякая самостоятельная деятельность, предпринимаемая без прямых указаний правительства, неизбежно приобретала политический характер[22]. Более того, с точки зрения известного юриста и общественного деятеля С.А. Муромцева, «образованное общество есть факт [здесь и далее, кроме особо оговоренных случаев, курсив авторов. — Ю.С.], созданный русскою историей, перед которым каждая политическая сила должна преклоняться»[23]. Такой взгляд на общество как на единого агента действия, «игрока» в публичном политическом пространстве привел к возникновению в исторических исследованиях двух возможных интерпретаций рассматриваемого явления, во многом находящихся под влиянием либеральной историографической традиции конца XIX века, с одной стороны, и политической философии XX века, с другой. Первая из них представлена полемикой по поводу вопроса о существовании в Российской империи «гражданского общества»[24]. Суть дискуссии заключается в том, можно ли говорить о таком феномене западной цивилизации, как «гражданское общество», применительно к самодержавному государству. Ученые, склонные утверждать, что данное явление имело место, ссылаются на то, что в России активно развивалась общественная жизнь в форме добровольных организаций, объединений, союзов или городских и сельских органов самоуправления[25]. Противники этого подхода говорят о том, что самодержавное государство, подавляя общественную инициативу, не способствовало складыванию «гражданского общества»[26]. Проблема заключается еще и в том, что разработанная на западноевропейском материале концепция «гражданского общества» предполагает наличие определенной социальной страты ее носителей. Речь идет о таких конвенциональных классификационных категориях, как «буржуазия» и «средние классы» («middle classes»), механическое перенесение которых на российский материал, как убедительно показывает немецкий историк Л. Хефнер, бесполезно. Когда эти аналитические категории, выработанные для описания западноевропейских общественных отношений, служат для оценки российского эмпирического материала, «все выводы подчеркивают в первую очередь отклонение от западной нормы, притом что присущая таким категориям компаративная перспектива не эксплицируется и не рефлексируется»[27]. Не решает проблему носителя «гражданского общества» в России и предлагаемая некоторыми исследователями категория «интеллигенции», как вследствие размытости границ этого явления, так и вследствие идеологической окрашенности самого понятия: оно автоматически облагораживает те социальные группы, которые маркирует, так же как понятие «буржуазия» стигматизирует[28]. Альтернативный вариант интерпретации рассматриваемого явления дает сформировавшееся в XIX веке в России понятие «общественности». Редакторы сборника «Между царем и народом. Образованное общество и поиск общественной идентичности в поздней Российской империи» Э. Клоуз, Д. Уэст и С. Кассоу предлагают использовать эту категорию в качестве инструмента анализа, так как она, во-первых, имеет преимущество идеологической нейтральности, а во-вторых, менее связана с понятием класса и тем самым классового сознания, а более с готовностью действовать на общее благо и дело прогресса. С их точки зрения, «общественность» — это термин, родившийся для обозначения идентичности слоя людей, отделявших себя как от крестьянских масс, так и от государства. Этот термин имеет коннотации с такими понятиями, как «образованное общество» и «средний класс». Представители «общественности» остро осознавали, что будущее России зависит от достижения благоденствия и установления баланса между автономной общественной инициативой и государственной властью[29]. В одной из программных статей сборника Э. Глисон прослеживает, как в течение XIX века понятие «общество» трансформировалось в понятие «общественность», основной характеристикой которого было участие в политическом процессе[30]. Ловушка всех подобных рассуждений заключается в том, что при наложении политического измерения «гражданского общества»/«общественности» на социальное появляется закономерный вопрос: кем являются люди, стоящие «между царем и народом», если они не участвуют в политическом процессе постоянно и активно? Не менее сложен вопрос: что можно считать актом такого участия? Как найти общество за пределами узкого круга литераторов, политически ангажированных профессоров, мятежных земских деятелей? Обозначенная проблема хорошо заметна в книге В.Я. Гросула, который, пытаясь уловить это участие/неучастие, выделяет «общество в целом» и «передовое общество» (очевидно, совершающее политические действия), а с другой стороны, утверждает, что «все дворянство к обществу относить никак нельзя. Имелись определенные дворянские прослойки, практически не принимавшие участия [курсив мой. — Ю.С.] в общественной жизни»[31]. Л. Хефнер, ориентируясь на немецкое понятие Offentlichkeit, разработанное Юргеном Хабермасом, предлагает рассматривать «общественность» как социальную практику. Он выделяет в ней три уровня: «face-to-face общественность» («более или менее случайные разговоры на улицах, в салоне и т. п.»), «публичные собрания» и «массовую коммуникацию», позволяющую через печатные средства выходить за локальные границы[32]. Вместо сомнительных поисков «гражданского общества» на просторах Российской империи он считает более целесообразным обратиться к «местному обществу», ограниченному локальными рамками отдельных регионов и даже городов. Полагая, что «местное общество» как единица социального действия на географически ограниченном пространстве может быть признана «функциональным эквивалентом гражданского общества Западной Европы», он констатирует отсутствие или «рудиментарное наличие» этого феномена в масштабах всей империи[33]. Обращение к текстам 1870-х годов, оставшимся за пределами внимания исследователей, позволяет скорректировать представление об «общественности». В мае 1877 года за границей М.К. Элпидин, представитель предшествовавшего народникам поколения революционеров 1860-х годов и бессменный издатель заграничной вольной печати, инициировал создание журнала «Общее дело», который должен был стать «органом стремлений и чувств большинства общества», в отличие от прочих изданий, служивших различным партиям и кружкам. В программной статье, посвященной потребностям «общества», говорилось: «Понятие общественности является понятием среды, удовлетворяющей потребностям индивидуального развития, индивидуальной свободы, и достоинство этой среды измеряется степенью быстроты обмена мысли и согласия в комбинации усилий, или иначе — единством общественного духа и действия»[34]. Это определение позволяет говорить о возможном восприятии «общественности» не как актора, а как публичного пространства, арены для коммуникации и самодеятельности. Едва только поиски героя этой книги вышли за границы истории понятий и — шире — идей, как пришлось столкнуться с большим количеством противоречий и неясностей. Все предыдущие размышления о природе российского общества (я намеренно отказываюсь от употребления уточняющих прилагательных), кажется, можно свести к одному заключению: о нем нельзя сказать ничего определенного ни с социальной, ни с политической точки зрения, кроме того, что общество все же существовало и проявляло себя посредством каких-то действий. Для того чтобы русское общество все-таки стало героем этой книги, представляется необходимым изменить саму формулировку исследовательского вопроса. Позволю себе прибегнуть к известному софизму. Что отражается в зеркале, пока в него никто не смотрит? Ответ очень прост: ничего. Для того чтобы обнаружить русское общество, необходимо найти зеркало, в которое оно однажды взглянуло. Это тем более важно, что и само общество, не до конца уверенное в собственном существовании, пристально всматривалось в свое отражение, стремясь постигнуть самого себя. В какое зеркало гляделось общество? Что может быть расценено как политическое действие в государстве, где отсутствуют представительные органы? Ответ на последний вопрос позволит найти решение и для первого, если в качестве политического действия рассматривать любой акт коммуникации внутри публичного политического пространства: коллективное или индивидуальное обращение к власти (оставим пока вопрос о правилах, по которым создавались эти обращения), а также разные способы взаимодействия между отдельными представителями общества или их группами внутри этого пространства (от газетных статей до разговоров в салонах). В условиях стабильности количество «игроков» со стороны общества минимально, а проблемы, ими обсуждаемые, зачастую действительно не выходят за рамки местных интересов. Следовательно, зеркалом, которое в полной мере и во всех подробностях было способно отразить русское общество в целом, могла стать лишь серьезная кризисная ситуация, задевающая лично возможно большее количество людей, полагающих себя членами общества. Следует признать, что только ситуация разрыва максимально обнажает сущность рассматриваемого явления, делает очевидными механизмы его существования, скрытые от глаз наблюдателя в годы покоя. Иными словами, общество возможно увидеть только в зеркале кризиса, заставляющего отдельных людей проблематизиро-вать само его существование, возможности, а также свой статус в нем. В качестве такого зеркала в этой книге рассматривается реакция русского общества на проблему терроризма в течение ноября 1879 — марта 1881 года, когда партия «Народная воля» вела «охоту» на императора Александра II, завершившуюся взрывами на Екатерининском канале[35]. Ирония такого выбора заключается в том, что большинство исследователей терроризма сегодня готовы расписаться в своем бессилии дать изучаемому ими феномену какое-то единственное определение или прийти к консенсусу по поводу его природы. Чарльз Тилли отнес само понятие «терроризм» к тем терминам, которые служат политическим и нормативным целям, но при этом поразительно мешают описанию и объяснению тех феноменов, которых они касаются. В ряд таких понятий он поставил также «бунт», «несправедливость» и «гражданское общество»[36]! Исследования терроризма, начавшиеся в 1930-х годах, до середины 1960-х носили спорадический характер: как правило, это были исторические работы, относящиеся к деятельности той или иной революционной группы. Авторы не ставили перед собой задачу теоретизировать по поводу сущности изучаемого ими метода революционной борьбы. Кардинальное изменение ситуации в этой области один из классиков изучения терроризма Уолтер Лакер связал с войной во Вьетнаме[37], а Брюс Хоффман — с крушением колониальных империй[38]. Так или иначе, со второй половины XX века исследователи сосредоточились на актуальном материале, а экскурсы в историю в большинстве случаев стали носить иллюстративный характер. Схожая ситуация отчасти сохраняется и сегодня, с той лишь разницей, что почти все статьи о проблеме терроризма теперь начинаются ссылкой на 11 сентября 2001 года. Между тем игнорирование исторических условий, в которых совершался тот или иной террористический акт, ведет к еще большему затемнению изучаемого явления: история политических убийств Нового времени едва ли способна помочь при разработке политики современных государств, борющихся с международным терроризмом. Сегодня практически никем не оспаривается тезис о том, что терроризм — относительно новое явление, возникшее в Европе лишь во второй половине XIX века, хотя еще в 1977 году У. Лакер называл «террористами» Юдифь, Брута, Вильгельма Телля и Шарлотту Корде[39]. Дэвид Джордж в статье, посвященной различиям между террористическим актом и классическим тираноубийством, практиковавшимся со времен Античности, опровергает не только эквивалентность этих двух явлений, но и возможное происхождение первого от второго[40]. Хотя и то и другое практикуются во имя «общего блага», террорист «имеет иной взгляд на свою роль, на общество и на значение своего акта»[41]. В отличие от тираноубийства, устраняющего конкретного человека, в случае террористического акта жертва сама по себе значения не имеет. Она является только символом и либо репрезентирует определенную категорию лиц, являющихся целевой аудиторией террористов, либо олицетворяет собой социальный порядок или правящие круги, в которые включена[42]. Такая точка зрения поддерживает концепцию терроризма как инструментального насилия, получившую наибольшее признание среди ученых. В наиболее обобщенном виде она определяет терроризм как «метод или технику, при использовании которой осуществляются угрозы или акты насилия в адрес определенной группы людей, что, через устрашение, способствует достижению политических целей» террористов[43]. Логику любой террористической деятельности невозможно вполне понять без адекватной оценки показательной природы совершаемого акта. Терроризм есть опосредованное насилие: жертва этого насилия и конечная цель террористов, как правило, различны. Иными словами, терроризм можно понимать как процесс коммуникации, где каждый акт является «посланием», адресованным определенной аудитории[44]. Разумеется, содержание такого рода «послания» может значительно разниться, но среди прочего оно обязательно сообщает о причинах, побуждающих использовать насилие, свидетельствует о включенности террористов в текущую политическую ситуацию, предъявляет определенные требования властям, а также демонстрирует неспособность государства защитить своих граждан или провоцирует виток репрессий, которые еще больше подчеркивают обоснованность претензий к нему. Здесь уместно вспомнить Степана Халтурина, оказавшегося наедине с императором и «не решившегося» нанести смертельный удар. Ольга Любатович в воспоминаниях объяснила этот эпизод обаянием Александра II, его обходительным обращением с рабочими. Однако в свете террористической тактики убийство монарха без свидетелей, «тяжелым острым молотком» не имело смысла, поскольку не способно было «сказать» то, что пыталась донести до своей аудитории «Народная воля». Рассматривая терроризм как коммуникацию, нельзя не согласиться с точкой зрения Э. Уотера, выделившего в «процессе террора» кроме непосредственно актов насилия два других элемента: эмоциональную реакцию и создаваемый социальный эффект[45]. Другой термин, позволяющий увидеть в терроре нечто большее, чем отдельные акты насилия, — «террористическая кампания», — дает возможность описать процесс террора как взаимодействие террористов и их целевой аудитории[46]. Таким образом, оказывается, что терроризм невозможен, если кроме непосредственной жертвы в него не вовлечена третья сторона, ответ которой на «послание», отправляемое с помощью насилия, и является конечной целью террористов. Еще в 1935 году Д. Хардман писал: «Если террор потерпит неудачу в том, чтобы вызвать широкий отклик в кругах за пределами тех, кому он напрямую адресован, это будет означать, что он бесполезен как орудие социального конфликта»[47]. Примером может послужить покушение Д.В. Каракозова: не понятый не только жертвой (Александр II спросил убийцу, не поляк ли он), но и обществом, он не состоялся как террорист[48]. Итак, круг замкнулся. Поиск ответа на вопрос, что есть русское общество, приводит к изучению событий конца царствования Александра II. Но понимание этих событий невозможно, если рассматривать отношение к ним представителей общества просто как реакцию на внешний раздражитель. Само отношение к событиям было их неотъемлемой составной частью. Разумеется, покушения народовольцев имели ряд особенностей, отделяющих их от других подобных покушений. Прежде всего они были совершенно новым явлением, о чем свидетельствуют как неустоявшийся понятийный ряд, так и огромное разнообразие толкований действий «Народной воли». С первых покушений и правительство и общество оказались в одинаковом положении: они были равно некомпетентны в вопросе о природе явления, с которым им пришлось столкнуться. Положение единственных экспертов (впрочем, даже народовольцев сложно назвать экспертами, поскольку они сами в этот момент только пытались обосновать свою деятельность) было таково, что их мнение было затруднительно узнать, а узнав, доверять ему. Именно вследствие своей новизны террористические акты порождали удивительное разнообразие мнений, ни одно из которых невозможно было признать единственно правильным. 1870-е годы не только в России, но и по всей Европе стали временем зарождения и становления терроризма. Сомнительная честь изобретения этого инструмента политической борьбы очень часто приписывается именно русским народникам или даже конкретно «Народной воле»[49]. В качестве альтернативных «отцов» террора фигурируют также итальянские анархисты, впервые декларировавшие «пропаганду фактом» («propaganda by deed») в 1876 году[50]. Поиск «истинных родоначальников» представляется мне малоосмысленным, поскольку мы имеем дело с общеевропейскими (и даже общемировыми) тенденциями, приведшими к череде политических покушений в Германии, Италии, Испании, Великобритании и США, произошедших на коротком временном отрезке 1878–1887 годов. Общим для всех было то, что параллельно с политическими покушениями шел процесс конституирования их смысла. Неразделенность общеевропейского процесса осмысления покушений, борьбы за их интерпретацию, формирования публичного дискурса о терроризме блестяще показана в статье Каролы Дитце[51]. Ставшее общим местом представление о том, что именно русские революционеры положили начало террористической борьбе (так что в начале XX века терроризм был кое-где известен под названием «русский метод»[52]), было спровоцировано целым рядом факторов. Прежде всего на него повлияло само цареубийство: количество неудавшихся покушений на венценосных особ и государственных деятелей значительно превышало число удавшихся. Кроме того, члены «Народной воли» приложили немало усилий, пропагандируя свою деятельность. Особенно велик был вклад С.М. Степняка-Кравчинского. Его книга «Подпольная Россия», первоначально вышедшая на итальянском, была быстро переведена на все европейские языки и сделала «Народную волю» необыкновенно популярной[53]. Следует отметить еще один немаловажный момент: даже неудавшиеся покушения народовольцев были чрезвычайно эффектны. Использование динамита, этого последнего слова технического прогресса, запатентованного Альфредом Нобелем всего лишь десятилетием ранее, вызывало широкий резонанс. Оно же оказывало огромное влияние на восприятие террора русским обществом. До тех пор, пока революционеры использовали в качестве оружия кинжалы и револьверы, теракт был опасен для общества только предполагаемыми последствиями, например, возможным народным восстанием в случае цареубийства. Динамит менял все: отныне террористические акты угрожали не только избранным представителям правительственных сфер. Жизнь каждого человека могла подвергнуться опасности. Повышая личностную значимость террора, деятельность народовольцев побуждала все большее количество представителей общества к действию в публичном политическом пространстве. Сами участники конфликта 1879–1881 годов: правительство, с одной стороны, и «Народная воля», с другой, в полной мере осознавали, что его исход зависит от третьей стороны — русского общества. Именно в связи с террористическими актами в течение 1878–1881 годов правительство трижды официально обращалось за поддержкой к населению: 20 августа 1878 года, 15 февраля 1880 года и 6 мая 1881 года. Созданные в разных условиях разными политическими деятелями, эти обращения были объединены общей мыслью: правительство не в состоянии было самостоятельно справиться с революционным движением. Если в 1878 году адресатом послания были «все сословия русского народа» и «его лучшие представители»[54], то уже в 1880 году в обращении М.Т. Лорис-Меликова «К жителям столицы» говорилось о поддержке «общества»[55]. В циркуляре министра внутренних дел графа Н.П. Игнатьева от 6 мая 1881 года также утверждалось, что именно «общество» должно оказать противодействие «губительному направлению»[56]. Эти обращения провоцировали представителей общества высказывать свое мнение о терроре и своем месте во время борьбы с ним. В свою очередь, «Народная воля» во многом ориентировалась на общество. Исследователи истории партии неоднократно отмечали, что в сравнении с предыдущим этапом развития народничества деятельность народовольцев в народе была минимальной[57]. В то же время они обращают внимание на попытки революционеров привлечь на свою сторону «либеральное общество»[58]. В какой мере народовольцы рассчитывали на его поддержку, можно судить не столько по «Подготовительной работе партии», в пункте «Б» которой говорилось о необходимости заручиться поддержкой «либералов и конституционалистов»[59], сколько по статьям, опубликованным после 1 марта 1881 года, где общество прямо обвинялось в предательстве[60]. Русское общество в этой ситуации отнюдь не оставалось пассивным зрителем, за благосклонное отношение которого боролись правительство и революционеры. Внутри его существовали различные группы, сплоченные общими интересами, которые пытались использовать создавшееся положение, чтобы повлиять как на правительство, так и на других представителей общества. Все перечисленные особенности ситуации 1879–1881 годов превращают террористическую деятельность «Народной воли» в идеальное зеркало. Широкий резонанс покушений на самодержавного монарха и высокая личная значимость происходящего для представителей общества будили эмоции и мысли, заставляли высказываться и действовать даже тех, кто обычно молчал; наконец, вели к размышлениям о том, что есть общество и какова его роль в происходящем. Под влиянием террористической борьбы менялось само русское общество, и процесс этот был необратим… Вопрос о том, какую роль сыграло русское общество в событиях 1879–1881 годов, неоднократно поднимался в историографии, но никогда не становился предметом специального изучения, оставаясь на периферии внимания исследователей. На разных исторических этапах ему уделялось большее или меньшее внимание. Одной из первых научных работ[61], где затрагивалась история «Народной воли», стало двухтомное исследование «Император Александр И. Его жизнь и царствование» С.С. Татищева, появившееся в 1903 году. Несмотря на то что автор не ставил перед собой задачи осветить отношение общества к покушениям на императора, следуя за ходом событий, он не раз останавливался на этом вопросе. Историк подробно анализировал попытки правительства привлечь общество к борьбе с терроризмом, в первую очередь политику М.Т. Лорис-Меликова[62]. События 1905–1907 годов сделали историю революционного движения в России актуальным вопросом. Откликаясь на злобу дня, в 1905 году С.Г. Сватиков выпустил книгу «Общественное движение в России (1700–1895)». Несмотря на большой временной отрезок, взятый автором для исследования, событиям 1879–1881 годов уделяется в ней много внимания. Они изображены как конфликт, в котором участвовали три стороны: правительство, «крайняя партия» и «либеральное оппозиционное движение». Описывая 1 марта 1881 года как момент, когда террористы и власть «стояли лицом к лицу», автор обвинял русских либералов в провале революции: они «оказались не на высоте своей задачи» и продемонстрировали «незрелость своей политической мысли и неорганизованность»[63]. Либеральная концепция истории «Народной воли» была сформулирована в трудах А.А. Корнилова, Л.Е. Барриве (Гальперина), Б.Б. Глинского и В.Я. Богучарского (Яковлева). Ответственность за революционный террор А.А. Корнилов и Б.Б. Глинский возлагали на правительство, которое само довело революционеров «до крайности». Сточки зрения Корнилова, в условиях, когда власти было «плевать на общественное мнение», общество имело право оставаться равнодушным к призывам правительства о помощи и даже «косвенно пособничать революционерам»[64]. Несколько иначе подходил к проблеме Б.Б. Глинский. Он настаивал, что общество, одобряя политическую программу «Народной воли», к идее цареубийства относилось враждебно[65]. Более категоричен в своих суждениях был Л.Е. Барриве, который открыто признавал роль в успехах «Народной воли» «широкого сочувствия в среде учащейся молодежи и в обществе», «материальной помощи и моральной поддержки демократических слоев городского населения и левого крыла земской оппозиции»[66]. В работе В.Я. Богучарского «Из истории политической борьбы в 70-х и 80-х годах XIX века: партия “Народной воли”, ее происхождение, судьба и гибель» специально была выделена глава «Связи с обществом». В ней рассматривались отношения партии не с обществом в целом, а только с кругами, которые ее поддерживали, и описывались формы их поддержки[67]. Автор одним из первых остановился на организации «Священная дружина», возникновение которой было реакцией на убийство Александра II. Исследуя ее историю, В.Я. Богучарский подробно описывал настроения, царившие в среде «охранителей». Концепция истории «Народной воли», которая впоследствии легла в основу советской историографии, начала формироваться еще до революции 1917 годав трудах В.И. Ленина[68]. Он писал о неэффективности террора как средства политической борьбы и указывал на отсутствие его связи с «настроением масс»[69]. Отношению либерального и революционного лагерей посвящена работа «Гонители земства и Ан-нибалы либерализма». С точки зрения В.И. Ленина, во время «второй революционной ситуации» «либеральное общество» доказало свою «политическую незрелость, неспособность поддержать борцов [народовольцев. — Ю.С.] и оказать настоящее давление на правительство»[70]. В целом, несмотря на ряд критических замечаний, В.И. Ленин положительно отзывался о народовольцах, так как они способствовали «последующему революционному воспитанию русского народа»[71]. В первые годы существования советской власти точка зрения В.И. Ленина еще не считалась единственно правильной. Историки полагали возможным для себя толковать историю «Народной воли» в соответствии с собственным видением исторического процесса, примером чему может служить концепция М.Н. Покровского. В 1920-х годах он писал, что единственной опорой «Народной воли» была «буржуазия», которая «и сочувствовала бунтарям, и в то же время до смерти боялась»[72]. Цель народовольческого террора он видел именно в выведении «буржуазии» из «состояния трусливого оцепенения»[73]. Иначе представлялась история «Народной воли» Н.А. Рожкову, который в работе 1925 года указывал на принципиальную близость, «сродство психологии и даже классовой подкладки» народовольцев и либералов[74]. Признавая влияние партии на общество, Н.А. Рожков утверждал, что именно «опьянение успехом» у интеллигенции стало главной причиной неудачи «Народной воли», которая «не имела достаточного понятия о классовой государственности»[75]. В 1928 году впервые после революции была издана книга, специально посвященная «Народной воле»: «Партия “Народная воля”: возникновение, борьба, гибель» В. Левицкого (В.О. Цедербаума). Работа отличается поверхностностью и описательностью. Не ставя перед собой каких-либо серьезных исследовательских задач, не обращаясь к новым источникам, автор создавал историю партии, рассчитанную на массового читателя. Тем не менее именно В. Левицкий больше других уделил внимание взаимоотношениям «Народной воли» и общества, влиянию террора на общественное мнение. Он одним из первых отметил усилия «Народной воли» по привлечению общественного мнения на сторону революционеров[76]. С точки зрения В. Левицкого, отношение Исполнительного комитета к обществу носило прагматический характер: партия нуждалась в денежных средствах и иных «услугах». В результате «центр внимания» народовольцев сместился с социалистической борьбы, они стали «поворачивать фронт в сторону “общества” и возлагать на него все большие и большие надежды»[77]. Этот тезис автор подкреплял анализом литературы партии, подчеркивая, что она была рассчитана на интеллигентного читателя. Сточки зрения исследователя, привлечению общества на сторону террористов мешали два обстоятельства: социалистическая идеология, отпугивавшая либералов, и «пассивность» русского либерализма, склонного ожидать реформ сверху и опасавшегося народной революции[78]. Работа В. Левицкого подверглась серьезной критике, вызванной не столько содержанием книги, сколько принадлежностью автора к меньшевикам. Впоследствии исследователи «Народной воли» мало обращали на нее внимания, а поднятые автором вопросы долгое время не рассматривались. Одной из самых ярких страниц в истории изучения «Народной воли» стали празднование ее пятидесятилетнего юбилея и связанная с ним ожесточенная дискуссия о классовой природе партии, входе которой была выработана официальная трактовка событий 1879–1881 годов, закрепившаяся затем в советской историографии[79]. В ходе дискуссии начала побеждать точка зрения, восходившая к ленинским оценкам: классовый характер «Народной воли» определялся как мелкобуржуазный, крестьянский. Отсутствие массовой поддержки вынудило партию обратиться к террору, в котором она исчерпала свои силы. Победа этой концепции привела к смещению акцентов в сторону исследования работы партии в крестьянской и рабочей среде и преуменьшению, а иногда и игнорированию связей народовольцев с обществом. После убийства С.М. Кирова изучение «Народной воли» было прервано. С конца 40-х годов XX века началось монографическое изучение «второй революционной ситуации», как определил В.И. Ленин политический кризис рубежа 1870-1880-х годов. В центре внимания историков оказались правительственная политика и реакция на нее русского общества. В 1950 году М.И. Хейфец защитил диссертацию, на основе которой в 1963 году была издана монография «Вторая революционная ситуация в России (конец 70-х — начало 80-х годов XIX века): кризис правительственной политики в России». Опираясь на ленинскую концепцию «революционных ситуаций», историк рассматривал события 1879–1881 годов как «стихийную борьбу народных масс» вокруг «аграрного вопроса и вопроса о государственном строе»; народовольческий террор оценивался им как малозначимый[80]. Исследуя состояние общества в момент «второй революционной ситуации», М.И. Хейфец выделил в нем три течения: революционно-демократическое, либерально-оппозиционное и реакционно-крепостническое[81]. Главную силу общества, с его точки зрения, составляли либералы, которые использовали революционную ситуацию в качестве «благоприятной обстановки для успешного торга с правительством»[82]. Конфликт в обществе, названный М.И. Хейфецем «основным водоразделом общественных сил», проходил не между либералами и реакционерами, а «между революционной демократией и реакционным лагерем, к которому примыкал либерально-монархический “центр”»[83]. В этих условиях «уступки и заигрывания» царизма «имели определенный успех и сыграли значительную роль в ослаблении антиправительственного лагеря»[84]. Принципиально не был согласен с таким подходом П.А. Зайонч-ковский, утверждавший, что «кризис самодержавия» был вызван именно деятельностью «Народной воли»[85]. В центре его внимания находился кризис верхов, который прошел две стадии: период усиления репрессий и сменивший его период уступок и поиска компромисса с обществом во время «диктатуры сердца». Особенно ученого интересовали попытки привлечения общественного мнения на сторону правительства и реакция общества на них. В 1959 году итальянский историк Ф. Вентури издал книгу «Корни революции. История народнического и социалистического движения в России XIX века», которая до сих пор остается классическим трудом по истории русского революционного движения XIX века. Внимание исследователя было сосредоточено в основном на анализе программных документов и журнала партии «Народная воля» и гораздо меньше — на ее деятельности. Хотя Вентури изучал то, каким образом в издании партии описывалась реакция общества на покушения, он, однако, отказался от оценки того, насколько это изображение соответствовало действительности[86]. В 1977 году вышла монография А. Улама «Во имя народа. Пророки и конспираторы в дореволюционной России», построенная на биографиях революционеров, составлявших мир подпольной России. Специально вопрос об отношении общества к террору историк не ставил, но писал, что вплоть до 1 марта 1881 года русское общество было как будто «околдовано». Его представители считали за бесчестье доносить на революционеров и, напротив, всячески их поддерживали[87]. Исследования «Народной воли» в СССР возобновились только после XX съезда[88]. В 1960-х годах появились две монографии, специально посвященные истории «Народной воли», М.Г. Седова и С.С. Волка, однако в них вопрос об отношении общества к народовольческому террору специально не ставился[89]. Эту проблему затрагивает в своих работах В.А. Твардовская. Она стремится объяснить внимание «Народной воли» к общественному мнению переменой идеологии: новая постановка вопроса о политической борьбе вызвала новый взгляд на либеральное движение[90]. В статье «Вторая революционная ситуация в России и борьба "Народной воли”» В.А. Твардовская рассматривает либеральное движение, утверждая, что «вторая революционная ситуация еще более способствовала размежеванию революционного народничества в лице “Народной воли” с либерализмом»[91]. Проблема общественного мнения в связи с историей партии «Народной воли» впервые четко поднята в работах Н.А. Троицкого[92]. В центре внимания историка находится не вся история «Народной воли», а только судебные процессы членов партии, соответственно Н.А. Троицкий сосредотачивается на реакции русского общества на процессы по делам народовольцев и их казни. Главу, посвященную этой проблеме, историк начинает с вопроса об определении «общества». Автор склонен разделить его на «активную интеллигенцию» и «узковзглядых обывателей», мнение которых не следует принимать в расчет. Собственно исследование общественного мнения Н.А. Троицкий начинает с анализа источников информации о судебных процессах, имевшихся в распоряжении общества. Интересно, что наряду с публикациями печати и официальными заявлениями правительства, а также сообщениями нелегальных изданий он обращается к неофициальным каналам распространения информации, в частности, к широкой реакции на хлопоты родственников осужденных[93]. Исследуя отклики печати на судебные процессы, историк показывает, каким образом в условиях цензуры журналисты стремились освещать происходящие события: «отваживались комментировать прямо», прибегали «к способу иносказаний» либо печатали «претензии к русскому правительству за границей»[94]. При изучении газетных откликов на процесс первомартовцев автор, к сожалению, обращается только к либеральным изданиям: ни «Московские ведомости», ни «Русь», ни другие нелиберальные издания, ни, тем более, провинциальная печать им не упоминаются. Единственный пример положительного отношения к казни первомартовцев (статья Д.В. Аверкиева в «Новом времени») приводится историком, чтобы проиллюстрировать «палаческие эмоции обывателей», которыми «мыслящие интеллигенты, хотя бы и умеренных взглядов, в подавляющем большинстве возмущались»[95]. Такой подход неоправданно сужает круг источников и затушевывает острые противоречия, существовавшие в обществе. Несмотря на громадный интерес, который вызывает эта работа, отдельные тезисы Н.А. Троицкого можно оспорить. В первую очередь это касается вывода о том, что общество проявляло симпатии «не столько к деятелям, сколько к делу революции»[96]. Сама специфика поднятого Н.А. Троицким вопроса об отношении общества к судебным процессам над революционерами ориентирует читателя на более широкий, чем революционный, гуманистический идеал. Зачастую не поддерживая идеи и действия «Народной воли», общество протестовало против смертной казни и прочих жестокостей режима. Протест этот вовсе не означал однозначную революционность его представителей. Важным этапом в изучении «второй революционной ситуации» стала коллективная монография «Россия в революционной ситуации на рубеже 1870-1880-х годов»[97]. Большой раздел работы посвящен исследованию деятельности революционно-демократической интеллигенции, специально освещается деятельность либералов, студенческое движение, дается анализ демократической журналистики, рассматривается отражение революционных событий в русской и зарубежной культуре. Анализируя участие тех или иных сил, авторы этих глав не ставят вопрос об обществе в целом. В результате получается несколько не связанных между собой мнений об одних и тех же событиях, по-разному представленных историками. Серьезные политические и экономические изменения 90-х годов XX века не могли не сказаться на состоянии историографии русского революционного движения. В начале 1990-х в публицистике и отчасти в научных работах утвердилось неприятие революционной деятельности вообще. При общем спаде интереса к революционному движению XIX века единственной проблемой, вызывающей подчас бурные дискуссии, остается терроризм[98]. В центре внимания современных исследователей находится вопрос об истоках и причинах этого явления. Наиболее подробно он рассмотрен в ряде работ О.В. Будницкого, посвященных идеологии русских террористов, психологическим и этическим сторонам террористической борьбы[99]. Психологии и идеологии членов Исполнительного комитета «Народной воли» посвящена работа Г.С. Кана[100]. Попытка разобраться в особой психологии представителей революционного подполья предпринята в книге Е.И. Щербаковой «“Отщепенцы”. Путь к терроризму (60-80-е годы XIX века)»[101]. В то же время в 1990-х годах вновь был поднят вопрос о поддержке, оказанной террористам русским обществом, и о причинах этой поддержки. Одной из первых на него обратила внимание американская исследовательница А. Гейфман, изучавшая эсеровский террор. Она пишет об особом отношении к террористам как к людям, в действиях которых видели «примеры самопожертвования и героизма»[102]. О взаимосвязи особого состояния общества («явно выраженной отчужденности от власти») и всплеска революционного террора также на примере событий начала XX века пишет М.И. Леонов[103]. К этой же проблеме на более широком материале, охватывающем период от покушения Д.В. Каракозова до революции 1905 года, обращается А.С. Баранов. В статьях «Образ террориста в русской культуре конца XIX — начала XX века»[104] и «Терроризм и гражданское мученичество в европейской политической культуре Нового и Новейшего времени»[105] он пытается найти психологические причины, сделавшие террористов мучениками идеи, осуждение которых с чьей бы то ни было стороны было невозможно и приравнивалось к преступлению против совести. Автор рассматривает, как сами революционеры при помощи пропаганды формировали в сознании общества положительный образ террориста, а также как этот образ проявляется и преломляется в произведениях культуры. Несколько иначе к этому вопросу подходит М.Б. Могильнер. В работе «Мифология “подпольного человека”: радикальный микрокосм в России начала XX века как предмет семиотического анализа» она поднимает вопрос об ответственности русского общества за создание системы политического террора. Отказываясь признать общество «пассивным объектом перманентного прессинга власти, который порождает соответствующие этому прессингу формы противодействия революционных сил»[106], она обращается к анализу литературной мифологии «подпольной России». С точки зрения исследовательницы, образ террориста как «героя-жертвы», который служил моральному оправданию политических убийств, был создан не самими террористами, а литераторами. Следовательно, «общество давало моральную санкцию не политическому радикализму как таковому, а его литературному двойнику»[107]. Поставленный таким образом вопрос об ответственности русского общества за революционный террор также подвергся идеологизации. Особенно отчетливо эта тенденция проявилась в работах А.И. Суворова «Политический терроризм в России в XIX — начале XX века и российское общество» и «Борьба с терроризмом в России в XIX — начале XX века»[108]. Автор убежден, что российское общество не сумело оценить опасность террора. Описывая сложившуюся ситуацию, он утверждает, что часть общества поддерживала террористов, часть оставалась нейтральной; «немало было и людей, запуганных террористами, готовых даже под угрозами и нажимом оказывать им определенное содействие»[109]. В своем анализе ситуации А.И. Суворов опирается не столько на источники, сколько на представление об особой ментальности российского общества, предрасположенного к неверному пониманию террора[110]. Таким образом, неоднократно поднимавшийся вопрос об отношении русского общества к революционному террору и его влиянии на исход борьбы «Народной воли» до настоящего момента не подвергался специальному рассмотрению. В отдельные исторические периоды в историографии по-разному описывалось восприятие народовольческой борьбы обществом (или различными группами внутри его). При этом отношение общества чаще всего рассматривалось как сложившийся факт, лишь иногда отмечались изменения, связанные с политикой М.Т. Лорис-Меликова и цареубийством 1 марта 1881 года. Задачу описать процесс формирования отношения общества к проблеме терроризма и факторы, его определявшие, исследователи до сих пор перед собой не ставили. Желание сделать героем моей книги русское общество вынуждает меня взяться за эту чрезвычайно сложную задачу. Обращение к изучению общества эпохи, не знавшей социологических опросов и не оставившей источников, которые можно подвергнуть статистической обработке, всегда вызывает у исследователей сложности методологического характера. Чаще всего эта проблема решается следующим образом: в качестве единственного доступного обществу инструмента воздействия на политическую ситуацию рассматривается общественное мнение[111]. Это представление восходит к аналогичным убеждениям, бытовавшим в течение второй половины XIX века. В 1879–1881 годах «общественное мнение» было предметом общего интереса: журналисты писали то о «признаках подавления общественного мнения»[112], то о том, что «общественному мнению дано удовлетворение»[113]. Симптоматичным выглядит и появление в 1881 году первого русского перевода книги Ф. Гольцендорфа «Общественное мнение», автор которой определял свой предмет как «сумму публично выраженных мнений» и настаивал на его «политическом могуществе»[114]. Источником, позволяющим судить об общественном мнении, признается периодическая печать — это представление также унаследовано современной историографией от XIX века. Соответственно, исследователи сосредотачиваются на содержании газет и журналов интересующего их периода, дополняя его информацией, извлекаемой из источников личного происхождения[115]. Проблематичность такого подхода заключается в том, что никакая печать не свободна от разного рода ограничений: цензурных запретов и неофициальных «рекомендаций», стремления к коммерческому успеху и расширению читательской аудитории. Во-вторых, утверждение, что тот или иной публицист писал от имени какой-то части общества, является весьма условным допущением. Наконец, не следует забывать, что журналисты и редакции газет никогда не существовали в вакууме. Им необходимо было реагировать не только на те или иные действия «Народной воли», но и на интерпретацию этих событий, которую предлагали правительство или революционеры. В качестве альтернативы подходу к печати как источнику для изучения общественного мнения можно предложить анализ актов коммуникации, осуществлявшихся в публичном политическом пространстве. В первую очередь речь идет о записках о борьбе с терроризмом, во множестве получаемых представителями власти, в меньшей степени о коллективных адресах и индивидуальных заявлениях верноподданнических чувств. Рассматривать обсуждение проблемы терроризма, которое представители общества вели между собой, значительно сложнее. Здесь на помощь приходят журналы заседаний земств, дворянских корпораций и органов местного самоуправления, а также дневники и переписка, в которых фиксировались «разговоры» в обществе. Ряд сведений дают дознания по делам об оскорблении величества, о выражении «неприличной радости» по поводу покушений, о студенческих волнениях и т. п. Формирование мнения по любому вопросу, но в особенности по проблеме терроризма представляет собой сложный и противоречивый процесс. Личные убеждения — политические, религиозные и даже эстетические — накладываются на интересы различных общественных групп, с которыми идентифицирует себя тот или иной человек. На него пытаются воздействовать правительство, революционеры и борющиеся между собой силы внутри общества. Наконец, важной составляющей частью этого процесса является информация о том или ином действии террористов, причем она неотделима от интерпретации. Все сведения о терроре и их толкования возможно представить в виде информационного поля, с рассмотрения которого и начинается эта книга.ЧАСТЬ I ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ПОЛЯ ПРОБЛЕМЫ ТЕРРОРИЗМА: ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ О ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТАХ И ИХ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
Термин «информационное поле» широко используется в теории информации и журналистике, где оно понимается как «информационное пространство, охватывающее тот или иной объем фактов и событий реального мира и представленное репертуаром тем»[116]. Информационное поле определенной темы (в данном случае проблемы терроризма) складывается из различных по своему характеру и происхождению информационных потоков[117]. Понятие поля позволяет избежать суждения о причинно-следственных отношениях как о жесткой и однонаправленной системе. Оно подразумевает сложное взаимодействие различных сил, множественность возможных событий и всеобъемлющий динамизм целого[118]. Информационное поле, существовавшее в 1879–1881 годах вокруг проблемы терроризма, представляло собой результат взаимодействия, даже «сопряжения», таких разных информационных потоков, как правительственные сообщения и манифесты императоров, проповеди, материалы судебных процессов, тексты официальной, официозной и подцензурной печати, прокламации «Народной воли» и разнообразные нелегальные издания. Особую часть информационного поля создавали спонтанно возникавшие тексты, сплетенные из слухов, сплетен, мистических толков и т. п., существовавшие, как правило, в сфере устной коммуникации. Важно понимать, что информационное поле представляет собой сложное социальное явление, повторяющее контуры того социума, внутри которого складывается. Соответственно здесь описывается информационное поле общества, которое, несомненно, было шире и разнообразнее, чем информационное поле проблемы терроризма «простого народа». Социальный характер информационного поля накладывает ограничения не только на круг людей, потенциально имеющих доступ к информации, распространяющейся в различных информационных потоках. Возможности публичной интерпретации этой информации формально были ограничены цензурой, но гораздо важнее были другие границы, диктовавшиеся логикой самого поля и господствующим «стилем мышления». Информационное поле проблемы терроризма было той сферой, где происходила борьба за общественное мнение: понимая значение информации, каждая из сторон, участвовавших в политическом конфликте, стремилась оказывать на него воздействие. За отдельными информационными потоками стояли правительство и Русская православная церковь; либеральные журналисты и публицисты-«охранители», писавшие от имени всего русского общества или отдельных его групп; народовольцы и, более широко, радикальный лагерь. Возможности их были отнюдь не равны, соответственно и цели несопоставимы. Если правительство стремилось полностью подчинить себе информационное поле, то для «Народной воли» было успехом, если партийные издания оказывались прочитанными. Реконструкция информационного поля проблемы терроризма в 1879–1881 годах может быть осуществлена посредством привлечения разнообразных по своему характеру и происхождению источников. Совокупность текстов внутри каждого информационного потока должна была служить целям определенных политических сил. Ее авторы пытались повлиять на общественное мнение, укоренить в нем только одно видение террора. В связи с этим важным становится вопрос о том, по чьей инициативе и с какой целью создавался тот или иной текст. Версия правительства нашла выражение в таких документах, как манифесты, законодательные акты и распоряжения администрации. Сюда относятся манифесты Александра III от 1 и 14 марта и 29 апреля 1881 года; указы об учреждении и роспуске Верховной распорядительной комиссии, создании Совета при петербургском градоначальнике, а также обращение М.Т. Лорис-Меликова «К жителям столицы». Несмотря на официальный характер этих документов, они содержали в себе не только оценку происходящего, но также указания на причины «крамолы» и способы борьбы с ней. Огромный интерес представляют также официальные издания «Правительственный вестник» и «Русский инвалид». Правительственную политику в отношении информационного поля позволяют проанализировать циркуляры министра внутренних дел, касающиеся тех или иных вопросов печати, материалы Главного управления по делам печати, Санкт-Петербургского цензурного комитета и придворной цензуры, хранящиеся в фондах Российского государственного исторического архива. Участие Русской православной церкви в формировании информационного поля проблемы терроризма раскрывают такие источники, как послание Синода, проповеди, а также статьи в специализированных религиозных журналах. Наибольший интерес представляют проповеди. Они не только позволяют судить о том, какую интерпретацию террористических актов мог услышать почти каждый прихожанин на всем пространстве Российской империи, но и помогают разобраться, каким образом религиозные истолкования происходящего попадали на страницы светских изданий, встраиваясь в описания и оценки террора. Проповеди публиковались в местных «Епархиальных ведомостях», журналах «Церковный вестник», «Церковно-общественный вестник», «Православный собеседник», «Православное обозрение» и др. Самый значительный по объему информационный поток состоял из материалов периодической печати. Материалы, содержавшиеся в газетах, были очень неоднородны. Анализ ситуации, выявление причин террористических актов, поиск возможных путей решения существующих проблем, образы террористов и их жертвы — все это содержалось в передовых статьях и в фельетонах. Также газеты перепечатывали заметки заграничных изданий, порой включавшие важную информацию, а порой откровенные вымыслы. Во всех изданиях были такие разделы, как «Хроника», «Дневник» и т. д., состоявшие из коротких заметок о происшествиях и зачастую содержавшие сведения, имевшие отношение к деятельности «Народной воли». Важнейшей частью информационного поля, дававшей возможность представителям общества услышать голос не только правительства, но и самих террористов, были материалы судебных процессов, публиковавшиеся в «Правительственном вестнике», а затем появлявшиеся на страницах других газет. Особый интерес представляют материалы первого большого процесса «Народной воли», проходившего в Петербурге с 25 по 30 октября 1880 года и получившего по числу подсудимых название «Процесса Шестнадцати» и, разумеется, «Процесса первомартовцев». Именно благодаря им широкая публика смогла ознакомиться с фактической стороной дела (прежде всего по обвинительным актам), а также прочитать, как сами террористы объясняют свои действия. На процессе по делу 1 марта обратила на себя внимание речь прокурора Н.В. Муравьева, в которой также была представлена вполне определенная интерпретация покушений. Наконец, участие самих народовольцев и — шире — радикалов в формировании информационного поля можно выявить при анализе комплекса нелегальной литературы этого периода, печатавшейся как в России, так и за границей. Несмотря на ограниченные тиражи нелегальной литературы, а также строгие наказания за ее хранение и распространение, воспоминания современников и материалы III отделения и Департамента государственной полиции указывают на широкое знакомство русского общества с такого рода изданиями. Среди нелегальной литературы меня, в первую очередь, интересуют издания самой «Народной воли»: журнал, листок, а также прокламации, печатавшиеся после покушений. Кроме того, проанализированы издававшийся в России журнал «Черный передел», эмигрантские журналы «Общее дело», «Набат», брошюры П.Ф. Алисова, М.П. Драгоманова, Г.Г. Романенко, Н.А. Морозова, И. Добровольского. Особой областью информационного поля были слухи, активно циркулировавшие в течение 1879–1881 годов. Реконструкция этой части информационного поля представляется довольно сложной задачей в связи с особенностью источников. Слухи в обществе чрезвычайно волновали III отделение и Департамент полиции. В фондах этих структур в Государственном архиве Российской Федерации имеются дела, в которых зафиксированы распространявшиеся в населении слухи. Кроме того, информацию о них можно извлечь из дел «о распространении ложных слухов» и даже о «государственных преступлениях». Пеструю картину слухов позволяет дополнить анализ разделов «Хроника», «Дневник» и т. п. в газетах, которые в это время, за отсутствием достоверной информации, не брезговали городскими толками, лишь иногда указывая, что печатаемые ими сведения относятся к разряду «сплетен». Наконец, слухи зафиксированы в дневниках и переписке современников, а самые яркие из них — в мемуарах. Реконструировать эту часть информационного поля полностью не представляется возможным. Тем не менее привлечение широкого круга источников позволяет выявить и проанализировать основные типы слухов, бытовавших в 1879–1881 годах.ГЛАВА I ИМПЕРСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО: БОРЬБА ЗА КОНТРОЛЬ
«Охота на царя», начатая народовольцами осенью 1879 года, поставила имперское правительство в сложное положение. Не последнее место среди проблем, порожденных чередой покушений, занимала выработка официальной версии событий. Пожалуй, власти не собирались всерьез тягаться в борьбе за умы с легальной журналистикой и тем более с подпольной пропагандой. Тем не менее необходимость контролировать информационное поле осознавалась очень отчетливо. Решение этой задачи включало несколько аспектов: а) информирование населения о террористических актах, арестах, судебных процессах; б) контроль над освещением покушений и обсуждением проблемы революционного террора в легальных изданиях; в) создание и распространение правительственной интерпретации происходящего; в идеале — обеспечение ее господства в информационном поле; г) пресечение хождения подпольной литературы. Поскольку борьба с нелегальной литературой входила в компетенцию политической полиции, а на высказывавшиеся в ней идеи представители власти публично никак не реагировали, остановлюсь лишь на первых трех перечисленных направлениях.1. Политика правительства в области информирования населения о террористических актах
При обычном течении дел известия обо всех важных событиях, происходивших в стране, впервые появлялись на страницах «Правительственного вестника», который, в отличие от всех других газет, славился тем, что опровержений не давал. Если сообщение было срочным, его печатали на отдельных листах в виде особых приложений к официальному изданию или телеграмм. Каждый из трех террористических актов «Народной воли» привел к нарушению заведенного порядка. Правительство было не готово к покушениям на монарха, и всякий раз оно испытывало затруднения с тем, как информировать население об очередном террористическом акте. Взрыв на Московско-Курской железной дороге прогремел в 22 часа 25 минут 19 ноября 1879 года. Рассказы о нем распространялись в течение ночи с 19 на 20 ноября не только в Кремле, где остановился император со свитой, но и в Москве, так что к 12 часам дня — времени выхода императора и совершения благодарственного молебствия — население города уже знало новость. Официальное сообщение правительства, хотя и было датировано 20 ноября, появилось в газетах только 21-го числа[119]. Более того, информация о взрыве в «Правительственном вестнике» появилась также 21 ноября — со ссылкой на московского генерал-губернатора как источник публикуемых сведений. Эту задержку можно было бы объяснить тем, что покушение произошло вдали от столицы, где располагалась редакция официального издания. Более вероятно, однако, что причина заключалась в растерянности, царившей в тот момент среди высшей администрации. В два часа ночи, получив первые известия о взрыве, шеф корпуса жандармов А.Р. Дрентельн писал управляющему III отделением Н.К. Шмидту: Когда подумаешь, что это несчастье могло случиться с императорским поездом! Я даже не понимаю, почему оно не случилось [курсив мой. — Ю.С.], так как поезд этот прошел прежде. Вы представляете себе состояние моего духа[120]. Епифанский уездный предводитель дворянства князь Д.Д. Оболенский, ехавший во взорванном поезде и первым привезший в Москву сообщение, что взрыв не был просто несчастным случаем, наткнулся на весьма своеобразную реакцию царского окружения. Министр двора граф А.В. Адлерберг советовал ему выспаться («Когда выспитесь, Вам все иначе покажется»), шеф жандармов восклицал: «Не может быть: у меня нет депеши!», а московский генерал-губернатор В.А. Долгоруков, схватив Оболенского за пуговицу мундира, «долго тормошил ее, приговаривая: “Никогда, никогда!”»[121] Еще более сложная ситуация сложилась в связи со взрывом в Зимнем дворце. Замолчать происшествие не представлялось возможным. Сила взрыва была такова, что «тряхнуло» набережную Мойки и Малую Итальянскую улицу[122], а жители Васильевского острова сбежались к Неве, предполагая какое-нибудь несчастье с Дворцовым мостом[123]. Случайные прохожие, оказавшиеся вблизи дворца, слышали, как «грохнуло», «да так страшно, в один раз, совсем без раскату, точно огромное дерево хряснуло»[124], и видели бегущую полицию, придворных с фонарями, пожарных с факелами, жандармов и казаков, которые выносили раненых и тела убитых солдат. Правительственное сообщение на следующий день, 6 февраля, говорило о взрыве, гибели 8 и ранении 45 нижних чинов л. — гв. Финляндского полка, но оставило причины произошедшего без объяснений. Генерал Н.П. Литвинов 15 февраля 1880 года записал в дневнике, что у него не было повода сомневаться в газетных сообщениях, потому он «с видом знатока» говорил всем 6 февраля, что произошел взрыв газа, пока генерал-адъютант Салтыков не сообщил о молебствии по поводу очередного чудесного спасения государя[125]. Хозяйка великосветского салона Александра Богданович, несмотря на сменявших друг друга посетителей, безусловно знавших о происшествии во дворце из первых рук, и два дня спустя «с трудом верила» правдивости известия о покушении, поскольку не было правительственных оповещений[126]. О том, что случившееся было именно покушением на жизнь императора, население было официально оповещено 7 февраля изданием Военного министерства «Русский инвалид», в котором был опубликован приказ по войскам гвардии и Петербургского военного округа № 11, подписанный временным петербургским генерал-губернатором И.В. Гурко[127]. В Москве о том, что взрыв был террористическим актом, стало известно 6 февраля вечером благодаря телеграммам, полученным из Берлина и Парижа до появления приказа И.В. Гурко[128]. В освещении официальными изданиями события 5 февраля можно обнаружить отчетливое стремление отвлечь внимание читателей от покушения на монарха в его резиденции. Для этого были использованы трагедия и подвиг солдат л. — гв. Финляндского полка. Исполнение поставленной задачи было возложено на официальное издание Военного министерства. «Правительственный вестник», не говоря уже о прочих газетах, ограничивался перепечаткой материалов ведомственной газеты. В сообщениях о событиях 5 февраля особенно подчеркивалось героическое поведение солдат, бывших в этот вечер в карауле. Несколько дней содержание «Внутренних известий» «Русского инвалида» составляли рассказы о храбрости и преданности солдат: после взрыва уцелевшие финляндцы «выползли из хаоса разрушения и построились на платформе, готовые в сопровождении офицеров следовать к покоям Его Величества»[129]. Стоявшие на постах часовые, несмотря на приказания нескольких генералов и вел. кн. Владимира Александровича, отказывались сдавать пост без разводящего, простояв на двадцатиградусном морозе шесть часов, пока начальник внутреннего караула поручик Сивицкий лично не сменил все посты[130]. Поведение финляндцев было использовано как доказательство верности войск «долгу и присяге», свидетельство того, что попытки «безумных злоумышленников» сблизиться с войсками, равно как угрозы жизни солдат и офицеров, бессмысленны. Не забыты были в приказе № 13 по войскам гвардии и Петербургского военного округа и «тайные враги», не останавливающиеся перед выбором средств для достижения своих «преступных целей»[131]. Покушение в Зимнем дворце стало первым террористическим актом, сопровождавшимся случайными жертвами. Этот факт, как ничто другое, был способен поколебать симпатии к революционерам даже самых преданных их поклонников, в том числе потому, что убиты были «простые солдатики», вышедшие из того самого народа, борьбу за счастье которого народовольцы объявили своей целью[132]. Правительство было намерено максимально использовать гибель 11 нижних чинов, чтобы склонить общественное мнение на свою сторону. 6 февраля на Высочайшем выходе Александр II поблагодарил финляндцев за исполнение долга и обещал позаботиться о жертвах взрыва. Четырех офицеров полка, бывших 5 февраля в карауле, Александр II «осчастливил поданием руки и поцелуем»[133]. На следующий день царь присутствовал при панихиде по убитым и при возглашении «вечной памяти» преклонил колени; затем он навестил раненых. Похороны финляндцев были обставлены с особой торжественностью, гробы простых солдат несли генерал-адъютанты, офицеры полка и гвардейского корпуса. Шеф полка вел. кн. Константин Николаевич лично присутствовал при отпевании и погребении. На пути похоронной процессии шпалерами были выстроены полуроты от всех частей гвардии и Петербургского гарнизона[134]. Описание трагедии Финляндского полка заслонило в статьях ведомственной газеты покушение на императора, центр тяжести был смещен намеренно. Начавшаяся вскоре подготовка к празднованию двадцатипятилетия царствования Александра II, а затем и сам праздник вытеснили со страниц официальной печати покушение в Зимнем дворце. В то время как прочие газеты продолжали обсуждать его и после 19 февраля, «Правительственный вестник» и «Русский инвалид» хранили молчание. Больше всего затруднений вызвало сообщение о событии 1 марта 1881 года. Первая телеграмма, напечатанная еще до смерти Александра II, извещала, что государь опасно ранен «посредством подброшенных под экипаж разрывных бомб» (т. е. информация о двух взрывах, из которых второй, смертельный, был произведен, когда царь находился вне кареты, еще не распространялась) и что состояние его «безнадежно»[135]. Сообщение о кончине императора состояло из трех предложений, в которых называлось точное время смерти и указывалось на исполнение им долга христианина — приобщение Св. Тайн[136]. Начиналось оно фразой «Воля Всевышнего совершилась», которую некоторые читатели сочли «странной» и «неуместной». Сотрудник газеты «Голос», публицист-либерал Г.К. Градовский в воспоминаниях писал: «Выходило, будто преступники были исполнителями Божьего веления […]. Хотели выразиться высокопарно, но официального витийства хватило на несколько строк, скудных и нескладных»[137]. Радикалы острили: «“Народная воля” — воля божья»[138]. В «Правительственном вестнике» появлялись сведения не только о террористических актах, но также об арестах, судебных процессах и смертных казнях. Правительство имело исключительное право на публикацию подобных известий[139]. Сообщения эти были намеренно краткими: власть неохотно делилась с обществом информацией. Например, извещала лишь о таких крупных арестах, как взятие народовольческой типографии в Саперном переулке в ночь с 17 на 18 января 1880 года, сопровождавшееся перестрелкой революционеров с полицией[140]. Прервать многозначительное молчание власть была вынуждена лишь в связи со скандальным «инцидентом Гартмана». По случайному совпадению, накануне взрыва в Зимнем дворце в Париже по требованию русского правительства был задержан Лев Гартман, участник ноябрьского покушения под Москвой, известный всей России как «мещанин Сухоруков», на чье имя был приобретен дом, из которого велся подкоп под полотно железной дороги. Лишь только немного улеглись страсти по поводу взрыва 5 февраля, русские газеты стали перепечатывать все, что можно было найти во французской печати и что могло пройти русскую цензуру, поскольку во Франции была поднята волна протеста против выдачи Гартмана «русскому деспотизму»[141]. Русское правительство какое-то время предпочитало пользоваться своим заграничным официозным «Journal de St.-Petersbourg», в котором упорноопровергались известия, будто депутаты французского парламента ходатайствуют об освобождении Гартмана[142]. Вполне понятно желание властей избегать официальных заявлений до тех пор, пока дело не будет решено. Воспользовавшись тем, что Л.Н. Гартман выдавал себя за уроженца Берлина Мейера, французское правительство отказало в его выдаче в конце февраля 1880 года[143]. Газетные страсти в России не утихали весь март[144], вынудив наконец правительство опубликовать в «Правительственном вестнике» двухстраничный отчет «По поводу происходивших с французским правительством переговоров о выдаче архангельского мещанина Льва Гартмана». О причинах появления этого текста было откровенно сказано в самом начале: виной были разнообразные слухи и газетные известия, «нередко излагающие обстоятельства этого дела в неточном или даже превратном виде». В правительственном сообщении были кратко изложены обстоятельства взрыва 19 ноября, причем особо указывалось, что это «не политическое, а общее дело», направленное против общественного благоустройства и благочиния и против жизни частных людей. Как и в эпизоде с С.Г. Нечаевым, правительство пыталось добиться выдачи Л.Н. Гартмана как обычного преступника. Были перечислены все документы, позволяющие установить личность задержанного в Париже человека. Все они были предоставлены французскому правительству, что опровергало доводы о невозможности признать арестованного за участника взрыва 19 ноября. Наконец, причиной отказа о выдаче преступника довольно откровенно была названа «усиленная агитация», политические сходы рабочих и учащейся молодежи, коллективные петиции и «страстная полемика» в печати[145]. Оценочных суждений о действиях французского правительства сообщение не содержало. Показательно, что официальное заявление появилось только 23 марта 1880 года, т. е. месяц спустя после отказа в выдаче и высылки Гартмана из Парижа в Лондон. Вероятно, если бы не бурная публичная полемика, власти предпочли бы вообще не высказываться по этому поводу. Кардинальные перемены в политике информирования населения произошли после 1 марта 1881 года, когда сообщения о ходе расследования стали появляться почти каждый день, а сведения об арестованных были более подробными, чем обычно. В этом случае об интересах следствия, которые, казалось бы, побуждали скрывать информацию, речь не шла. Необходимо было убедить население, что власть полностью контролирует ситуацию и ни один из преступников не избежит наказания. 4 марта министр внутренних дел объявил «во всеобщее известие» об аресте 27 февраля А.И. Желябова и его «руководящем участии в преступлении»[146]. Равным образом в кратком сообщении о поимке С.Л. Перовской подчеркивалось, что она «руководила, после ареста Желябова, заговором»[147]. Распространение этих сведений было очень важно для правительства, поскольку существовало общее мнение, что полиции удается обезвреживать только «исполнителей», в то время как подлинные организаторы покушений всегда выходят сухими из воды.2. Цензура и освещение террора В ЛЕГАЛЬНОЙ ПЕЧАТИ
Желание обеспечить правительству полный контроль над информацией о революционном движении в целом и террористических актах в особенности привело к ужесточению цензуры[148]. В соответствии с законом от 16 июня 1873 года министр внутренних дел имел право изымать из обсуждения в печати вопросы, признанные правительством «неудобными»[149]. В течение 1879–1881 годов появилось 7 циркуляров, запрещавших обсуждать вопросы, прямо или косвенно связанные с проблемой терроризма. Хотя законом от 30 января 1870 года возбранялось обнародовать факты, обнаруженные дознанием или предварительным следствием, до судебного заседания или прекращения дела (независимо от характера преступления)[150], в газетах все же появлялись сведения об арестах революционеров. 18 января 1880 года Главное управление по делам печати запретило периодическим изданиям печатать сообщения об арестах по политическим делам, ссылаясь на «настоящие обстоятельства»[151]. После цареубийства это распоряжение было подтверждено 6 марта 1881 года. Необходимость нового циркуляра объяснялась в нем самом: несмотря на существующий закон, в печати появлялись известия об арестах «с такими подробностями и разъяснениями, которые оказывают весьма вредное влияние на производство дознаний»[152]. Хотя запрет на оглашение арестов имел в виду интересы следствия, он значительно ограничивал информацию о том, кто такие террористы, поступавшую в распоряжение общества. Отсутствие сведений о деятельности полиции при господствовавшем убеждении в ее «бессилии» и «никчемности»[153] подрывало авторитет власти, успехи которой в деле борьбы с революционерами зачастую не оглашались. С 18 января 1879 года газетам было запрещено печатание самостоятельных стенографических отчетов по политическим процессам. Газеты должны были ограничиваться перепечаткой стенограмм из официальных изданий: «Правительственного вестника», если судебный процесс проходил в столице, или местных губернских ведомостей[154]. Этой мерой правительство обеспечивало себе контроль над тем, чтобы в печать не попали «резкие» и «неудобные» высказывания обвиняемых, начавших использовать скамью подсудимых как трибуну, а также цитаты из нелегальной литературы, которую прокуратура привлекала для доказательства вины подсудимых. В октябре 1879 года печатание полных отчетов было признано «неудобным». Их заменила публикация обвинительного акта и приговора, а судебное расследование, речи прокурора и защитников стали появляться в «самом сжатом виде»[155]. Тогда же по предложению министра юстиции Д.Н. Набокова периодическим изданиям было предписано перепечатывать материалы «Правительственного вестника» из номера в номер в том же объеме, что и в официальном издании. Цель этого предписания — устранить практику, при которой публикация судебных отчетов растягивалась на много номеров, что, по мнению министра, «искусственно» поддерживало внимание публики к подобным делам[156]. Несмотря на запреты, журналисты находили лазейки для того, чтобы обойти закон. Например, под видом описания внешней обстановки процесса (интерьеров, публики, состава суда) им удавалось помещать сведения о его ходе до появления официального отчета[157]. Для того чтобы исключить подобное в связи с процессом по делу «перво-мартовцев», 24 марта 1881 года Главное управление по делам печати «напомнило» в циркуляре: запреты остаются в силе и при освещении данного процесса[158]. Таким образом, публикация сведений об арестах и судебных процессах была ограничена законами, принятыми в течение 1870-х годов. Появление в связи с покушениями «Народной воли» циркуляров, напоминавших редакциям о существующих ограничениях, свидетельствует, с одной стороны, о нарушении журналистами этих предписаний, а с другой — о том, в какой мере правительство осознавало необходимость полностью подчинить себе распространение информации о терроре. Ограничения вводились не столько в интересах следствия, сколько для того, чтобы не дать возможность народовольцам использовать скамью подсудимых для пропаганды своих идей. Особенно цензура была ужесточена после цареубийства. Начальник Главного управления по делам печати Н.С. Абаза 24 марта 1881 года настаивал на «особо строгом» исполнении цензорами их обязанностей: «Многие даже из тех недосмотров и цензурных промахов, которые до 1 марта были оставляемы без последствий, при существующих условиях и настроении общества могут привести к серьезной ответственности»[159]. Цензорам было предписано докладывать министру внутренних дел обо всех статьях, «могущих произвести более или менее сильные впечатления на читателей»[160]. Взрыв на Московско-Курской железной дороге привел к установлению особого режима публикаций об этом происшествии на страницах печати. Московский генерал-губернатор В.А. Долгоруков потребовал, чтобы петербургские газеты не помещали самостоятельных корреспонденций, ограничиваясь лишь перепечаткой сообщений московских газет[161]. Циркуляр об этом был разослан в петербургские газеты 25 ноября[162]. Ни взрыв 5 февраля 1880 года, ни цареубийство 1 марта 1881 года подобных ограничений для московских газет не вызвали. Следует уточнить, что московский генерал-губернатор стремился получить личный контроль над распространением во второй столице известий, «имеющих какое-либо государственное значение и вообще выходящих из ряда обыкновенных происшествий»[163]. В качестве обоснования таких претензий он выдвигал заботу об охранении общественного спокойствия. Поводом, вызвавшим обширную переписку о компетенции генерал-губернатора в вопросах печати, стал не очередной террористический акт, а смерть императрицы Марии Александровны 22 мая 1880 года, о чем московские газеты сообщили раньше, чем из правительственной телеграммы узнал о ней сам В.А. Долгоруков. Несмотря на поддержку, оказанную В.А. Долгорукову М.Т. Лорис-Меликовым, Главное управление по делам печати претензии эти отвергло, справедливо указывая как на уже имеющиеся в распоряжении генерал-губернаторов средства контроля над печатью, так и на возможные «справедливые нарекания со стороны печати и общества на правительство» в случае выполнения этого требования[164]. В этой истории интересна не только позиция Главного управления по делам печати, ссылавшегося для обоснования своей позиции на мнение общества, но и выбранный генерал-губернатором момент. Очевидно, несмотря на затишье, наступившее после 19 февраля, и московские власти, и М.Т. Лорис-Меликов всерьез опасались каких-то событий государственной важности, которые могут вызвать принятие предварительных охранительных мер. Цензурные запреты касались не только вопросов, прямо относившихся к покушениям на императора, но и тех, при обсуждении которых последние становились важным аргументом в поддержку того или иного мнения. Речь идет о реформировании системы образования и введении представительной формы правления. Первый вопрос было запрещено обсуждать циркуляром от 6 февраля 1880 года[165] по личному требованию министра народного просвещения Д.А. Толстого[166]. Очередной циркуляр о запрещении дискутировать на тему преобразования государственного строя (в течение 1870-х годов этот запрет подтверждался неоднократно) был вызван статьями газет «Голос» и «Страна» от 4 марта 1881 года. М.Т. Лорис-Меликов не только вынес этим газетам предупреждения, но и запретил всем остальным помещать статьи, «в которых выражаются вполне неуместные суждения о необходимости изменения нашего государственного строя, а также высказываются сомнения в недостатке истинного патриотизма в высших слоях общества, будто бы равнодушного к интересам народа»[167]. Причина запрета была названа в циркуляре: «…дабы не усиливать смуты, порожденной в обществе страшным постигшим Россию событием»[168]. Цензуре подвергались также сочинения о покушениях на императора, за разрешением на публикацию которых частные лица обращались в Министерство императорского двора[169]. Охотно давая дозволение на публикацию стихотворений о верноподданнических чувствах, написанных по поводу того или иного покушения, если, конечно, они «по изложению соответствовали предмету»[170], как общая, так и придворная цензура с сомнением относились к сочинениям о происходящем, написанным в любых других жанрах. С 1877 года существовал запрет на изображение в публицистических и беллетристических сочинениях народных волнений, сцен из революционных событий, а также «жизни и действий нигилистической партии», вновь подтвержденный в мае 1881 года[171]. В преддверии юбилея царствования Александра II попытка вставить в «Краткий очерк царствования» описание четырех покушений вызвала «недоумение» в Санкт-Петербургском цензурном комитете, а Министерство императорского двора потребовало эту часть текста «исключить»[172]. Другое такое сочинение вообще не было разрешено, так как в число «достопамятных событий» составители включили студенческие волнения и арест подпольной типографии «Народной воли» в Саперном переулке[173]. Той же логикой руководствовались чиновники Министерства двора, рассматривая сочинение коллежского советника Подчерткова, пожелавшего после 1 марта 1881 года опубликовать брошюру с рассказом обо всех покушениях на императора. Сочинение это, хотя и написанное «с самым верноподданнейшим чувством», было сочтено ими «неуместным»[174]. Очевидно, власти опасались, что изложение на нескольких страницах истории семи покушений на монарха может вызвать иную реакцию, нежели та, на какую рассчитывал сочинитель. Столь же последовательно канцелярия МИДв (Министерства Императорского двора) запрещала печатать изображения террористических актов. На несколько запросов издателя «Всемирной иллюстрации» о дозволении опубликовать изображение покушения в Зимнем дворце последовала резолюция А.В. Адлерберга: «О взрывах не разрешаю»[175]. Стоит уточнить, что запрещению подвергались те рисунки, на которых присутствовал император, а также сцены насилия. В иллюстрированных изданиях за 1879–1880 годы можно найти изображение «проклятого домишки Сухоруковых» (Всемирная иллюстрация. 1879. Т. 22. № 24), но никак не присланный в канцелярию МИДв редактором этого журнала рисунок «Караульная комната после взрыва в Зимнем Дворце 5 сего февраля», на котором были изображены разрушенное помещение и десятки тяжелораненых и убитых солдат[176]. Аналогичную позицию министерство заняло после цареубийства. В течение марта — апреля 1881 года были отклонены прошения литографа Яковлева (рисунок «Злодейское покушение на жизнь императора Александра II 1 марта 1881 года»); литографа Понамарева («Убийство Царя-Освободителя 1 марта 1881 года»); издателя «Иллюстрированного вестника» Баумана («Злодейское покушение на жизнь Государя Императора Александра Николаевича 1 марта текущего года: взрыв первой бомбы», «Взрыв второй бомбы», «Обнаружение мины на Малой Садовой улице») — всего 15 изображений[177]. Было запрещено также публично демонстрировать в московской панораме привезенную из-за границы картину «Покушение на жизнь в Бозе почившего Государя Императора Александра Николаевича 1 марта сего года»[178]. Запрет не был соблюден так строго, как это делалось ранее: в трех иллюстрированных журналах («Всемирная иллюстрация», «Свет в картинках», «Осколки») появилось три рисунка, на которых изображено все то, что так упорно запрещал А.В. Адлерберг: истекающий кровью император, лежащие на земле случайные жертвы взрыва, клубы дыма[179]. Они составляют разительный контраст десяткам нейтральных изображений убранного венками «места катастрофы», саперных работ на Малой Садовой или разбитой царской кареты. Используя общую и придворную цензуру в качестве инструмента контроля, правительство пыталось или ограничить поступление информации о деятельности террористов, или обеспечить освещение происходящего в нужном для себя свете. Цензурные запреты тем не менее не давали нужного эффекта. Необходимость вновь и вновь «напоминать» редакторам ранее введенные ограничения служит наглядным тому доказательством. Журналисты находили лазейки в законодательстве, чтобы высказать суждения о вопросах, которые официально было запрещено обсуждать. Кроме того, нежелание власти предоставлять полную информацию о происходящем создавало благоприятную обстановку для распространения всевозможных слухов, которые подчас были куда опаснее, чем обнародование сведений, собранных в ходе следствия по политическим делам. Ограничение информации о террористах, их идеях и методах приводило и к другому эффекту. Нелегальная литература вызывала интерес не только оппозиционеров, но и «благомыслящих» людей, которые хотели разобраться, во имя чего действуют революционеры. Несмотря на «драконовские» методы борьбы с распространением подпольных изданий, ознакомиться с ней при желании было довольно легко.3. Официальная интерпретация народовольческого террора
Неудавшиеся покушения на монарха привели к складыванию особого ритуала, имевшего почти исключительно религиозный характер. 20 ноября 1879 года Александр II отправился на торжественное молебствие в Успенском соборе Кремля, где благодарил Бога за чудесное спасение[180].22 ноября, в день возвращения монарха в столицу, Невский проспект был украшен флагами. Многотысячная толпа приветствовала государя, который прямо с поезда отправился в Казанский собор на благодарственный молебен[181]. 6 февраля 1880 года Петербург также был украшен флагами. Флаги и иллюминация в неурочные дни в эти годы стали ассоциироваться именно с покушениями. 15 января 1881 года А.В. Богданович записала в дневнике по поводу торжества в честь взятия русскими войсками Геок-Тепе наивный вопрос дворника: «Неужто опять промахнулись?»[182] Благодарственные молебствия после каждого покушения стали обязательными не только для «чудесно спасенного» императора, но и для всех подданных независимо от конфессии. В школах и гимназиях отменялись уроки, в университетах — лекции. Вот как прошел день 24 ноября 1879 года у духовщинских школьников: утром они выслушали (девочки в прогимназии, мальчики в училище) известие о покушении на государя, после чего отправились в собор на благодарственный молебен. Попечитель педагогического совета местной прогимназии писал в округ: «Нужно было видеть трогательную картину детей, на деньги, принесенные ими на завтрак, покупающих свечи, которых было продано более 200 одним учащимся, и толпами окруживших образ Св. Александра Невского […], нужно было слышать детей, когда они, возвратясь в свои учебные заведения, много раз по собственной инициативе пропели народный гимн «Боже, Царя храни», чтобы почувствовать, насколько беспредельна врожденная народу русскому унаследованная от своих предков преданность престолу и насколько сильна любовь […] к богохранимому ныне царствующему Государю Императору»[183]. В высших учебных заведениях программа была такой же: литургия, проповедь, народный гимн, сопровождавшийся громким «Ура!»[184]. Этот привычный сценарий празднований «счастливыхизбавле-ний» сыграл злую шутку с воспитанниками Гатчинского Николаевского сиротского института 1 марта 1881 года. При первых смутных известиях о покушении они стали кричать «ура», приветствуя очередное проявление Промысла Божьего, поскольку решили, что террористы опять потерпели неудачу. Директор института генерал-майор Н.К. Шильдер вынужден был впоследствии написать не один рапорт, доказывая, что никаких беспорядков в институте в день цареубийства не было[185]. Переполненные после покушений храмы должны были служить наглядным свидетельством неизменной преданности населения престолу. Демонстрация лояльности представителями образованного общества была особенно желательна, почему после взрыва в Зимнем дворце митрополит Петербургский Исидор (Никольский) сделал выговор петербургскому уездному предводителю дворянства Н.К. Зей-форду, что дворяне «мало показывают себя» на молебнах, являясь в церкви не в мундирах, а в партикулярных платьях[186]. Игнорирование молебна могло вызывать подозрение в «неблагонадежности», а «неприличное поведение» — производство дознания, подобно начатому по поводу двух учителей сельских школ Масенковского уезда Владимирской губернии, которые во время молебна смеялись и не вставали на колени[187]. Такое же дознание было начато в отношении Ивана и Сергея Антоновых, кишиневского купца и его младшего брата-гимназиста, которые смеялись над проповедями, произнесенными архиереем после 19 ноября 1879 года. Из дальнейшего дознания выясняется, что Иван Антонов на вопрос о том, что именно говорилось в соборе во время молебна, отозвался: «Архиерей говорил разную чепуху»[188]. Характер церемоний, складывавшихся вокруг покушений, сам по себе указывает на избранный правительством способ интерпретации происходящего как чудесного явления Божьего Промысла. Увековечивать память о чудесах, как это было после выстрела Каракозова, власти, однако, не спешили. Еще постройка часовни возле Летнего сада вызвала ожесточенные споры о том, что именно она напоминает, чудесное вмешательство Провидения или то, что подданный осмелился поднять руку на монарха. Ни скупой информации о террористических актах, ни запретов на обсуждение в печати определенных вопросов, ни религиозных церемоний не было достаточно для того, чтобы привлечь общественное мнение на сторону правительства. Необходимо было не только освещать покушения, но и давать им объяснение. Официальные издания в силу своей специфики были мало приспособлены для этого. Тем не менее и они использовались для того, чтобы распространять нужную правительству версию происходящего. На их страницах в разных формах высказывались мнения, принадлежавшие самому государю и высшим сановникам, т. е. официальная позиция властей. Кроме того, редакция давала и собственную интерпретацию событий. Император должен был каким-то образом реагировать на террористические акты. Любое его слово имело первостепенную важность. Свое отношение к покушениям государь мог выразить устно: тогда его речь появлялась на страницах «Правительственного вестника» в сжатом и отредактированном виде. 20 ноября 1879 года Александр II на выходе в Кремле высказал свое мнение о произошедшем накануне покушении, особенно настаивая на «верном» воспитании молодого поколения[189]. Вероятно, ничего нового к этому заявлению государь добавить не мог и в дальнейшем лишь ссылался на свою московскую речь[190]. Взрыв в Зимнем дворце также заставил монарха охарактеризовать ситуацию, о чем сообщила читателям газета «Русский инвалид»[191]. «Мнение» императора официальные газеты передавали и тогда, когда сообщали о «собственноручных начертаниях» на верноподданнических адресах и в особенности когда публиковали манифесты[192]. После 1 марта 1881 года было особенно важно, чтобы новый император обратился к стране. За два месяца появилось три манифеста: 1 марта (по поводу вступления на престол), 14 марта (назначение регента на случай внезапной смерти Александра III до совершеннолетия наследника) и 29 апреля (о «незыблемости самодержавия»). Манифесты 1 марта и 29 апреля, имевшие декларативный характер, демонстрируют избранную стратегию официального объяснения цареубийства. В манифесте от 1 марта император указывал на провиденциальный характер произошедшего: не революционная партия совершила преступление на Екатерининском канале, но Бог «поразил Россию роковым ударом», потому остается лишь «смириться» перед «таинственными велениями Божьего Промысла». В манифесте были охарактеризованы мотивы террористов: в покойном императоре «преступники» видели «оплот и залог величия России и благоденствия Русского народа». В такой интерпретации убийство императора — это удар не по правителю, а прежде всего по стране и ее населению[193]. Манифест от 29 апреля был выдержан в той же риторике. В нем можно выявить выработанную за два месяца официальную точку зрения по ключевым вопросам совершившегося цареубийства. Смерть Александра II была названа «мученической кончиной», финалом исполнения обета царствовать на благо народа. Император «кровию запечатлел великое Свое служение». Террористы названы «недостойными извергами из народа». Характеризуя их деяние как «страшное, позорное, неслыханное в России», манифест от 29 апреля, в отличие от предыдущего, оставлял их действия без объяснений. Событие 1 марта было представлено только как неисповедимая воля Провидения. Важно отметить, что в манифесте описывалась «всенародная» реакция на цареубийство словами «скорбь и ужас» (эта формула с вариациями повторяется трижды). Единение народа называлось залогом будущей победы над «крамолой»[194]. Обращения Александра II и Александра III обязательно содержали не только оценки происходящего, но и призыв к населению помочь правительству в борьбе с революционной угрозой. 20 ноября 1879 года в Москве Александр II просил «благомыслящих отцов семейств» повлиять на молодежь, наставить ее «на путь истины и сделать из нее полезных России деятелей»[195]. На торжественном выходе в Зимнем дворце 6 февраля он «сказал несколько слов, которые не мог кончить без слез, сказал, что надеется, что народ ему поможет сокрушить крамолу, что Господь его спас еще раз, что надеется на всех»[196]. В манифесте 29 апреля 1881 года подданные призывались к «утверждению Веры и Нравственности, к доброму воспитанию детей, к истреблению неправды и хищения, к водворению порядка и правды в действии учреждений»[197]. В этих обращениях видно, какие именно проблемы правительство было готово признать: на первом месте стояли вопросы религии, нравственности, семейного воспитания, а административные неурядицы — на втором. Хотя «слова» императоров содержали обращение к подданным за помощью, однако необходимый правительству ответ должен был выразиться отнюдь не в политическом действии. Александр III в манифесте 1 марта призывал «соединить молитвы с Нашими мольбами пред Алтарем Всевышнего». Александр II закончил свою речь в Москве формулой «Да поможет нам в этом Бог!». Провиденциальное истолкование покушений императорами предполагало подобающий ответ общества: покаяние и верноподданническое служение самодержавному государю. Официальная интерпретация террористической борьбы содержалась также в текстах законодательных актов. В указе от 12 февраля 1880 года, учреждавшем Верховную распорядительную комиссию, подчеркивалось, что цель этой меры — «положить предел беспрерывно повторяющимся в последнее время покушениям дерзких злоумышленников»[198]. Следует обратить внимание на полное название вновь создаваемого учреждения: «Верховная распорядительная комиссия по охранению государственного порядка и общественного спокойствия», — из которого следовало, что террористы угрожают не только государству, но и обществу. Тем не менее указ регулировал взаимоотношения Главного Начальника (это официальное название учреждавшейся должности) с губернаторами, градоначальниками, «всеми ведомствами» и самим императором. Ни о какой общественной инициативе речи не шло. Указ был опубликован одновременно с нашумевшим обращением М.Т. Лорис-Меликова «К жителям столицы», которое является самым откровенным (до 1 марта 1881 года) правительственным признанием «настоящего тягостного положения» и «потрясенного порядка». Террористические акты оценивались в нем как «преступные действия, позорящие наше общество», их цель — «потрясение общественного строя государства». Главный Начальник выражал уверенность, что общество состоит из «честных людей, преданных Государю и искренно любящих свою Родину», которые «негодуют» из-за совершающихся преступлений. Обращение «К жителям столицы» уникально тем, что в нем, в отличие от всех других официальных заявлений, было признано существование у общества собственных интересов. Представители его должны были помочь правительству не потому, что таков незыблемый порядок вещей, но потому, что от повторяющихся покушений «наиболее страдают интересы самого общества». В чем именно могла выразиться «поддержка общества», в обращении не говорилось. Население же столицы призывалось к спокойствию, твердости и игнорированию «злонамеренных внушений»[199], что было на тот момент как никогда актуально, учитывая панику, распространившуюся в Петербурге после покушения 5 февраля. Не менее интересен указ, которым Верховная распорядительная комиссия упразднялась: в нем выражалась уверенность в том, что покушения полностью прекратились[200]. Здесь не случайно предпринят такой подробный разбор этих небольших по объему документов. Скупые слова императоров, тексты манифестов, обращение М.Т. Лорис-Меликова — все это служило ориентирами для тех, кто пытался объяснить события 1879–1881 годов, опираясь на официальную версию происходящего. Неоднократно по разным поводам повторялись слова из московской речи Александра II о воспитании детей, еще чаще — слова М.Т. Лорис-Меликова: «На поддержку общества смотрю как на главную силу, могущую содействовать Власти к возобновлению правильного течения государственной жизни»[201]. Официальная точка зрения распространялась в легальной печати и цитировалась проповедниками. Эти цитаты использовались для того, чтобы легитимировать ту или иную версию происходящего. Кроме публикации сообщений правительства, законодательных актов и манифестов редакция «Правительственного вестника» располагала другими средствами для того, чтобы формировать общественное мнение. Хотя набор их был ограничен, она пользовалась этими средствами виртуозно. Все публикации о террористических актах «Народной воли», кроме специального сообщения правительства, сопровождались целым комплексом иных материалов, каждый из которых имел свои цель и смысл. В этот комплекс входили телеграммы из-за границы, верноподданнические адреса и перепечатка статей других изданий. Сообщения Международного телеграфного агентства кроме информации о реакции правителей того или иного государства на телеграммы из России содержали выдержки из европейских газет, например из «Reichsanzeiger», «Wiener Abendpost» или «Times». Подборка цитат осуществлялась редакцией официальной газеты таким образом, чтобы продемонстрировать сочувствие европейского общественного мнения русскому императору, с одной стороны, и негативное отношение к террористам — с другой. «Вся Европа почувствовала ужас в виду дикого и дерзкого покушения, равно как глубочайшую симпатию к русскому императору»[202] — эта цитата из лондонской «Times» подобна десятку других. Каждое из таких сообщений оканчивалось сакраментальной фразой «в таком же смысле высказываются все здешние газеты»[203]. Апелляция к общественному мнению Европы служила доказательством солидарности иностранных правительств и обществ с русским императором, а также давала возможность языком чужих статей выражать отношение к происходящему. Разумеется, об отзывах, отклонявшихся от заданной рамки, «Правительственный вестник» умалчивал. Вторым неизменным компонентом, появлявшимся в «Правительственном вестнике» после каждого покушения, были верноподданнические адреса. В государстве, лишенном представительных органов, публикация подобных обращений создавала иллюзию общественного мнения, неизменно преданного власти. Кроме того, адрес действительно был способом коммуникации монарха и подданных: каждый из них удостаивался собственноручной резолюции: «Благодарить», о чем «Правительственный вестник» и сообщал отправителю. Адреса, направленные Александру II после покушений на его жизнь, содержали ряд обязательных элементов: выражение чувства ужаса по поводу «злодеяния» и радости по случаю спасения императора, благодарность Богу или сообщение о коллективном молебствии, наконец, пожелания всяческих благ высочайшему адресату. Дополнительно в адресе могли быть комментарии по поводу злоумышленников или даже угрозы в их адрес, реже — предложение помощи в борьбе с крамолой. Если после покушения А.К. Соловьева тексты верноподданнических адресов публиковались в течение 2 месяцев целиком[204], то начиная с 19 ноября 1879 года «Правительственный вестник» ограничивался сообщением списков организаций, учреждений и частных лиц, их отправивших, и кратким изложением содержания: «Заявления беспредельных чувств радости по случаю спасения Государя Императора»[205]. Можно предположить, что это было связано с увеличением количества адресов по сравнению с апрельскими событиями. Кроме того, возможно, что, как и в случае с публикацией отчетов по политическим процессам, правительство не желало «растягивать» публикацию. Тем не менее после каждого террористического акта несколько адресов все же были опубликованы полностью. Выбор именно этих заявлений легко понять: либо опубликованные адреса содержали все необходимые компоненты и в этом смысле были образцовыми (как, например, адрес Императорской Академии наук[206]и телеграмма московского генерал-губернатора В.А. Долгорукова[207]), либо они отражали «мнение» тех слоев населения, демонстрация солидарности которых правительству была особенно важна. Примером последнего является публикация телеграммы одесского временного генерал-губернатора Э.И. Тотлебена, в которой была выражена «беззаветная преданность» войска[208], а также послания крестьян Тверской губернии по поводу 1 марта, демонстрировавшего мнение «простого народа»[209]. Схожую с публикацией верноподданнических адресов роль играли сообщения о благотворительных акциях в память о неудавшихся покушениях и особенно в память о «мученической кончине» Александра II. Если после покушений 19 ноября и 5 февраля сообщения о них были единичными, то после 1 марта именно они составили содержание «Внутренних известий» «Правительственного вестника», в то время как адресам уделялось гораздо меньше внимания. Сведения о постройке часовен, богаделен, приютов и школ, а также о суммах, пожертвованных на храм на месте событий 1 марта и на памятник в Кремле, также должны были свидетельствовать о неизменной преданности общества и народа. Третьим компонентом в комплексе публикаций, посвященных террористическим актам, были материалы, перепечатывавшиеся из других изданий. Комментарий к происходящим событиям редакция «Правительственного вестника» предпочитала давать языком духовных посланий и проповедей. С ноября 1879-го по март 1881 года «Правительственный вестник» опубликовал «Слово» протоиерея Иоанна (Палисадова) по случаю покушения 19 ноября 1879 года, взятое из издания «Кафедра Исаакиевского собора»[210], «Слово» архиепископа Херсонского Платона (Городецкого) из «Вестника народной помощи»[211], речь митрополита Петербургского Исидора (Никольского) по случаю взрыва в Зимнем дворце[212] и речь гродненского епископа Доната (Бабинского-Соколова), сказанную им перед панихидой по Александру II, из «Гродненских губернских ведомостей»[213]. Едва ли подобный выбор следует объяснять долгой службой редактора издания С.П. Сушкова по духовному ведомству. Причина этого явления заключается в том, что именно церкви удалось создать такую интерпретацию террористических актов и последовавшего затем цареубийства, которая не только не подрывала авторитет власти, но, напротив, укрепляла его. Следует отметить, что, несмотря на общее направление толкования проблемы терроризма, проповедники по-разному расставляли акценты. В «Правительственном вестнике» были опубликованы, пожалуй, самые «светские» из проповедей. Их авторы не углублялись в мистику, а предлагали вполне земное решение проблемы терроризма[214]. Не попали на страницы официального издания и те проповеди, в которых священнослужители высказывали надежду на «совоцарение» Александра II с прочими святыми и страстотерпцами Русской земли. Разумеется, «Правительственный вестник» публиковал также заявления светских деятелей, однако их основным содержанием было перечисление заслуг Александра II в той или иной области. В этом смысле речи, произнесенные по случаю кончины императора, кроме нескольких обязательных фраз в начале, мало отличались от тех, которые произносились по поводу празднования двадцатипятилетия его царствования. Проблема цареубийства в них не затрагивалась. Единственным исключением была речь вице-председателя Императорского Русского географического общества П.П. Семенова-Тян-Шанского, однако смерть императора в ней была описана в том же ключе, в каком о ней говорили деятели церкви[215]. Используя разнообразные тексты, редакция «Правительственного вестника» предлагала собственное объяснение покушений «Народной воли». Очевидно, что официальный характер этого издания не способствовал тому, чтобы влиять на общественное мнение в степени, необходимой для привлечения общества на сторону правительства. Выходом в этой ситуации могли стать официозы[216]. Судьба официозных изданий 1879–1881 годов драматична и по-своему показательна. Специально для того, чтобы бороться с влиянием революционных идей, была создана выходившая с 15 марта 1880 года газета «Берег» под редакцией П.П. Цитовича, профессора Одесского университета, прославившегося своими антинигилистическими брошюрами. Задуманная в 1879 году, когда правительство шло в сторону ужесточения административных мер по борьбе с «крамолой», газета оказалась не нужна в эпоху «новых веяний» ни пришедшему к власти М.Т. Лорис-Меликову, ни тем более читателям. Просуществовав до конца 1880 года на правительственные субсидии, но без всякого руководства со стороны властей, «Берег» перестал выходить, так как не оправдал возложенных на него надежд[217]. Сам Главный Начальник прекрасно осознавал значение печати, в том числе и официозной. В период «диктатуры сердца» фактически официозом М.Т. Лорис-Меликова стала газета А.А. Краевского «Голос»[218]. Особые отношения с редакцией этой газеты не помешали министру внутренних дел вынести ей предупреждение за статью от 4 марта 1881 года[219]. Как видим, обе газеты с большой долей условности можно назвать официозами. Несмотря на финансовую поддержку со стороны правительства, они в значительной мере самостоятельно освещали события 1879–1881 годов: «Берег» из-за своей ненужности новому властному лицу, не желавшему связывать свое имя с консервативной газетой, «Голос» — из-за своего положения «полуофициоза». Точка зрения на терроризм, высказывавшаяся на их страницах, не была собственно точкой зрения правительства. Кроме того, материалы этих газет писались в диалоге (или в спорах) с другими органами печати, поэтому их содержание более плодотворно рассматривать наряду с прочими заявлениями печати. Рассматривая роль правительства в формировании информационного поля, следует признать, что в чрезвычайной ситуации 1879–1881 годов власти в полной мере осознавали необходимость воздействия на информационное поле путем создания официальной версии происходящего и обеспечения ей главенства среди прочих сообщений и толкований. Анализ избранных для решения этой задачи мер показывает, что ставка делалась скорее на цензурные запреты, чем на пропаганду. Официальная точка зрения выражалась в речах и манифестах императоров, законодательных актах, на страницах правительственных изданий. Все эти средства были малопригодны для влияния на общественное мнение: первые — в силу своей исключительности, единичности, а последние имели иные цели. Насколько это было возможно, все они использовались для распространения официальной точки зрения на происходящее, изображая террористов преступниками, общество верноподданным, а царя мучеником за народное благо. Гораздо больше внимания правительство уделяло контролю над прочими участниками создания информационного поля. Многочисленные цензурные запреты должны были не только ограничивать доступ общества к информации о террористических актах, но и пресекать распространение «вредной», с точки зрения правительства, интерпретации происходящего. Поставленная цель не была достигнута. Журналисты подцензурных изданий, даже ограниченные рамками циркулярных запретов, не становились проводником официальной интерпретации терроризма, но, напротив, находили способы донести до общества сведения, которые правительство стремилось скрыть. В итоге следует признать, что попытки правительства воздействовать на информационное поле не принесли желанного результата. Причина этого, на мой взгляд, заключается в отсутствии разработанной и скоординированной пропагандистской политики. Редакция «Правительственного вестника» во всех случаях, кроме публикации правительственных сообщений, исходивших от министра внутренних дел, вынуждена была самостоятельно определять, каким образом освещать террористические акты. Редакция официозного «Берега» также была предоставлена сама себе; «полуофициозы» же, в силу своего положения, отнюдь не во всем блюли интересы власти. Даже создаваемые по инициативе подданных и целиком выдержанные в «верноподданническом» духе тексты, с помощью которых возможно было воздействовать на информационное поле, не всегда допускались к печати. Цензоры предпочитали перестраховаться, запрещая публикацию любых сочинений, если существовала хотя бы небольшая возможность неверного их прочтения. Забегая вперед, отмечу, что участие правительства внаполнении информационного поля сведениями о террористических актах и их интерпретацией было заметно меньшим, чем деятельность любого другого участника этого процесса.ГЛАВА II УЧАСТИЕ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В СОЗДАНИИ ИНФОРМАЦИОННОГО ПОЛЯ
В самых удаленных уголках империи священники были первыми после представителей власти, кто получал известия о покушениях на императора. В обязанности служителей церкви входило не только вознесение благодарственных молитв за спасение государя, но и разъяснение прихожанам происходящих событий. Аудиторию проповедников невозможно сопоставить с аудиторией самых многотиражных периодических изданий, а тем более с читателями нелегальной литературы. Толкование террора, предложенное пастырями Русской православной церкви, оказывало серьезное влияние на формирование информационного поля этой проблемы. Специфика любой проповеди, даже произнесенной в кафедральном соборе епархии, заключается в ограниченности аудитории, на которую она может воздействовать. Соответственно для того, чтобы должное объяснение достигло всех уголков Российской империи, необходимо было, чтобы все священники схожим образом рассказывали прихожанам о покушениях. В ноябре 1883 года Синод специальным указом разъяснил священствующим, каким должно быть содержание проповедей «по поводу общественных событий или кончины общественных деятелей». Перечисленные в нем принципы, очевидно, были обязательны и в более ранний период. Согласно этому указу, священники должны были говорить об общественных событиях «с православно-христианской точки зрения и с единственною целью назидания по слову Божию», показывая в них «пути Всеблагого Промысла, знамения милости и правды Божией», направляя умы и сердца «к благодарной молитве, упованию и терпению в скорбях, покаянию и нравственному исправлению»[220]. Нарушением пастырского долга было рассматривать общественные дела «по мудрствованию человеческому, по духу своего века», толковать их значение «не для внутреннего духовного человека, а для внешнего, плотяного, или для временных житейских целей»[221]. Эти принципы лежали в основе всех проповедей, в которых объяснялись покушения на императора, а затем и цареубийство. Официально позиция церкви была выражена в послании Синода, которое появилось только 18 апреля 1881 года[222]. До этого единство церковной интерпретации террора обеспечивалось как ограничениями, налагаемыми каноническими текстами и семинарским образованием, так и широко распространенной практикой публикации наиболее удачных проповедей в изданиях, предназначенных для священнослужителей (например, «Руководство для сельских пастырей») и для массы верующих («Душеполезное чтение», «Православный собеседник», «Кафедра Исаакиевского собора» и др.). На эти образцовые речи ориентировались священники, готовясь к очередной проповеди. Таким образом, православная церковь смогла предложить пастве единое объяснение террора, в рамках которого, впрочем, было место для расхождений в том или ином более узком вопросе.1. «Венценосный Мученик». Император как «жертва» террора
Церковь рассматривала покушения на цареубийство, а затем убийство Александра II не просто как преступление, но как один из самых тяжких грехов. В качестве Помазанника Божия[223], «независимо от личных качеств своих», русский царь был неприкосновенен: «Господь Всевышний в своем Откровении грозно запрещает и перстом прикасаться к Помазанным Его. […] Итак, нет между преступлениями человеческими и гражданскими виновнее, как цареубийство»[224]. Близким к этому греху могло быть только убийство матери и отца, однако, посягая на императора, бывшего «отцом» подданных, террористы, по сути, и совершали грех отцеубийства[225]. По стечению обстоятельств цареубийство произошло в праздник Торжества Православия, когда в чине «Последования» возглашалась анафема «помышляющим, яко православные Государи возводятся на Престолы не по особливому о них Божию Благословению, […] и тако дерзающим против их на бунт и измену»[226]. Получалось, что народовольцы, посягнувшие на Александра II, в тот же момент были подвергнуты анафеме[227]. Провиденциальное видение мира предопределяло понимание любого события: все, что ни случается, происходит по воле Провидения. Неудачи покушений 19 ноября 1879 года и 5 февраля 1880 года однозначно истолковывались церковью как чудеса, но в то же время и как нечто само собой разумеющееся. Государя как Помазанника Божия нельзя было убить: «…ни пуля, ни огонь, ни другие измышления, адские орудия врагов, не похитят от нас Царя, пока на то будет Святая Воля Божья», — убеждали священники паству[228]. При такой начальной посылке священникам необходимо было объяснять не причины покушений, а причину Божьего «попущения» злоумышлениям на императора. Возможность наказания таким образом самого Александра II исключалась. Протоиерей Василий (Нечаев), напоминая прихожанам историю Иова Многострадального, специально оговаривал: Россия не должна впасть в заблуждение, в которое впали друзья Иова, посчитавшие, что его муки — кара за грехи. «Остережемся думать, что Господь покарал Царя за его личные грехи, которые при том нам неизвестны», — наставлял он[229]. Оставалось единственно возможное объяснение: «попуская» совершаться покушениям, Бог «поучает событиями» «нерадивых чад»[230]. Император в этом случае превращался в невинного страдальца. После неудачных покушений речь, разумеется, шла о душевных терзаниях: «…безвинно отравляется жизнь высокой, гуманной Личности», «как же больно, должно быть, это для самого нашего доброго и милостивого Царя-Батюшки! Как только выносит его мягкое сердце такие зверства?»[231]. 25 ноября 1879 года в домовой церкви Казанского университета Александр II был назван «Мужем скорбей» — это устойчивый эпитет Иисуса Христа, идущий из ветхозаветного пророчества Книги Исайи: Он был презрен и умален пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от Него лицо свое; Он был презираем, и мы ни во что не ставили Его. Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши (Ис. 53: 1–3). В образе «Мужа скорбей» уже намечались два мотива позднейшего толкования цареубийства: сопоставление его с искупительной жертвой Христа и идея вины народа, чьи грехи искупаются такой ценой, — народа, «презирающего» искупителя. 19 февраля 1880 года во время торжественной службы в честь двадцатипятилетия царствования Александра II в Успенском соборе в Кремле преосвященный Макарий (Булгаков), митрополит Московский и Коломенский, говорил пастве о покушениях как о принятии императором «подвига и венца Царя-крестоносца». В этом случае имелся в виду крест как символ мученичества. Неудачное покушение описывалось им как «бескровная жертва» «без пролития драгоценной народу крови, без сокрушения духа народного, без омрачения чести народной, без смуты жизни народной»[232]. Цареубийство 1 марта 1881 года, прервавшее череду «чудесных спасений», не перечеркнуло уже сформировавшееся объяснение террористических актов, а, напротив, укрепило его. В первый момент на складывание представления о событии на Екатерининском канале повлияли действительно страшные подробности последних минут жизни Александра II. Проповедники спешили сообщить пастве, какие муки претерпел государь перед смертью. В ставропольском Троицком соборе протоиерей Василий (Розалиев) рассказывал прихожанам: «После поражения от злодеев, лежал и Он [Александр II. — Ю.С.] при дороге […]. Лицо Его было опалено, местами рассечено, ноги раздроблены, чрево надорвано, священная кровь лилась из язв Его ручьем на землю, глава обнажена, одежда оборвана»[233]. В день погребения императора в сиротском приюте в Перми была произнесена проповедь, в которой священник просил своих слушателей представить, как «медленно движется экипаж, из него ручьем течет кровь царская», а в нем — «Царь Русский, с обнаженной головой, облитый кровью, с переломанными ногами»[234]. Знакомясь с этими подробностями, нельзя было не признать, что Александр II погиб мучительной смертью. Выбор, однако, был сделан в пользу определения мученической, отличие которого предельно ясно: мученической смертью умирают мученики. Выбор между близкими понятиями был осознанным, что доказывает частое употребление наряду с характеристикой «мученик» понятия «страстотерпец». С формальной точки зрения последнее было более верным, так как в чине мученика канонизировались только святые, пострадавшие за веру, в случае же страстотерпцев почитался особый характер их подвига — беззлобие и непротивление врагам, добровольное принятие смерти. Поскольку речь шла все же не о канонизации убитого императора, проповедники не придерживались строгих церковных установлений. Назвав Александра II мучеником, они могли перенести рассказ о событии 1 марта из сферы современного им политического процесса в область евангельского мифа. Убийство Александра II было совершено в Великий пост, что оказало огромное влияние на его интерпретацию. Сорок дней православный мир готовился к празднованию Воскресения Христова, вспоминал о крестном пути Спасителя, каялся в совершенных грехах. Если цареубийство совпало с праздником Торжества Православия, то перенесение тела императора из Зимнего дворца в Петропавловский собор (7 марта) состоялось в день поминовения усопших, а погребение было совершено в воскресенье Крестопоклонной недели, когда на утренней службе прихожане поклонялись выносимому на середину храмов Животворящему кресту. Со второй недели Великого поста (т. е. в 1881 году с 8 марта) в каждое воскресенье за вечерним богослужением читались те места из евангелий, которые повествовали о страстях Иисуса Христа. Эти хронологические совпадения позволили вписать 1 марта 1881 года в священную историю. В 1881 году проповедники говорили с прихожанами не только и не столько о муках Сына Божьего, взошедшего на крест за людские грехи: на глазах верующих разворачивались события, которые, как утверждали пастыри, имели «не только близкое сходство, но даже прямую связь»[235] с евангельским рассказом. Все это привело к тому, что единственным образцом мученичества, с которым можно было сопоставлять смерть императора, стал Подвигоположник Христос. «Мысль наша так и стремится отыскать сходство между тем, что некогда свершилось на Голгофе и что теперь постигло Россию», — говорил прихожанам в Перми отец Евгений (Попов)[236]. Доказывая существование «прямой связи» между смертью Христа и гибелью Александра II, епископ Уфимский Никанор (Бровко-вич) находил между этими двумя событиями буквальные совпадения: римские стражники хотели перебить Христу голени, то же сделали революционеры с императором. В восклицании Н.И. Рысакова «Еще слава ли Богу?», которым тот отреагировал на произнесенное императором после первого взрыва «Слава Богу, я уцелел», проповеднику слышались слова «христоубийц» «Уа!.. Упова на Бога; пусть теперь избавит Его, если Он угоден Ему»[237]. Кроме этих совпадений в деталях пастыри находили сходство в обстановке и действующих лицах, для чего им порой приходилось пересказывать Евангелие языком современных газет. Священник Евгений (Попов) указывал на тождество террористов и иудеев, которые «после многих покушений [курсив мой. — Ю.С.] на жизнь Христа (они хотели сбросить его с горы, побить камнями) достигли наконец своего желания»[238]. Другой проповедник сравнил народовольцев с членами «беззаконного синедриона иудейского», «непризванными радетелями народа», «слепыми народными вождями», ставивших свои «условные, узкие, лживые, нелепые понятия о народном благе» выше тех благ, которые народ искал у Христа[239]. Более важным, чем сходство обстоятельств или действующих лиц двух событий, сравнивавшихся в проповедях, было для священников родство жертв — Царя Иудейского и императора всероссийского. Говоря об Александре II в проповедях, пастыри создавали образ идеального правителя, обладавшего «великими нравственными достоинствами и государственными заслугами»[240], «невиновного перед своим народом, Благодетеля подданных, Освободителя миллионов людей»[241]. «Благосердный, кроткий, любвеобильный»[242], Александр II являл собой пример истинного христианина, и потому его смерть была «безвинной». Другой проповедник спрашивал: «За что Ты, добрый Государь, так жестоко пострадал […]. Что ответили бы они [цареубийцы. — Ю.С.], если бы сам почивший Страдалец восстал от одра смертного и спросил: Людие мои, что сотворих вам?»[243] Последняя фраза, появившаяся во многих проповедях после 1 марта, позволяла провести прямую параллель между Александром II и Христом. Она является частью восьмого гласа двенадцатого антифона, звучащего во время службы в Великий четверг. С креста Христос обращается к иудейскому народу: Людие Мои, что сотворих вам? Или чим вам стужих? Слепцы ваши просветих, прокаженный очистих, мужа, суща на одре, возставих. Людие Мои, что сотворих вам? И что Ми воздасте? За манну желчь: за воду оцет: за еже любити Мя, ко Кресту Мя пригвозидисте[244]. Эти слова антифона давали возможность перейти к перечислению благих деяний императора и в то же время оттеняли их несоответствие страшной его смерти. Как Христос напоминал иудеям добро, сотворенное им, так и государь, по мнению проповедников, мог сказать, обращаясь к своему народу: Я призвал из крепостной тяжкой зависимости к свободе двадцать миллионов ваших братьев. Не это ли кровная моя вина перед вами? Я призвал вас всех к образованию, положил начала вашего самоуправления, Я сохранил славу вашу перед другими народами, Я возвысил ваше благоденствие, Я призрел многих ваших сирот, Я простирал вашу любовь к братьям вашим по крови и языку, — не в этом ли мои вины перед вами?[245] Разумеется, главными деяниями Александра II в изложении священников были «великие реформы». В «Сказании в память в Бозе почившего Государя Императора Александра II», опубликованном в издании «Кафедра Исаакиевского собора», шесть ангелов, сопровождающих душу монарха, рассказывают о его заслугах перед престолом Бога. Среди этих заслуг названы отмена крепостного права, судебная реформа и отмена рекрутской повинности[246]. Очевидно, что священники, обращаясь к истолкованию реформ, повторяли уже сложившуюся официальную трактовку. Р. Уортман в книге «Сценарии власти» отмечает, что освобождение крестьян в официальной риторике «было представлено не как расширение законности и прав, а как демонстрация христианской любви»[247]. После цареубийства религиозная окраска в интерпретации реформ стала еще более определенной: «суд правый, скорый и милостивый» был дарован подданным, чтобы они не страдали от неправды, а рекрутская повинность отменена, потому что по всей земле «шел стон в те дни, когда собирались воины и тысячи людей отлучались навсегда от своих семей»[248]. Таким образом, реформы описывались не как политические решения, направленные на модернизацию империи, а как действия христианина, «возлюбившего своих чад» и решившего облегчить их страдания. Следует отметить, что главная заслуга Александра II — отмена крепостного права — хотя и упоминалась первой среди прочих, но редко растолковывалась специально. Проповедники, обращаясь к пастве, напоминали лишь, что убит «Царь-Освободитель», «разбивший оковы векового рабства»[249]. Возможно, у них и не было необходимости специально говорить о том, что за двадцать лет, прошедших с 1861 года, стало центральной частью репрезентации Александра II. Не менее важным при создании образа Александра И, чем упоминание великих реформ, было обращение к событиям Русско-турецкой войны 1877–1878 годов. «Освобождение от туретчины братьев наших славян»[250] представлялось в поучениях как подвиг во имя веры. Оно было важной частью конструирования образа «праведника» и «истинного христианина». Очевидно, что проповедники и тут обращались к уже сложившейся во время и после войны риторике. Р. Уортман пишет, что во время Русско-турецкой войны Александр II выступал «не военным, а нравственным лидером, обеспечивающим войскам психологическую поддержку, которая принимала две формы: воодушевление — поддержание морали и утешение — сострадание к мукам»[251]. Актуализируя этот образ, проповедники подчеркивали праведность государя. Архиепископ Холмско-Варшавский видел «высокий христианский подвиг» в том, что «Царь могущественный по собственному влечению сердца обходит госпитали, беседует с ранеными, пренебрегает опасностью собственной жизни, Сам лишает себя покоя, чтобы успокоить страждущих, умирающих»[252]. Внимания заслуживало и «милосердие» к «крамольникам», полностью соответствующее Нагорной проповеди: «Благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас» (Мф. 5: 44). Император описывался как «Благодетель России», который «едва в состоянии был подписывать смертные приговоры преступнейшим из преступных и который столь много раз возвращал жизнь злодеям, покушавшимся на Его Священную жизнь»[253]. Сопоставимыми с «подвигом» в Болгарии были последние минуты жизни Александра II. Тот факт, что император после первого взрыва остался на месте покушения, что позволило И.И. Гриневицкому бросить вторую бомбу, священники объясняли отнюдь не ошибками охраны. Напротив, он представлялся как действие христианина, осознающего свой долг. «Чувство сердца влекло Его [Александра II] к несчастным страдальцам [раненным первым взрывом. — Ю.С.], как и на полях Болгарии»[254]. 15 марта в «Новом времени» было опубликовано стихотворение Н.А. Вроцкого (А.А. Навроцкого) «Памяти Царя-Освободителя», где раскрывались подробности:2. Образ террориста в речах проповедников
При истолковании событий 1879–1881 годов как «наказания нерадивого народа» и «прославления» благочестивого монарха вопрос о том, кто такие террористы, отходил на второй план. Разумеется, их нельзя было рассматривать как орудия Божьего промысла, но в то же время их покушения могли быть замышлены и совершены только при «попущении» Провидения. В характеристике, дававшейся священниками народовольцам, наблюдается смешение традиционных религиозных доктрин и светского понимания. В террористах можно было увидеть «слепые орудия сатаны», «адские силы», «антихристовых предтеч», которые своими поступками «изобличают себя в принадлежности к темному царству миродержателя века сего»[274]. Протоиерей Иоанн (Палисадов) даже давал практические советы, как узнать «нигилистов»: у них нет крестов и образов, а у некоторых, «как у Каина, даже на лице имеется какая-то печать отвержения»[275]. Большинство священнослужителей, однако, не удовлетворялось представлением о «крамольниках» только как об «адских силах». Такое описание исключало существование каких-то рациональных мер борьбы с ними, которые были бы доступны пастве. В качестве риторического приема, использовавшегося для описания террористов, нередко использовались зоологические метафоры, имевшие два различных источника. Такие характеристики революционеров, как «лукавые и ядовитые аспиды и василиски, кровожадные и безмерно лютые звери в человеческом образе», «змии и львы»[276], восходили к Библии, подчеркивали принадлежность их к «темным силам». Наряду с ними в проповедях встречается описание террористов не как зверей или чудовищ, а как людей, утративших человеческую природу, «озверевших»[277]. «Одичание» и «зверонравие» террористов пастыри напрямую связывали с распространением «лжеучений», под которым подразумевались не одни только социалистические идеи (такое понимание было характерно для светских деятелей), но материализм в целом. Современная наука казалась священникам «язычеством», поскольку отвергала идею Бога-Творца и заменяла его материей, «приписав ей творческую силу»[278]. Оставляя Бога, человек лишался нравственных ориентиров: «От людей, которые в теории породнились с зверями [намек на теорию Ч. Дарвина, которая понималась как теория происхождения человека от обезьяны. — Ю.С.] и начали жить по-звериному, нечего было и ожидать, кроме проявлений дикого зверства»[279]. Эта мысль наиболее последовательно выражена в Слове протоиерея Михаила (Некрасова): «Человек, прототип которого обезьяна, по существу своему есть враг человеческого общества, […] что доказывают нам наши крамольники, рвущиеся убивать из-за угла»[280]. В черных красках рисовался образ жизни «нигилистов»: они «предаются своеволию», «законы как церковные, так и гражданские не уважают, и между ними царит полная безнравственность»[281]. Страшнее этого внешнего проявления «атеизма» было для священников душевное состояние «крамольников», «искалеченных умственно и извращенных нравственно», которые совершают преступления «не только без жалости, но с непонятною жестокостью», «истинное добро стало для них непонятно и ненавистно», «убийство для них геройство»[282]. Проповедники настаивали, что «лжеучения» появились не на русской почве, но были занесены с Запада, «где уже давно тайна беззакония деется между сынами противления, забывшими Бога и совесть. Оттуда, из этих нечестивых общин, распространившихся по Европе, занесено к нам злое семя, которое пустило у нас корни, взросло в ветвистое дерево и породило такие горькие плоды»[283]. Епископ Уфимский Никанор (Бровкович) 15 марта 1881 года в поучении развернул историю «крамолы», начав ее с Французской революции и доведя до начала царствования Александра II, когда «“с того берега” начертана и распространена по России ужасающая программа разрушения, […] в основу которой положено чудовищное утверждение, что все мы […] отжили»[284]. В разъяснениях священниками цели покушений, которую ставят перед собой террористы, можно увидеть почти незаметные в других вопросах различия, обусловленные тем, какой аудитории проповедь предназначалась. Сельские пастыри предлагали прихожанам фантастические версии «программы» террористов, делая упор на уничтожение веры и законного монарха[285]. Объясняли они и прямую опасность от торжества «крамолы», желающей «опорочить наших жен и детей, чтобы расхитить наше имущество и переворотить все вверх дном»[286]. С образованной паствой проповедники говорили иначе, предполагая знакомство слушателей хотя бы с основными социалистическими идеями. Констатируя факт, что преступники, с их точки зрения, желают общего блага, проповедники стремились максимально полно обнажить совершаемую всеми последователями «лжеучений» ошибку: «Учение их о коренном источнике бедствий человечества, о средствах к его уничтожению и о главной цели человеческой жизни — атеистично»[287]. Заменив веру социализмом, «помешавшись на мысли о политическом и общественном переустройстве России», террористы не могут трезво оценивать действительность, поскольку «потеряли способность правильного понимания всех вещей, соприкасающихся с этою мыслью»[288]. «Цель их преступных действий — устроить партии, поселить раздоры в обществе, обокрасть казну и уничтожить всякую власть над собою. Отвергая власть над собою, сами стремятся властвовать над другими», — говорил законоучитель Введенской прогимназии Садоф (Ставровский)[289]. С церковных кафедр раздавались не только слова проклятия цареубийцам и обещания кары земной и небесной[290], но и слова сожаления. Хотя в послании Синода, опубликованном 18 апреля 1881 года, опровергалась принадлежность террористов к русскому обществу[291], для многих проповедников это было не так. Очень часто они описывались как «наши братие, хотя и заблудшие»[292], еще чаще — как «дети» русского общества. Тот факт, что «дети наши уходят на стези строптивые, готовятся поднять свои руки и на нас, как подняли, как не раз поднимали наши же дети, дети русских даже хороших отцов, свои святотатственные руки на Христа Господня, на Отца Отечества»[293], был трагедией для церкви, которая испытывала жалость к «блудным детям России» и надеялась на то, что даже цареубийцы еще могут возвратиться к Богу и «обличаемые совестью», покаются и скажут: «Согре-шихом, предавши кровь невинную!»[294] Признание террористов «детьми» русского общества со всей остротой ставило перед проповедниками проблему: каким же должно быть состояние этого общества, если из него выходят цареубийцы. Обличение пороков исходило из аксиомы: «Здоровое общество, конечно, не породило бы таких уродов: у здоровых родителей и дети здоровы»[295].3. «За наши вины прогневался Господь»
В своих речах священники уделяли много внимания «нестроениям» русского общества, которые в этот момент были предметом оживленных дискуссий в печати и среди образованных людей. Протоиерей Василий (Рождественский) 29 мая 1880 года в проповеди прямо сослался на опыт изучения общественных «недугов», имеющийся у печати[296]. Признавая существование проблем в административной сфере, школьном образовании, семейном воспитании и пр., церковь видела их первопричины совсем не там, где желали найти их журналисты. Анонимный автор статьи «Главный источник всех наших зол» высказал убеждение, что за всеми внешними причинами появления «крамолы» лежит одна главная — «мир идей и понятий»[297]. Духом материализма были заражены не только террористы, но все русское общество, переставшее верить в Бога и церковь[298]. Вновь и вновь обличая симптомы безверия («уставы Церкви называют выдумкою “попов” и Святые Тайны религии получают кличку невежества»[299]), проповедники утверждали, что именно в них кроется причина появления «нигилизма» у «детей». «Вера наша заменилась безверием, родительская власть в презрении, Церковь Божия в запустении, Праздники и Посты Святые в непочтении» — так видел общее состояние протоиерей Виктор (Бондаков)[300]. Особое внимание проповедники уделяли положению семьи. С одной стороны, это было вызвано тем, что церковь традиционно оберегала семейно-нравственные ценности, бывшие одним из оснований христианства. С другой стороны, после покушения 19 ноября 1879 года сам император Александр II обратил внимание «отцов семейств» на воспитание юношества. Проповедники констатировали отсутствие должного воспитания и дурной пример, подаваемый детям родителями, которые видят в поведении взрослых «более соблазнов для своего молодого ума и воли»[301]. Примером родительской «безнравственности» может послужить обличение священника Павла (Руновского): «На словах мы веруем, а на деле отрицаем свою веру; одною рукою нечто жертвуем на дело Божие, а другою воруем; лбом кладем земной поклон перед иконою, а умом совершаем выгодные аферы, а некоторые, стоя в Храме, глазами ловят взгляды блондинок и брюнеток, даже вместо молитвы устраивают здесь свидания»[302]. Особая вина лежала на тех родителях, кто, заметив в детях первые признаки «нигилизма», не употребил данную им родительскую власть для его искоренения. Вместо этого «изжившаяся, бесхарактерная старость, разинув рот и развесив уши, слушает это пустомелие и празднословие и не хочет и подозревать в них падения»[303]. Идея не просто потворства, но даже прямого пособничества «преступным» детям со стороны родителей родилась раньше, чем начались покушения на императора. В 1875 году министр юстиции граф К.И. Пален написал обширную записку о революционной пропаганде, предназначенную для «внутреннего пользования», но ставшую общеизвестной после того, как кружок «чайковцев» в том же году издал ее в Женеве[304]. В ней были перечислены все случаи оказания помощи участникам «хождения в народ» со стороны «лиц не молодых, — отцов и матерей, — обеспеченных и материальными средствами и более или менее почетным положением в обществе»[305]. Вывод, сделанный министром на основании материалов дознания 1874–1875 годов, был перенесен и на деятелей «Народной воли»: «…успехи пропагандитов [так! — Ю.С.] зависели не столько от их собственных усилий и деятельности, сколько от той легкости, с которой учения их проникали в различные слои общества, и от того сочувствия, которое там встречали»[306]. Утвердившееся в среде государственных деятелей мнение о «слепоте» отцов, не понимающих, что «последствием подобного образа действий должна быть гибель всякого общества и их самих»[307], повторялось проповедниками с церковных кафедр. Не меньше, чем перед Богом и церковью, общество было виновато перед государем. Даровав стране разнообразные реформы, создав условия для того, чтобы подданные могли участвовать «в созидании общего блага», монарх надеялся на помощь общества в осуществлении своих великих замыслов. 19 февраля 1880 года ректор Санкт-Петербургской духовной академии Иоанн (Янышев) подвел в Исаакиевском соборе горький итог предшествовавшего двадцатипятилетия. Вместо честного труда одни подданные бездействовали, ожидая, что благо «само свалится с неба или явится к нам по одному царскому слову», другие же употребили свободу во зло, прикрываясь «либеральною и притом законною формою»[308]. Эти последние требовали от монарха все большей свободы, посягнув наконец на его власть и требуя ограничения самодержавия, т. е. самим Богом установленного порядка[309]. На русском обществе с точки зрения церкви лежала и еще одна вина, которую можно определить как упорство во грехе. Покушения 1879 и 1880 годов истолковывались проповедниками как урок, который Бог желал преподать «нерадивым чадам». Провидение чудом всякий раз спасало монарха лишь затем, чтобы заставить народ задуматься, исполнен ли им «долг в отношении к Государю и Отечеству»[310]. Допуская свершаться покушениям, Бог напоминал «завет отцов наших о преданности Царям Самодержавным» и охранял от «искушений и увлечений чуждыми учениями о властях и народных правительствах»[311]. Несмотря на эти уроки, русское общество осталось равнодушным. Оно предоставило правительству в одиночку бороться с проявлениями крамолы. Не внимая грозным предупреждениям, русские люди «ни молитвою к Богу, ни делом, ни житием не сохранили Его [Александра II. — Ю.С.] от адской крамолы, живя беспечно по злой воле, извращающей все доброе святое, забывая самонужнейшие обязанности христианские и не подчиняясь учению Церкви»[312]. За этот двойной грех наказание может возрасти многократно. Многочисленные вины русского общества, сточки зрения проповедников, стали причиной гнева Господня, наказанием же за беззакония послужило убийство русского царя. При таком истолковании смерть Александра II оказывалась добровольной жертвой во искупление «грехов» русского общества и для его вразумления. На панихиде в Москве 9 марта 1881 года преосвященный Амвросий (Ключарев), епископ Дмитровский, напомнил пастве: Господь принес в жертву собственного Сына как последнее средство, способное изменить «нечестивый род человеческий». «Когда не оказывается возможность привести людей путем знания и размышления к единству истинных воззрений и убеждений, Господь попускает совершиться между ними преступлению — убиению праведника, в котором все чувствуют себя виновными, одни по небрежению, другие по ожесточению, и по совершению которого все говорят: “Что мы сделали?”», — говорил он, сравнивая смерть Христа и гибель Александра II[313]. Если императора ожидала награда на небесах, то «грешному народу» на земле оставалось одно — «плач покаянный»[314]. Проповедники называли покаяние единственным средством, способным умилостивить разгневанного Бога. Оно же должно было послужить искоренению «крамолы». Видя причину возникновения крамолы в «мире идей», церковь называла единственно возможное, с ее точки зрения, средство: «…в религии и церкви — вот где единственное надежное врачевательство и средство к умиротворению нашего бедствующего отечества»[315]. Русская православная церковь через своих проповедников предложила пастве объяснение терроризма, основанное на провиденциальном видении мира. Внимание пастырей было приковано к «жертве», императору Александру II, в то время как вопросы о том, кто такие террористы и какова роль общества в этих событиях, отходили на второй план. В речах священников Александр II представал как идеальный христианский православный царь — милосердный, незлобивый, кротко несший бремя власти. Великие реформы, и прежде всего отмена крепостного права, «подвиг» императора во время Русско-турецкой войны, даже его участие в заключении в 1868 году международной конвенции против разрывных пуль[316], и ранее в официальной пропаганде представлявшиеся подчас как духовные, а не политические акты, были наполнены новым смыслом. Все они оказывались деяниями христианина, заслужившего через положенную во имя других праведную жизнь мученическую смерть, а следовательно, и мученический венец. Совпадение цареубийства и последовавших за ним обрядов с Великим постом позволили проповедникам вплести событие 1 марта 1881 года в канву евангельского мифа. Церковь настаивала даже не на сходстве отдельных моментов, но на внутреннем, мистическом родстве событий в Иудее и Петербурге: император как Помазанник Божий был принесен вжертву ради искупления грехов русского народа. Подданные Александра II нехристианского вероисповедания также поддерживали образ императора-мученика, отыскивая ему параллели в собственной религиозной традиции. Наставляя депутацию, отправлявшуюся в Петербург поклониться гробу убитого императора, мулла Киргиз-Букеевской орды Хальф Омар Джазыхов перечислял благодеяния, «которые, как волны моря, набегали непрерывно одна на другую»: «Он даровал подданным своим равноправность, как перед гражданским, так и перед духовным судом, без различия народностей […]. Во всякое время, но особенно в эти последние голодные годы, рассыпал Он бедным и неимущим помощь из собственной казны своей, давал им рассрочки в уплате податей». «Руками предателей подана была Ему чаша смерти», а потому государя «шариат наш причисляет к сонму мучеников (шэхид)»[317]. Как о царе-праведнике, «священной жертве для своей страны» писал об Александре II раввин Иисус Мейзах[318]. Представив Александра II «искупительной жертвой», проповедники обращались к «грехам» русского общества, за которые эта жертва была принесена. На первый план в обличениях выходили утрата веры, нравственности, семейных ценностей. Объяснение того, кто такие террористы, — если только священники не говорили о них как об «орудиях сатаны», — также было подчинено задаче обличения общества. Признавая цареубийц «детьми» русского общества, церковь возлагала на последнее ответственность за воспитание «крамольников». Перед лицом мученической кончины монарха церковь призывала паству к покаянию за безбожие, нерадение и равнодушие. Предложенная проповедниками интерпретация терроризма оказывала значительное влияние на формировавшееся информационное поле. Толкование покушений как неисповедимой воли Провидения, а цареубийства как «мученической кончины» было полностью использовано правительством, заимствовавшим ту же риторику для официальных сообщений и манифестов. Внимание к религиозной интерпретации доказывается и перепечаткой ряда проповедей на страницах «Правительственного вестника». Прочая подцензурная печать также испытывала на себе влияние предложенного церковью объяснения терроризма. Оно было столь велико, что вызывало тревогу радикального лагеря, реагировавшего на содержание проповедей в нелегальных изданиях. Проповедникам удалось предложить такую интерпретацию 1 марта 1881 года, которая превращала его из события, безусловно подрывающего престиж монархии и свидетельствующего о глубоком кризисе империи, в событие, прославляющее самого монарха. Оно было доказательством того, что в новой жизни царь будет удостоен высочайшей награды — станет святым мучеником и по смерти, как и в жизни, будет молить Бога о благе для России.ГЛАВА III МАТЕРИАЛЫ СУДЕБНЫХ ПРОЦЕССОВ «НАРОДНОЙ ВОЛИ»
Важную часть информационного поля составляли материалы политических процессов, печатавшиеся в «Правительственном вестнике» или в местных официальных газетах. В 1870-х годах уголовная и судебная хроника вообще привлекала внимание читателей, особенно из средних слоев, заменяя им «уголовные» романы с продолжением, а посещение зала суда было сродни театральной премьере. А.В. Богданович с неудовольствием писала по поводу «Процесса Шестнадцати»: «Опять суд, опять настроены люди слушать эти ужасные истории»[319]. В заключительной части трилогии В.В. Крестовского «Торжество Ваала», описывающего 1870-е годы, очень точно передан общий ажиотаж вокруг политических процессов, которые «обставлялись эффектно и даже торжественно. В Одессе и Киеве даже прибегали к охране суда войсками, причем на несколько дней прекращалось всякое сообщение по улицам, примыкающим к зданию суда»[320]. Отчеты о процессах над террористами были уделом тех, кто не смог раздобыть билет в зал суда. Так, даже «благонадежность» не послужила редактору «Нового времени» А.С. Суворину пропуском на процесс «доктора Веймара»[321] (6-14 мая 1880 года, по обвинению в содействии покушению А.К. Соловьева). А.В. Половцову, петербургскому корреспонденту московской газеты «Русские ведомости», не помогла попасть на процесс «первомартовцев» и личная протекция прокурора Н.В. Муравьева: в зал суда были допущены только редакторы «Голоса», «Нового времени», «Порядка» и «Московских ведомостей»[322]. Кроме того, что судебная хроника давала возможность познакомиться с обстоятельствами покушений тем, кто не сумел попасть на процесс, она была способом узнать о «социально-революционных» теориях, не подвергая себя преследованию со стороны властей, как это было в случае чтения нелегальной литературы. Два крупных народовольческих процесса — «Шестнадцати» и «дело 1 марта» долго держали публику в напряжении. Номера «Правительственного вестника», в которых публиковался процесс «первомартовцев», продавались разносчиками по 50 копеек[323], в то время как розничная стоимость номера составляла 6 копеек. Судебные процессы «Народной воли» обстоятельно и всесторонне исследованы Н.А. Троицким. В работе «“Народная воля” перед царским судом»[324] он рассматривает юридические аспекты судов над государственными преступниками, политику правительства в отношении последних, поведение народовольцев во время процессов, а также реакцию общества. Как показывает Н.А. Троицкий, для революционеров судебный процесс был своеобразным «актом революционной борьбы»[325], дававшим возможность заявить о целях партии, объяснить выбор средств, склонить общественное мнение на свою сторону. Несмотря на то что публика на подобные процессы допускалась в ограниченном количестве, по билетам, а некоторые процессы и вовсе проходили при закрытых дверях, отчеты о крупнейших из них все же печатались полностью. Последнее обстоятельство способствовало более широкой, чем то позволяли возможности нелегальных типографий, пропаганде взглядов «Народной воли». Со своей стороны правительство также стремилось использовать материалы судебных процессов, чтобы представить революционеров в неприглядном виде. Именно такую цель преследовало широкое освещение процесса «нечаевцев» в 1871 году[326]. Неудачи, которые правительство потерпело в 1871 году и во время последующих процессов, привели к постепенному сворачиванию гласности судопроизводства. Отчеты стали публиковаться с купюрами в местах «тенденциозных выходок»[327]; по ходу процесса председатель должен был сердить к минимуму возможность превращения скамьи подсудимых в трибуну. Так, на процессе «первомартовцев» сенатор Э.Я. Фукс 19 раз прерывал речь А.И. Желябова требованиями «не впадать в изложение теории»[328]. Отчет о судебном процессе позволял правительству обнародовать и собственную версию происходящего: чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть на формулировки в обвинительных актах и приговорах. Той же цели служила публикация многочасовой обвинительной речи прокурора Н.В. Муравьева по делу 1 марта 1881 года. Наконец, важным средством дискредитации террористов стали показания Г.Д. Гольденберга, использовавшиеся на «Процессе Шестнадцати» и процессе по «делу 1 марта». Таким образом, отчеты о судебных процессах становились важной частью информационного поля, позволяя услышать два голоса: обвинителей и обвиняемых. Публика, разумеется, больше интересовалась вторыми. Отчеты о процессах давали возможность хотя бы отчасти ответить на волновавшие общество вопросы: кто же такие «крамольники» и чего они хотят.1. Судебная хроника народовольческих процессов
Первым народовольческим процессом был процесс в Киевском военно-окружном суде 27 февраля 1880 года по обвинению студента Иосифа Розовского в распространении прокламаций Исполнительного комитета. С 14 по 26 июля в Киеве судились участники объединенного кружка народовольцев и чернопередельцев, 19 августа там же слушалось дело Каменец-Подольской группы «Народной воли», наконец, в Харькове с 22 сентября по 2 октября 1880 года — дело Харьковской группы «Народной воли». Эти процессы ничем не выделялись из ряда других политических процессов того времени и особого внимания публики не привлекли. Кроме того, их стенограммы не были опубликованы. В печати появились лишь краткие заметки, содержавшие изложение обвинений и приговор. Читатели, следившие за судебной хроникой, едва ли могли отличить, к примеру, дело Харьковской группы «Народной воли» от дела кружка М.Я. Геллиса (26–30 марта 1880 года), если в газете было сказано, что и те и другие обвиняются в «государственном преступлении»[329]. Из «Судебных вестей» в газетах можно было узнать, что в империи совершаются «политические преступления»[330], произносятся «возмутительные речи»[331], «распространяются возмутительные сочинения»[332]и «революционные идеи, имеющие целью ниспровержение и изменение порядка государственного строя»[333]. Большинство подсудимых на политических процессах обвинялось в принадлежности к «тайному противозаконному сообществу, имеющему целью ниспровержение, путем насилия, существующего государственного и общественного порядка»[334], причем иногда уточнялось, что это сообщество называется «русскою, социалистическою, революционною (социально-революционною) партией»[335]. В конгломерате подчас разрозненных революционных кружков правительство в лице судей и прокуроров желало видеть единую организацию — «социально-революционную партию», за принадлежность к которой по 242-й статье Уложения о наказаниях полагалась смертная казнь[336]. Так, подсудимые народовольческого «Процесса Шестнадцати» обвинялись в принадлежности к «тайному сообществу, именующему себя социально-революционной партией», причем «Народная воля» рассматривалась как «фракция» этой партии[337]. Только на процессе по «делу 1 марта» появилась новая формулировка: «Сообщество, именуемое или “Социально-революционной партией”, или партией “Народная воля”, и, в частности, “террористическим отделом”»[338]. Таким образом, первые процессы «Народной воли» не выделялись из массы прочих политических процессов того времени. Читатели газет, если только они внимательно следили за судебной хроникой, пребывали в убеждении, что в России существует «социально-революционная партия», члены которой совершают все государственные преступления — от покушений на Священную Особу Государя Императора до подделки видов на жительство. Прошедший с 25 по 30 октября 1880 года «Процесс Шестнадцати» наконец-то внес ясность в происходящее. В первую очередь, было окончательно выяснено существование партии «Народная воля», название которой до тех пор было известно лишь благодаря сообщению правительства об аресте типографии в Саперном переулке[339] и отрывочным сведениям о содержании номеров ее нелегального издания. Благодаря показаниям Г.Д. Гольденберга стало известно о Липецком съезде (в июне 1879 года) и принятых на нем решениях. Еще до начала судебных заседаний часть информации просочилась в печать. В частности, газеты сообщили о Липецком съезде, но в очень искаженном виде. В заметке «Современных известий» съезд был отнесен к 1877 году, поэтому покушение А.К. Соловьева было представлено именно как решение съезда[340]. Только в ходе «Процесса Шестнадцати» публике стало ясно, что покушения на цареубийство посредством взрывов — действия «Народной воли», в то время как за выстрелы А.К. Соловьева и февральское покушение И.О. Млодецкого на М.Т. Лорис-Меликова партия не отвечает[341]. В обвинительном акте были изложены новые подробности покушения 19 ноября 1879 года, почти совсем неизвестные обществу обстоятельства неудавшегося покушения под Александровском, сведения о взрыве в Зимнем дворце, а также о вооруженном сопротивлении при аресте типографии в Саперном переулке. Как говорилось в обвинительном акте, это дело «объемлет большинство совершенных за последнее время тяжких злодеяний»[342]. По объему новой информации о деятельности террористов и тому резонансу, которое оно вызвало, это дело было действительно сенсационным. Присутствовавший на суде известный экономист В.П. Безобразов писал, что только на процессе он окончательно уяснил, что «все это [все покушения. — Ю.С.] одно мерзостное дело, имевшее один центр»[343]. Цареубийство 1 марта 1881 года повлекло за собой еще более громкий процесс «первомартовцев», проходивший с 26 по 29 марта 1881 года в Особом присутствии Правительствующего сената. Обвинительный акт содержал в себе не только уже известные к тому времени подробности цареубийства и подкопа на Малой Садовой, но сведения обо всей подготовке к этим покушениям, о конспиративных квартирах, нелегальных типографиях, а также новые обстоятельства покушений под Александровском и под Москвой[344].2. Прокуратура, защита, подсудимые: споры о терроре в зале суда
Законодатели XIX века не выработали представление о том, что терроризм является самостоятельным правонарушением. Преступления, совершенные народовольцами, входили в разряд «государственных преступлений». Террористический акт, направленный против императора, квалифицировался как «преступление против Священной Особы Государя Императора», что в соответствии с 241-й статьей Уложения о наказаниях влекло за собою лишение всех прав состояния и смертную казнь[345]. При этом преступлением считалась не только попытка покуситься на жизнь государя, но и «предложение другому» участвовать в покушении, «составление на сей конец заговора или сообщества», «вступление в таковое сообщество или заговор», «словесное или письменное изъявление своих намерений о том, мыслей и предположений» (Ст. 242)[346]. К смертной казни в таком случае приговаривались не только участники, но и «пособники, подговорщики, подстрекатели, попустители», «укрыватели виновных в сем», а также те, кто знал, но не донес о злоумышлении (Ст. 243)[347]. Прочие террористические акты — покушения на должностных лиц и даже полицейских агентов квалифицировались как «бунт против Власти Верховной», что также влекло за собою смертную казнь (Ст. 249)[348]. По определению обвинительного акта «Процесса Шестнадцати», «террористы» — это те, кто использует «насильственные, кровавые меры для пропаганды своих идей»[349]. Источниками такого представления о терроре послужили показания Г.Д. Гольденберга и С.Г. Ширяева, а также напечатанная в № 3 «Народной воли» программа партии. Обвинительный акт заимствовал сложившееся в среде самих революционеров мнение о причинах и целях использования террора. В частности, указывалось, что террор революционеров является «мерой противодействия правительственным репрессалиям», «местью высшим правительственным агентам»[350]. На основании показаний С.Г. Ширяева и программы партии делался вывод, что террор служит, с одной стороны, для уничтожения вредных для партии лиц, защиты ее от шпионов, а с другой — для усиления значения партии, подъема «революционного духа народа и веры в успех дела»[351]. Аналогичное понимание террора демонстрирует обвинительный акт по делу «перво-мартовцев». Показаниями Г.Д. Гольденберга было сформировано и представление о том, что историю нового витка революционной борьбы следует начинать с Липецкого съезда, а ответственность за взрывы возлагать на сформировавшийся тогда Исполнительный комитет. Следует отметить, что если обвинительный акт по делу «Шестнадцати» написан сухим юридическим языком, то обвинительный акт, азатем и приговор по делу 1 марта 1881 года заключают в себе ряд эмоциональных определений, посредством которых особенно ярко выражалось отношение к произошедшему цареубийству. Последнее описывалось как «злодейское посягательство», «величайшее злодеяние», «неслыханное по гнусности своей и бедственным последствиям преступление», «роковое событие, которое оплакивает ныне русский народ»[352]. Подобные эмоциональные формулировки обвинительного акта и приговора перекликались с обвинительной речью прокурора Н.В. Муравьева[353], который охарактеризовал дело как «величайшее злодеяние», «преступление, подобного которому не знает история человечества»[354]. В изложении обстоятельств 1 марта и при его оценке Н.В. Муравьев шел за сложившимися ко времени процесса стереотипами. Цареубийство было представлено не как проявление «могущества» преступников, но как сошедшиеся в один день воля Провидения, «особая злостность адски задуманного плана», «простое сцепление роковых случайностей», а также поведение самого императора, отказавшегося уехать с места первого взрыва, чтобы «оказать последнее участие умирающему ребенку»[355]. Н.В. Муравьев видел в смерти Александра II не только «мученичество», но и проявление героизма: «Он пал и как воин-герой на своем опасном царском посту, в борьбе за Бога, Россию, ее спокойствие и порядок, в смертельном бою с врагами права, порядка, нравственности, семьи»[356]. Если обвинительные акты и приговоры народовольческих процессов при изображении террора и его причин в целом шли за показаниями обвиняемых и программными документами партии, то Н.В. Муравьев, ссылаясь на материалы «Процесса Шестнадцати», видел в его основе не только «озлобленность неудачами и преследованиями», «своеобразно понятые партийные интересы», но и «честолюбие» — «репутация Геделя, Нобилинга и других не давала спать русским их единомышленникам»[357]. Для характеристики террора как системы политической борьбы прокурор прибег к опубликованной за границей брошюре Н.А. Морозова «Террористическая борьба», хотя та не имела отношения к программе «Народной воли» и вызвала неодобрение членов партии. Намеренно сгущая краски с помощью цитат из труда Морозова, он доказывал, что русские террористы создали «теорию кровопролития», смысл которой в соединении несистематических покушений в «общий поток». Особенно возмущало прокурора, что террористы в своих подпольных изданиях «с гордостью заявляют», что новые способы борьбы (т. е. динамит) связывают возможность совершения удачного покушения с возможностью спасения для убийц. Отвечая на вопрос, какова та цель, которую террористы пытаются достигнуть с помощью убийств, обвинитель указывал, что в основе всего — «лжеучение» социализма, выросшего на Западе и «совершенно чуждого» России. Позаимствовав у Европы учение «с виду красивое, звонкими фразами обставленное, страсти будящее, разжигающее» и не имея нравственной опоры, русские революционеры «бросились на скользкий путь», стали смотреть на Россию «не как на отечество, а как на объект социальнореволюционных мероприятий, для которых все средства хороши»[358]. Н.В. Муравьев старался уверить публику, что преступление 1 марта «наносное», недуг «неорганический», несвойственный русскому народу. Причины его лежат не в конкретных обстоятельствах русской жизни, а в личных качествах тех, кто поддается пропаганде: в отсутствии «нравственного устоя и собственного внутреннего содержания», жажде «поприща обширного, заманчивого, легкого, льстящего самолюбию». Стараясь сорвать маску с «непрошеных благодетелей», обвинитель изобразил несколько типов революционеров: «слабый характером» Николай Рысаков, «грубый, неразвитой, малограмотный простой рабочий» Тимофей Михайлов, «неинтеллигентная еврейка» Геся Гельфман, с одной стороны, и «типичный конспиратор», «революционный честолюбец» Желябов, «хладнокровно циничная», «безнравственная» Перовская и вроде бы «посвятивший себя служению науке» Кибальчич, который на самом деле «мягко стелет, да жестко спать». Н.В. Муравьев утверждал, что всех подсудимых этого процесса, как и вообще всех государственных преступников, можно объединить в один тип, причиной появления которого в России стали отсутствие семейных связей и дурное влияние школы[359]. Ответственность за развязанный террор прокурор все же возлагал не на конкретных исполнителей покушений («…как бы низко ни пал человек […], он содрогнулся бы и остановился бы перед ужасом цареубийства»[360]), а на партию, которая за ними стояла. При этом прокурор с помощью разнообразных риторических приемов пытался лишить дело политического характера. Он отказывал «Народной воле» в праве называться «партией» или даже, в соответствии с формулировками закона о государственных преступлениях, «преступным тайным сообществом», настаивая на определении «подпольная банда» и «шайка», «разбойничье соединение», во главе которого стоял «атаман» Желябов[361]. Всю деятельность «Народной воли» он сводил к горе бумаг, «от которых ни одному бедняку жить не стало легче», «совращению» поддавшихся пропаганде юношей, убийству «верных слуг Престола», вызыванию «паники среди мирных граждан» и, наконец, «предательскому» убийству Великого Монарха[362]. Сгущая краски, представляя цареубийц «безнравственными фанатиками», прокурор не столько старался доказать вину подсудимых, без того очевидную, сколько повлиять на общественное мнение, вызвав отвращение к преступникам. Несомненно, то видение дела, которое в своей эмоциональной, наполненной риторическими приемами речи представил прокурор, соответствовало ожиданиям правительства. Многочасовое выступление было опубликовано полностью (кроме тех мест, в которых Муравьев зачитывал программные документы партии), а карьера талантливого обвинителя с этого момента резко пошла вверх. В целом речь Н.В. Муравьева не была оригинальной. В ней нашли отражения сложившиеся за месяц формулировки, употреблявшиеся при характеристике цареубийства. Ценность ее состояла не в новом видении фактов, а именно в талантливом их изложении, способности заражать слушателя и читателя негодованием и «мучительным отвращением». Судебные процессы давали возможность высказаться и самим террористам. Впервые «экспертами» по проблеме терроризма выступили на «Процессе Шестнадцати» А.А. Квятковский и С.Г. Ширяев. Оба они настаивали на второстепенном значении террора для «Народной воли». Возражая против утверждения обвинительного акта, будто «Народная воля» является «террористической партией» или «фракцией», А.А. Квятковский доказывал, что «никакой собственно террористической партии совсем не существует в России»[363]. С.Г. Ширяев утверждал, что убийства стали реакцией на репрессии правительства, но служили не достижению целей партии, а ее «интересам»[364]. Также подсудимые заявляли, что дальнейшие покушения на императора зависят от того, продолжит ли правительство политику «белого террора». На этом же процессе прозвучал голос еще одного террориста, чьи показания были важны для правительства не только вследствие сделанных им разоблачений, но и того отношения к террору, которое в них было выражено. Речь идет о показаниях арестованного 14 ноября 1879 года в Елизаветграде с полутора пудами динамита Г.Д. Гольденберга, повесившегося 15 июля 1880 года в Петропавловской крепости[365]. Показания Гольденберга были ценны для правительства тем, что это было свидетельство террориста (убившего 9 февраля 1879 года харьковского генерал-губернатора Д.Н. Кропоткина), но террориста раскаявшегося, осознавшего, что его товарищи «избрали не то средство» и что жертвы были «напрасными»[366]. Повторяя устоявшееся среди народовольцев мнение, что террор стал ответом на правительственные репрессии, Гольденберг в то же время соединял этот тезис с противоположным: казни стали возмездием со стороны власти, ответом на «красный террор»[367]. В этой борьбе у социалистов нет шансов уцелеть, победителем из нее выйдет правительство, которое «не уступит до тех пор, пока все движение не будет подавлено»[368]. Кроме того, уверял Гольденберг, в настоящее время правительство «начало отрадное движение в сторону политических реформ», которому террор революционеров может помешать. Разумеется, эти показания были прекрасным средством агитации в поддержку правительства и против революционеров. Если убийца Д.Н. Кропоткина, участник покушений под Александровском и под Москвой, готов признать ложность дела террористов, значит, оно заведомо проиграно. «Процесс Шестнадцати» позволил публике узнать два взгляда революционеров на террор. При этом обществу едва ли было известно, что ни та ни другая точка зрения не соответствовали представлению о терроре остававшихся на свободе народовольцев, продолжавших практиковать его как средство политической борьбы. Процесс «первомартовцев» дал возможность высказаться по поводу этой проблемы другим лицам. Двое из них, хотя и были непосредственными исполнителями террористического акта (Н.И. Рысаков, бросивший первую бомбу, и Т.М. Михайлов, бывший одним из «метальщиков»), вряд ли могли выступить в качестве «экспертов» в вопросе о терроре. Рысаков только повторял основные тезисы партии: террор служит, «во-первых, для охранения революционного движения; во-вторых, для того, чтобы доказать народу силу и тем “высоко держать свое знамя и доставить ему обаяние”; в-третьих, как ответ на строгие репрессивные меры правительства», от себя же добавлял, что цареубийство должно было стать «выходом из общего натянутого и тягостного положения, единственным средством создать новые, удобнейшие условия жизни и деятельности социалиста как деятеля во имя блага народа»[369]. В последнем слове Н.И. Рысаков вообще заявил, что «систематизированный террор всецело отрицает» и в этом присоединяется к Г.Д. Гольденбергу[370]. Тимофей Михайлов и вовсе утверждал, что террор служит для охраны рабочих от шпионов, «избиения не любимых рабочими мастеров»[371]. Иную точку зрения пытались донести до публики лидеры партии А.И. Желябов и С.Л. Перовская. Первый отказался от защитника, чтобы постараться произнести на суде программную речь. Пытаясь, вопреки одергиваниям сенатора Э.Я. Фукса, обрисовать историю революционного движения, А.И. Желябов доказывал, что переход к террору был вынужденным, партия «не всегда действовала метательными снарядами» и, если бы представилась возможность, партия отказалась бы от террора[372]. Опровергая, с одной стороны, показания Г.Д. Гольденбер-га, а с другой — взгляды Н.А. Морозова, за которые партия не несет ответственности, А.И. Желябов убеждал, что деятельность «Народной воли» не следует сводить только к террору: конечной целью был «насильственный переворот путем заговора»[373], а террор — только средством. С.Л. Перовская могла добавить к этому только то, что упорство в покушениях на жизнь императора «было вызвано убеждением, что усопший Государь никогда не изменит ни своего отношения к партии, ни своей внутренней политики»[374]. Таким образом, обвиняемые двух народовольческих процессов высказали разные мнения о сущности и причинах террора. С одной стороны, все они в той или иной мере повторяли точку зрения, сложившуюся в среде революционеров: переход к террору был вынужденным, он был вызван жестокими репрессиями правительства. Расхождения начинались уже в определении целей: А.А. Квятковский и С.Г. Ширяев утверждали, что террор является средством возмездия и охраны, а не методом достижения конечной цели партии. Г.Д. Гольденберг добавлял к этому, что убийства «заменяют свободное слово», а обнародованная программа партии, которую в основном повторял Н.И. Рысаков, видела в терроре средство, позволяющее «подрывать престиж правительства» и вырабатывать революционные силы. Далее, если Г.Д. Гольденберг практически абсолютизировал значение террора в деятельности партии, то остальные подсудимые, напротив, старались доказать, что «Народная воля» отнюдь не партия террористов и что политические убийства и цареубийство никогда не были для нее самоцелью. Материалы процесса «первомартовцев» позволяли услышать еще один голос — присяжных поверенных, выступавших в какой-то мере представителями общества[375]. Защитниками подсудимых на процессе «первомартовцев» стали А.М. Унковский (адвокат Н.И. Рысакова), К.Ф. Хартулари (Т.М. Михайлова), А.А. Герке 1-й (Г.М. Гельфман), Е.И. Кедрин (С.Л. Перовской), В.Н. Герард (Н.И. Кибальчича), ранее принимавшие участие в других народнических процессах. Каждый из защитников начал свою речь с оправдания, почему, несмотря на «ужас» преступления 1 марта, он решается сказать слово в защиту подсудимого. Защита шла примерно по одной линии, которую определил А.М. Унковский: не защищая «злодеяния», защитить «только лицо, которое его совершило»[376]. Все адвокаты стремились найти в характере обвиняемых, в обстоятельствах их жизни что-то, что могло хоть отчасти смягчить их вину. При этом на первый план вышел вопрос, каким образом молодые люди превращаются в революционеров, а затем в террористов. Ответ был в общем традиционным: само общество порождает этих людей. В нем отсутствуют «нравственные принципы», «семейные начала», утверждал А.М. Унковский[377]. О том же, ссылаясь на московскую речь Александра II, говорил защитник Г.М. Гельфман: равнодушие семьи и общества к молодежи ведет к ее «одичанию», а затем и к скамье подсудимых[378]. Присяжный поверенный В.Н. Герард добавил к этому излишне суровые административные меры, которые были направлены на обвиняемых предыдущих политических процессов[379]. Защитник С.Л. Перовской утверждал, что ее по «скользкому пути» заставила пойти административная ссылка[380]. Стараясь найти для своих подзащитных смягчающие вину обстоятельства, присяжные поверенные касались в основном их личной деятельности, не затрагивая партии или проблемы террора. Единственным исключением был В.Н. Герард, который, во-первых, попытался ответить на вопрос, «откуда может являться террористическая партия в России»[381], а во-вторых, доказать, что его подзащитный Н.И. Кибальчич террористом не является. Ответ на первый вопрос был прерван первоприсутствующим сенатором Э.Я. Фуксом, попросившим адвоката «не утомлять» Особое присутствие «излишними подробностями»[382]. Представленная адвокатом аргументация по второму вопросу очень интересна, так как позволяет выявить некий стереотип в восприятии террориста, которому, как утверждал В.Н. Герард, Н.И. Кибальчич не соответствовал. Ссылаясь на найденную у подсудимого рукопись «Переходное положение для земства», он утверждал, что настоящий террорист не стал бы писать о таком вопросе, потому что «для террориста никакой администрации не нужно: для него нужна полная нивелировка всего»[383]. Материалы судебных процессов, публиковавшиеся во всех центральных и местных газетах, были важным источником информации о терроре 1879–1881 годов для представителей русского общества. Даже в том случае, когда публиковались только обвинение и приговор, они давали возможность следить за развитием событий. Гораздо большее значение, разумеется, имели стенограммы народовольческих судебных процессов. Суд был своеобразным состязанием «Народной воли» и правительства за право толковать происходящие события в желаемом каждой из сторон ключе. Разумеется, правительство имело в этом случае больше возможностей: оно не только представляло свою позицию через формулировки обвинительного акта, приговора, а также — во время процесса «первомартовцев» — речи обвинителя, но и существенно ограничивало возможность высказаться для террористов, печатая их речи с купюрами, пропуская зачитывавшиеся на процессе программные документы партии. Тем не менее народовольцы могли использовать скамью подсудимых в качестве трибуны, чтобы предложить обществу свой взгляд на происходящее. Судебный процесс давал возможность влиять на мнение более широкой аудитории, чем та, что была у подпольной литературы. Голос общества, представленного на процессах присяжными поверенными, был слаб. Не смея в Особом присутствии Правительствующего сената выступить с оправданием действий подсудимых, защитники все же попытались смягчить их вину, переложив часть ответственности на общество, воспитавшее террористов, и таким образом признав тяжелое состояние последнего. Материалы судебных отчетов кроме собственно информации о том или ином покушении давали мало нового в плане объяснения террора: стороны пользовались уже сложившейся системой аргументации. Именно общее внимание, которое вызывали судебные процессы, позволяет говорить о том, что опубликованные материалы являлись важным фактором формирования информационного поля и общественного мнения.ГЛАВА IV ВЛИЯНИЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ НА ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ПОЛЯ
Обращаясь к текстам, опубликованным на страницах газет и журналов, я рассматриваю их как часть информационного поля вопреки традиции, в соответствии с которой периодическая печать нередко отождествляется с общественным мнением. Последняя точка зрения обусловлена двойственной природой печати, являющейся как формой проявления общественного мнения, так и средством его формирования, причем отделить одно от другого не представляется возможным. В.Г. Чернуха в работе «Правительственная политика в отношении печати» пишет, что до 1905 года в связи с отсутствием других форм выражения общественного мнения печать имела особое значение, была основной его формой, и термины «общественное мнение» и «печать» в это время употреблялись как синонимы[384]. Мой выбор исследовательской позиции вызван в первую очередь специфическим положением печати в условиях существования цензурных запретов. «Верное», с точки зрения правительства, освещение покушений на императора было столь важным, что цензура строго следила не только за тем, чтобы в печати не появлялось недозволенных статей, но и за тем, чтобы публиковались статьи, осуждающие террористов. Редакция журнала «Отечественные записки» в 1880 году получила выговор за то, что сообщение о взрыве в Зимнем дворце было опубликовано в неподобающем месте (в разделе объявлений) и без выражения порицания или неодобрения[385]. Журналист Г.К. Градов-ский в воспоминаниях писал: …когда совершались те или другие политические преступления, на нашей журналистике лежала тягостная повинность. Надо было возмущаться и огорчаться […]. Отсюда получалось двойное неудобство: никто не верил этому напускному негодованию, и все сколько-нибудь порядочные газеты предпочитали или молчать, или говорить крайне сдержанно […], кому же охота прослыть лицемером[386]. Несвобода печати проявлялась в том, что о некоторых проблемах журналисты говорили только экивоками, о других же не писали вовсе. Также не стоит забывать об информативной функции печати. То, каким образом сообщались подробности покушений, не менее важно для этого исследования, чем рассмотрение аналитических статей о причинах терроризма и методах борьбы с ним. Для исследования были выбраны универсальные газеты, издававшиеся в Петербурге и Москве. На такой выбор повлияло несколько факторов: во-первых, существование крупных телеграфных агентств предопределяло вторичность информации, получаемой провинциальными изданиями[387]. В интерпретации событий последние также ориентировались на статьи столичных журналистов, подчас перепечатывая их целиком[388]. Круг изучаемых газет не ограничивается только так называемой «большой прессой», ориентированной на образованного читателя, стремившегося получать полную и достоверную информацию. Исследование «малой прессы» («Петербургский листок», «Петербургская газета» и т. п.) позволяет проанализировать, каким образом информация о террористических актах подавалась в газетах, предназначенных для городских обывателей[389]. Кроме того, если в обычной ситуации журналисты «Голоса» или «Московских ведомостей» мало обращали внимания на статьи «бульварных» газет, то в чрезвычайной ситуации марта 1881 года перепечатывалась любая информация, независимо от того, в какой газете она впервые появилась. «Большая пресса» в 1879–1881 годах делилась, в зависимости от политического направления, на либеральные и «охранительные» издания. Либеральный лагерь был представлен такими газетами, как «Молва», «Голос», «Новости», «Русская правда», «Страна», «Порядок» (в Петербурге) и «Русские ведомости», «Русский курьер», «Земство» (в Москве)[390]. Признанным лидером противоположного лагеря был М.Н. Катков, рупором которого были «Московские ведомости»[391]. Среди изданий этого направления можно также назвать «Берег», «Санкт-Петербургские ведомости», «Современные известия», «Новое время»[392]и славянофильскую газету И.С. Аксакова «Русь»[393]. Обращаясь к анализу печати и ее воздействия на информационное поле, следует иметь в виду, что, даже выбирая одно, близкое себе по духу издание, читатель знакомился с позицией всех остальных более или менее значительных газет и отчасти журналов. Ни одна газета не была монофоничной: читатель «Московских ведомостей» знал, что пишут в «Голосе», и наоборот. Знакомство это происходило не только благодаря полемическим статьям, которыми обменивались противоборствующие литературные лагери, приводя пространные пассажи своих противников, но и вследствие общепринятой практики перепечатывать статьи и заметки других газет либо в специальном разделе, как, например, «Из газет и журналов», либо среди «Внутренних известий». Более того, существовали специальные издания, жившие за счет перепечатки статей своих более богатых собратьев, — к таким относились газеты «Улей» и «Эхо газет»[394]. Эта особенность печати второй половины XIX века позволяет утверждать, что читательская аудитория, вне зависимости от политических пристрастий, имела возможность ознакомиться со всеми возможными вариантами описания и объяснения террора и выбрать наиболее импонирующее. Обращение к журналам дает более скромный результат: сообщения о террористических актах появлялись в них месяц спустя или еще позднее, когда эта информация переставала быть актуальной. Большинство журналов ограничивалось минимальными комментариями к покушениям либо обзором мнений, высказанных по этому поводу в газетах[395]. Исключение составляют «Внутреннее обозрение» в мартовском номере «Вестника Европы» (1880 год), «Внутреннее обозрение» журнала «Русская речь» (январь 1880 года) и статья О.Ф. Миллера «Ужасная логика» в «Историческом вестнике». Они привлечены здесь для анализа.1. Освещение террористических актов в периодической печати
Русская периодическая печать всегда претендовала на особую роль: быть «органом общественного мнения», «отражением общества» и даже его «воспитательницею»[396]. На деле же она не могла избегнуть выполнения совсем иной обязанности — информировать своих читателей о том или ином событии. Подчас такая чисто информативная функция воспринималась журналистами как «жалкая роль». Тем не менее чем значительнее было событие, тем больше читатели желали знать подробностей и тем меньше их интересовало личное мнение того или иного публициста. Покушения «Народной воли» относились к разряду тех событий, которые низводили печать до уровня «торопливой летописи», а порой и простой «афишки»[397]. Подробности взрыва 19 ноября 1879 года, благодаря требованию генерал-губернатора В.А. Долгорукова, освещались только московскими газетами. Наиболее полно покушение было описано в «Московских ведомостях», где были помещены «Официальные сведения о взрыве на Московско-курской железной дороге», «Рассказ очевидца» (21 ноября), а также описание «дома Сухоруковых» (25 ноября). Прочим газетам оставалось только рассуждать о степени виновности железнодорожной администрации[398] и комментировать сообщения катковского издания. Журналисты поспешили обратить внимание читателей на новый способ совершения преступления, подчеркивая его «сложность» и необходимость долгой подготовительной работы, а также знаний[399]. Характерно, что «еще более ужасным» он был назван только в газете «Неделя»[400]. Вероятно, отсутствие жертв привело к тому, что на более разрушительные, по сравнению с кинжалами и револьверами, свойства динамита первоначально особого внимания обращено не было. Следует отметить, насколько полно в этом случае и позднее в печати описывались технические подробности взрывов. За те полтора года, в течение которых «Народная воля» использовала динамит, читатели имели возможность получить немало сведений о минном деле, гальванических батареях, бикфордовом шнуре, нитроглицерине, смешанном с магнезией, и т. д., а также о тех публикациях по минному делу, которые можно найти в Публичной библиотеке. Газеты серьезно и точно приводили сведения военных специалистов и дажеприлагали схемы взрывных устройств и метательных снарядов. А.Ф. Тютчева, возмущаясь ведением процесса по «делу 1 марта», писала вел. кн. Сергею Александровичу, что единственное, что можно почерпнуть из отчета по нему, — это «удобный способ изготовления динамита, которым, вероятно, не преминет воспользоваться наша предприимчивая молодежь»[401]. В статье газеты «Новое время» организация взрыва под Москвой сравнивалась с ловушкой на зверя, причем такой, «которую честный охотник постыдился бы поставить»[402]. Этот комментарий относился к широко растиражированному газетами описанию обстановки дома, откуда произведен был взрыв. Стремясь отвести подозрения, народовольцы позаботились не только о лампадах перед иконами, но и о портретах высочайших особ и даже «украсили» дом лубочной картинкой, изображающей посещение Александром II раненых в военно-походном госпитале[403]. День за днем печать старалась поддерживать интерес к покушению, сообщая новые подробности о приобретении дома «мещанином Сухоруковым», привлечении к дознанию нотариуса, оформлявшего сделку, и т. д. Впрочем, уже 27 ноября фельетонист Оса (И.А. Баталин) утверждал, что «газеты исчерпали уже всю внешнюю сторону преступления», — так он прокомментировал сообщение о белом коте, жившем в «доме Сухоруковых»[404]. Рассуждений о «внутренней стороне» покушения за взрывом 19 ноября последовало удивительно мало как в сравнении с последующими покушениями, так и с объемом статей, в которых описывалась «внешняя сторона». Впрочем, обстановка вряд ли способствовала высказыванию мнений о глубинных причинах террора и методах борьбы с ним. Накануне покушения после второго предостережения было приостановлено издание либеральной газеты «Голос». Остальные органы этого направления предпочли ограничиться заявлениями об «ужасе» перед террором и осуждением «крамолы»[405]. Только редакция газеты «Неделя» осмелилась утверждать, что покушения «являются продуктом какого-то органического порока общественной жизни во всем ее целом», и советовала исследовать, в чем именно он заключается[406]. Публицисты «охранительного направления», кроме М.Н. Каткова, также особых комментариев по поводу взрыва не давали. Спустя всего неделю журналисты перестали обсуждать покушение на железной дороге, обратившись к иным вопросам. Информационная ситуация, сложившаяся вокруг взрыва в Зимнем дворце, имеет как сходства, так и различия с событиями ноября 1879 года. Единственной газетой, напечатавшей сообщение о нем на следующий же день, стало «Новое время». Читателям, несомненно, знавшим о взрыве, произошедшем накануне вечером, объяснялось, что во дворце «вспыхнул пожар вследствие лопнувшей газовой трубы»[407]. Открывшаяся 7 февраля правда заставила журналистов «недоумевать»: «…почему первые известия говорили так мягко»[408]. В следующие несколько дней страницы газет были заполнены техническими деталями («Взрыв произведен, очевидно, зарядом динамита (около трех пудов), поставленным в русскую печь»[409]) и предположениями о неизвестном «столяре»[410]. Особое место занимало описание несчастья с солдатами караула, заимствованное из «Русского инвалида» с добавлением кровавых подробностей: «Положение раненых невозможно себе представить без боли в сердце […]. У кого вырвано плечо с рукою, у кого снесена половина головы, у кого вывалились внутренности, обагряя кровью острые обломки сводов»[411]. Почти сразу сообщения о взрыве в Зимнем дворце стали конкурировать с громким делом о выдаче Л.Н. Гартмана или «мещанина Сухорукова», единственного известного на тот момент организатора покушения под Москвой. Если покушение на императорский поезд уже через неделю перестало быть информационным поводом, то взрыв в Зимнем дворце послужил катализатором продолжительного и весьма эмоционального обсуждения проблемы террора в целом. На ситуацию повлияли не столько размах и дерзость террористического акта, осуществленного в императорской резиденции, сколько последовавшее за ним изменение политической ситуации. Создание Верховной распорядительной комиссии и особенно обращение М.Т. Лорис-Меликова «К жителям столицы» позволили журналистам, начав с обсуждения последнего покушения, перейти к политической ситуации в целом. Проблема террора зачастую служила лишь поводом для возвращения к дискуссии о школе, административной ссылке и необходимости дальнейших реформ. С 5 по 19 февраля (празднование юбилея царствования Александра И) страна и в особенности столица жили в напряженном ожидании нового покушения, потому статьи о терроре и новых замыслах террористов пользовались огромной популярностью. Напряжение пошло на спад только после неудачного покушения И.О. Млодецко-го на М.Т. Лорис-Меликова 20 февраля 1880 года: действия террориста были объяснены страхом, который испытывала «крамола» перед Главным Начальником[412]. Постепенно обсуждение не только террора, но и революционного движения в целом исчезало со страниц газет, заменяясь обсуждением более актуальных проблем. В новогодних номерах журналисты с оптимизмом писали об «умиротворении» страны и прекращении покушений[413]. Весть о катастрофе на Екатерининском канале распространялась в Петербурге без участия газет: очевидцы, жители окрестных домов, слышавшие «удары, похожие как будто бы на отдаленные, глухие выстрелы или на хлопанье больших дверей подъезда»[414], прислуга разносили эту весть по городу. В Москве, напротив, новость распространилась благодаря расторопности редакции «Московских ведомостей», получившей телеграммы из столицы почти одновременно с генерал-губернатором и, вопреки Цензурному Уставу, опубликовавшей их без разрешения властей. Журналисты отмечали, что общество, «поглощенное событием 1 марта», с нетерпением ожидало любых известий[415]. 2 марта, по свидетельству очевидца, невозможно было достать газет. Люди покупали вышедшие после обеда свежие номера по 75 копеек и даже по рублю[416]. Газеты были наполнены подробностями цареубийства и рассказами очевидцев: хроника произошедшего восстанавливалась до минуты. До 1 марта периодическая печать опасалась ступать на зыбкую почву описания самодержца как «мишени» для революционеров. Независимо от направления издания, его сотрудники предпочитали в этом случае перенимать уже готовые модели, которые предлагала Русская православная церковь, и даже публиковать тексты проповедей[417], причем происходило заимствование именно риторики, а не интерпретации событий. На протяжении 1879–1880 годов журналисты старались как можно меньше писать об императоре и сразу переходили к «крамоле» и мерам ее искоренения. Убийство Александра II и последовавшие за ним обязательные религиозные ритуалы — панихиды, перенесение тела, погребение — не позволяли избегать обсуждения императора как жертвы террористов. Описывая совершившееся цареубийство, газеты поневоле заговорили языком проповедей, не желая или не смея подбирать другие слова. С первых дней гибель Александра II стала изображаться на страницах газет в категориях религиозного мученичества, чему немало способствовал врачебный отчет, помещенный в газете «Голос», а вслед за тем и в прочих изданиях. «Обе голени ниже колен и до стопы были превращены в массу обрывков мускулов, на которых местами висели осколки костей», «мускулы составляли единственную связь между стопою и коленями обеих ног, потому что кости голеней были раздроблены и вышиблены взрывом», «одна нога была не только оторвана, но перевернута так, что пятка очутилась на месте пальцев»[418], — эти и другие кровавые подробности медицинского отчета дополнялись свидетельствами очевидцев катастрофы. «Ноги были изломаны, одежда местами изодрана; кровь текла из ног, и кровавые пятна были на снегу»[419], «он опирался рукою и тяжело дышал, видимо, стараясь приподняться […]. Не было ни сапогов [так. — Ю.С.], ни брюк, ни кальсон, а виднелась окровавленная масса, состоящая из мяса, кожи и костей»[420]. Обстоятельный медицинский отчет и эмоциональные рассказы очевидцев были переработаны журналистами в насыщенные и яркие описания. Читая о том, как «державный 63-летний старец пал на улице с раздробленными членами, обливаясь кровью»[421], нельзя было не согласиться с М.Н. Катковым, что монарх «истинно мученически окончил дни свои»[422]. Описание смерти императора в категориях религиозного мученичества избавляло журналистов от поиска иной, менее безопасной для них, интерпретации произошедшего. Во всех остальных случаях журналисты использовали предложенные церковью объяснения весьма избирательно. Когда речь заходила о том, кто такие «крамольники» или в чем именно состоят «грехи» русского общества, за которые оно подверглось столь страшному наказанию, они предпочитали игнорировать мнение проповедников и заострять внимание на политических и социальных проблемах, а не на упадке веры и потере нравственных ориентиров. После смерти государя между журналистами разных политических направлений началась борьба за «присвоение» его образа: все предлагавшиеся меры борьбы с революционным движением обосновывались как продолжение начинаний покойного, отвечавшие его чаяниям. На страницах либеральных газет Александр II прямо назывался «главой либерального движения и либеральных преобразований»[423]. В программной статье газеты «Голос» с красноречивым заголовком «Царский завет» давался ответ на вопрос, в чем заключается право Александра II на бессмертие: «Он не только освободил миллионы крепостных крестьян, но первый между русскими государями пошел по пути преобразований, имевших целью вызвать к жизни и к делу общественные силы народа…»[424] Эти статьи были оценены «Санкт-Петербургскими ведомостями» «как пляска Иродиады перед усекновением главы Иоанна Крестителя»[425]. Конечно, публицисты-консерваторы не могли отрицать очевидного — что Александр II был царем-реформатором, однако они отрицали какую-либо связь «освободительного и преобразовательного Царствования» с «пошлым либерализмом». «Мрачное злодеяние» должно было «обновить живую связь между властью и свободой, между Царем и народом в России»[426]. Огромный интерес вызывало у читателей расследование террористического акта. Хотя официальные власти как никогда щедро делились с обществом информацией о следствии по делу 1 марта, кратких правительственных сообщений о мещанине Н.И. Рысакове, разгроме конспиративной квартиры на Тележной улице, арестах Т.М. Михайлова и С.Л. Перовской было недостаточно[427]. Первым в центре внимания печати оказался Н.И. Рысаков. Интересно проследить, как менялся его образ по мере поступления сведений. В первыхчислах марта, до появления более или менее достоверной информации, журналисты при описании преступника пользовались стереотипным образом революционера: «…по отзыву товарищей — мало развитый человек, мало знающий, крикун, анархист»[428]. Затем выяснилось, что Н.И. Рысаков был взят в Горный институт по личной рекомендации попечителя Петербургского учебного округа как один из двух лучших выпускников череповецкого Александровского технического училища. В ход пошел образ «заблудшего юноши», задавленного бедностью. 7 марта газета «Русь» сообщила читателям, что «цареубийца» в институте «вел себя скромно […], усердно посещал лекции, преимущественно находился в библиотеке»[429]. Стал также известен факт получения Рысаковым денежного пособия[430]. Появлялись и другие сведения, далекие от достоверности, например о том, что дом родителей Н.И. Рысакова охраняется полицией от разъяренных жителей г. Вытегры, а отец его застрелился; что во время допроса преступника угощали папиросами и подали ужин из нескольких блюд[431]. В Петербурге ходил слух, что именно последнее известие стало причиной смерти коменданта Петропавловской крепости барона Е.И. Майделя[432]. О других арестованных по делу 1 марта в газетах можно было прочесть немного. «Довольно красивая»/«далеко не красивая» женщина «еврейского типа», возможно, сестра государственного преступника Дейча (Геся Гельфман)[433], «блондин, без бороды, с едва пробивающимися баками и необыкновенно здорового телосложения» (Тимофей Михайлов)[434], «женщина невысокого роста, худая, скромная, в внешности ничем не похожая на нигилисток»[435] (Софья Перовская) — эти приметы были в начале марта единственной информацией, которую газеты могли сообщить читателям. Интерес к Софье Перовской несколько возрос, когда выяснилось, что она «дочь человека, пользующегося общим уважением и занимавшего высокие должности»[436], но никаких новых сведений о ней, кроме тех, что возможно было извлечь из материалов процесса «193-х», журналисты отыскать не могли[437]. Андрею Желябову «повезло» чуть больше: очень подробный рассказ о его аресте был помещен в газете «Новости». Там же были приведены показания о нем Г.Д. Гольденберга: «…в высшей степени развитая и гениальная личность, принадлежит к партии “террористов”»[438]. Такая характеристика никак не вязалась с рассказом о А.И. Желябове газеты «Новое время»: за пять лет до цареубийства, впав в состояние «апатии и разочарованности жизнью», он собирался покончить с собой, но вместо этого занялся раздачей листовок, получаемых у какого-то незнакомца за сто рублей в месяц[439]. Куда больший ажиотаж в печати вызывали трое «неизвестных». И.И. Гриневицкий, личность которого была установлена только в середине апреля, за полтора месяца успел побывать «государственным преступником» Фоминым, «пресловутым» Стефановичем, «беглым преступником» Тютчевым и Саблиным[440]. Впрочем, мертвый, он был скорее загадкой, чем угрозой, в отличие от «держателя сырной лавки Кобозева». С 5 марта, когда газеты сообщили об открытии подкопа на Малой Садовой улице,[441] «Кобозева» (Ю.Н. Богдановича) и его «жену» (А.В. Якимову) «арестовывали» то в трактире на Петербургской стороне, то в Кронштадте[442]. Анна Якимова передавала в воспоминаниях свои впечатления от чтения газет: Чего-чего только не было в этих газетах! Оказывалось, что чуть ли не все догадывались, что это были поддельные торговцы […]. На основании показаний очевидцев красоты Кобозевой, на суде, когда нас в первый раз вводили в залу суда, обернувшись к двери, ожидали увидеть красивую мадам Кобозеву, а входит… противоположность этому, и один адвокат так был поражен неожиданностью, что не смог скрыть своего впечатления и при взгляде на меня громко фыркнул[443]. Вплоть до процесса «первомартовцев», когда реальные террористы предстали перед судом, эти и подобные им подробности были той информационной основой, на которой складывалось общественное мнение. В хаосе противоречивых сведений нелегко было отделить истину от лжи. Благодаря массе непроверенных и неподтвержденных сообщений ситуация рисовалась более угрожающей, а террористы более могущественными, чем то было в действительности. Впрочем, заметки, содержавшие только информацию, уже в начале марта исчезли с первых страниц газет, перейдя в раздел «Дневников» и «Хроник». Передовые статьи были целиком посвящены обсуждению сущности террора, причин его возникновения и методов борьбы с ним.2. Дискуссии о сущности террора
Анализ терроризма, явления нового, для которого пока не имелось готовых моделей объяснения, создавал серьезные трудности для публицистов. Необходимо было не только сообщать об очередном покушении, но и пытаться объяснять читателям происходящее, вложив новый смысл в понятие «террор», вошедшее в политический лексикон со времен Французской революции[444]. Слова «террор» и «террорист» приживались медленно: в комплексе публикаций, посвященных взрыву 19 ноября 1879 года, слово «террор» употребляется только один раз в статье «Петербургской газеты» как синоним «дикого насилия», используемого для «проповеди» вместо слова[445]. Тогда же в «Санкт-Петербургских ведомостях» было высказано мнение, что покушение невозможно было предотвратить, поскольку такие преступления «превышают степень неразвращенной, девственной народной фантазии»[446]. В целом террористический акт описывался как нечто выходящее за рамки любого повседневного опыта, нечто «непостижимое», «невероятное», «немыслимое»[447]. Только после взрыва в Зимнем дворце общие фразы наконец уступили место более глубоким размышлениям о происходящем. В обсуждении террора как метода политической борьбы на первый план всегда выходила нравственная сторона вопроса. Убийства и покушения на убийство безусловно осуждались как «высшая и подлейшая ступень в этой погоне за “торжеством идеи”»[448]. Для них невозможно было искать оправданий, поскольку «зло называется злом»[449], «здоровый организм никогда не дойдет до такого нравственного падения», чтобы усвоить «развратный принцип» о том, что цель оправдывает средства[450]. Использование «Народной волей» взрывчатых веществ усиливало резонанс, производимый террористическим актом, одновременно увеличивая число возможных жертв, включая лиц, не бывших целью покушения. В осуждении террора это обстоятельство стало немаловажным, когда после взрыва 5 февраля жертвы таки появились. «Рассчитанная гибель караульных солдатиков»[451], подкоп «на многолюднейшей улице [Малой Садовой. — Ю.С.] с намерением обратить в развалины громадные дома и похоронить под ними тысячи невинных жертв»[452] превращали террор в явление не только политически, но и личностно значимое. Со страниц «Вестника Европы» звучал приговор: «Из всех форм политического убийства наибольшего осуждения заслуживает та, которая не останавливается перед человеческими гекатомбами, лишь бы только в числе жертв пала одна, составляющая настоящий объект преступления»[453]. Использование террора как средства политической борьбы вызывало опасения журналистов и из-за его косвенных последствий. Во-первых, террористические акты создавали прецедент, легитимировали такой способ борьбы. Отныне не было никакой гарантии, что даже при «наилучшей воле, при наибольших усилиях» правители государств не смогут стать жертвой «одного фанатика, который решится насиловать ход событий»[454]. Во-вторых, они оказывали отрицательное влияние на состояние общественной нравственности: «…страх, ожесточение, равнодушие к чужому горю, презрение к чужому праву, потеря надежды на лучшее будущее — вот возможные, при известных условиях слишком вероятные, результаты образа действий, не разбирающего средств»[455]. Кроме этики, осуждая террор как метод политической борьбы, журналисты использовали и логику. Анализируя использование насилия с точки зрения его рациональности, они указывали, что оно прежде всего дискриминирует идею, во имя которой ведется[456]. В февральском обозрении «Вестника Европы» были перечислены последствия известных покушений в Германии: «…за покушением Беккера следует известный конфликт между Вильгельмом I и прусской палатой депутатов, за покушением Гёделя и Ноблинга — чрезвычайный закон против социал-демократов, покушение на жизнь Бисмарка в 1866 году не останавливает разрыв между Пруссией и Австрией, в 1874 году не смягчает применения майских законов»[457]. Из этого делался вывод, что если террористические акты и могут привести к переменам, то только в «духе прямо противоположном тому, которым были проникнуты виновники покушения»[458]. Несмотря на моральное осуждение, журналисты не оставляли попыток понять причины возникновения террора. В поисках смысла, который вкладывают в свои действия исполнители покушений, представители разных политических направлений приходили к одному и тому же заключению: «крамольники» оценивают свои действия в соответствии с некой теорией, оправдываются «софизмами», совершают «принципиальные» и «умозрительные» преступления[459]. Наиболее полно эта идея была развита в статье «Пророчество апостола Павла», опубликованной в газете «Русь». Ее автор писал, что «подпольные убийцы» изобрели себе в оправдание теорию, «что убийство политическое не есть убийство, а просто признак политических похвальных верований […]. Некоторые, особенно молодые люди, которые бы остановились с отвращением перед простым убийством, готовятся фанатически к убийству умозрительному»[460]. Само по себе цареубийство никогда не казалось журналистам конечной целью: Александр II был «умерщвлен не из личного мщения, не ради личной корысти, а именно ради того, что он Царь»[461]. Впрочем, вряд ли на страницах подцензурной печати мог появиться хотя бы намек на то, что император может быть в чем-то виноват перед «крамольниками», из-за чего последние мстят лично ему. Цареубийство понималось как средство, самая возможность успеха которого связывалась с «безграничной преданностью народа»: убить монарха — значит «одним ударом поколебать Россию в ее основаниях и повергнуть ее в бездну анархии»[462], «навлечь ненависть одной части народа на другую, возбудить междоусобицу, анархию»[463]. Отмечали журналисты и то, что террористические акты влияют на состояние русского общества, вызывая в нем тревогу, неуверенность в завтрашнем дне, «внося сильное разделение […] и порождая недоверие между различными его частями»[464]. В газете «Голос» было высказано предположение, что подобный эффект был «косвенной целью» террористов, добиться которой им вполне удалось[465]. Реагируя на покушение на М.Т. Лорис-Меликова 20 февраля 1880 года, М.Н. Катков утверждал, что «тайным заговорщикам» нужно было не убийство Главного Начальника, который только вступил в должность, а «демонстрация» — «нужно было произвести впечатление»[466]. Описывая взрыв в Зимнем дворце, он довел эту мысль до крайности, написав, что преступление было совершено, «только чтобы совершить, только потому, что оно велико»[467]. Определив террор в качестве метода политической борьбы, журналисты не могли пройти мимо той конечной цели, во имя которой он используется. Общепризнанным был факт, что террористы действуют в соответствии с каким-то учением. Не разбирая, к какому роду идей можно отнести программу «Народной воли», журналисты использовали при рассуждениях о террористах такие определения, как «нигилисты», «социалисты» и «анархисты». Можно утверждать, что для журналистов было важнее родство используемых ими слов, чем их смысловые различия. Как писал сотрудник газеты «Новое время»: «Во всех этих фанатиках, во всех этих поклонниках ужаса и крови есть что-то родственное, однородное, какими бы названиями и партиями они себя ни величали»[468]. Тем не менее в словоупотреблении можно различить некоторые особенности. Общим термином в глазах журналистов был термин «нигилист». Так можно было назвать как революционеров-пропагандистов, не имеющих отношения к убийствам[469], так и «нигилистов-террористов»[470]. Слово «анархист» чаще всего использовалось именно в связи с покушениями, как будто именно анархические идеи, с точки зрения журналистов, были ближе всего к идее политического убийства: «Наши анархисты, посягающие на жизнь главы государства, выделяют себя действительно из всех других преступников»[471]. Наконец, слово «социалист» употреблялось в текстах, в которых так или иначе говорилось об «учении», во имя которого совершаются террористические акты. Иногда подчеркивалось, что именно так «крамольники» называют себя сами[472]. Суть «социалистического» учения излагалась журналистами весьма туманно как «уничтожение преобладания капитала»[473], «извращение всего общественного строя»[474], «ниспровержение не государственного, а гражданского порядка»[475]. Очевидно, что более ясного изложения социалистических идей на страницах подцензурной печати просто не могло появиться. Порой русским революционерам даже отказывали в праве именоваться социалистами, сводя их учение к «нигилизму» и «анархии». В «Петербургской газете» утверждалось: …наши нынешние бунтари ничего не создают и создавать не намерены. Они не строят никаких теорий насчет будущего […]. Их задача ликвидировать не только государство, но и общество, а ликвидировать на их жаргоне означает стереть с лица земли все созданное веками исторической жизни[476]. Такого же мнения придерживался журналист либеральной «Молвы»: «…социальная пропаганда — это только предлог. Что у них никакой продуманной программы […], это лучше всего доказывают подпольные сочинения»[477]. При этом если «крамола» оценивалась как самостоятельное явление русской жизни, то конечной целью виделась «слава идей фанатика. Кровью и ужасом они хотят достичь своей цели, они воображают себя избранниками народа, они думают вырвать свободу на свой манер и лад, чтобы подарить ее России»[478]. В том случае, если журналисты усматривали в русской «крамоле» козни внешних врагов (эту идею особенно активно отстаивал М.Н. Катков), конечная цель революционеров виделась в том, чтобы «повергнуть страну в хаос и среди всеобщего смятения захватить власть и раздробить государство»[479]. Политическая часть программы «Народной воли» (требование ввести представительную форму правления) привлекала внимание журналистов «охранительных» изданий. В искренность конституционных требований «крамольников» не верили даже сотрудники «Берега», которые были рады уличить «надпольных» и подпольных «радетелей» в союзе. В этом требовании видели лишь новую тактику агитаторов, а не изменение сущности движения или конечной цели[480]. То же мнение было высказано в «Новом времени»: хотя «крамольники» и выставляют идею конституции, «как бандиты знамя мира», но на самом деле им нужна не она, а «самая широкая революция, резня, бешенство убийства, торжество крови»[481]. Следует отметить, что журналисты либеральных изданий никак политические требования «Народной воли» не комментировали. Столь дорогая им идея конституции и без того была скомпрометирована в глазах властей и «охранительных» кругов «родством» с идеями радикалов. Они предпочитали молчать, чтобы не давать лишние козыри в руки своим противникам. Подвергнув анализу такое сложное и новое явление, каким был терроризм в конце 1870-х годов, русские журналисты сделали несколько важных выводов о том, с какой целью революционеры прибегают к политическим убийствам. Во-первых, отмечалось, что покушения на императора не самоцель, но средство; во-вторых, что то впечатление, которое террористы своими действиями производят на общество, не менее важно, чем само покушение: «Анархисты имели в виду не только правительство, но и общество»[482]. Объяснить смысл покушений для террористов и поставленную ими конечную цель еще не означало дать ответ на вопрос, откуда взялись русские «крамольники» и каким образом они пришли к использованию подобных методов. Одним из очевидных путей поиска ответа было обращение к истории. Чаще всего журналисты брали за отправную точку одну из двух дат: покушение Д.В. Каракозова 4 апреля 1866 года либо покушение А.К. Соловьева 2 апреля 1879 года. Оба этих события задавали фокус дальнейшему рассмотрению проблемы: покушения народовольцев вписывались в рамки вопроса о цареубийстве, что исключало из рассуждений прочие террористические акты. При этом каждая из дат несла определенную смысловую нагрузку: 2 апреля подчеркивало частоту происходящего, концентрировало попытки цареубийства на коротком временном отрезке: «Пришлось Русской земле увидеть троекратное, в течение нескольких месяцев, покушение на жизнь ее Государя»[483]. 4 апреля 1866 года растягивало историю покушений во времени на пятнадцать лет: «В начале 1880 года разыгрался последний акт драмы, начавшейся очень давно — еще в 1866 году»[484]. Выстрел Д.В. Каракозова был знаковым событием царствования Александра II, с ним связывали перелом в ходе реформ. С него радикалы и либералы начинали эпоху «белого террора». В статьях журналистов-либералов эта дата сама по себе служила объяснением происходящего: «случайный» выстрел Каракозова, неверно оцененный правительством, привел к тому, что «через всю политику последних пятнадцати лет прошла грустная нота недоверия к народным силам»[485]. Нарастание революционного движения, кульминацией которого стали покушения на цареубийство, таким образом, ставилось в вину правительству: «…меры строгости оказались безуспешными; они не искоренили крамолы, а только обострили положение, увеличили число недовольных и, можно думать, усилили ряды той, первоначально незначительной группы, которая объявила войну государству и порядку»[486]. Постановка вопроса о деятельности «Народной воли» как вопроса о цареубийстве позволяла обращаться к более широкому историческому контексту. Оценка покушений на Александра II как «беспримерных» в истории народов[487] была скорее фигурой речи, чем констатацией факта. За такими рассуждениями следовали исторические примеры. «Поддающимися сближению фактами» фельетонист газеты «Молва» назвал убийства Генриха IV и Авраама Линкольна[488]. Еще более широкий исторический контекст был дан во «Внутреннем обозрении» журнала «Вестник Европы», в котором рассматривались все известные покушения на жизнь монархов со времен Гиппарха и Цезаря[489]. Подобные сопоставления скорее затрудняли понимание такого явления, как терроризм. Рассматривая деятельность народовольцев только как попытки совершить цареубийство, журналисты упрощали происходящее, видя в событиях лишь одну сторону. Существовала и другая версия генеалогии «крамолы», которая устанавливала связь между народовольческими попытками и другими террористическими актами, не направленными на императора. Самой очевидной точкой отсчета в ней было 24 января 1878 года — покушение В.И. Засулич на жизнь петербургского градоначальника Ф.Ф. Трепова[490]. При этом важен был не только и не столько сам террористический акт, сколько оправдание преступницы судом присяжных[491]. Покушения на Александра II также ставились в один ряд с убийствами и покушениями на должностных лиц в Киеве, Харькове и Петербурге. Менее популярной, но все же используемой точкой отсчета был процесс «нечаевцев». Эта дата особенно привлекала М.Н. Каткова, который неоднократно обращался в своих статьях к процессу 1871 года, доказывая, что именно он послужил «укреплению обмана, губившего нашу несчастную молодежь»[492]. Обнародованным «Катехизисом революционера» публицист предпочитал мерить все революционные организации и их цели[493]. Эта модель имела свои плюсы и минусы. С одной стороны, сосредотачиваясь только на ряде террористических актов, журналисты приходили к пониманию специфики терроризма. С другой стороны, вырванные из общего контекста революционного движения, террористические акты представали как загадочные явления, слабо связанные с действительностью. Наконец, еще один вариант генеалогии включал покушения на императора в историю революционного движения в России. «Корни крамолы» искали в идеях М.А. Бакунина[494], историю начинали с демонстрации на Казанской площади 6 декабря 1876 года, когда революционеры «потерпели жестокое поражение от народа» и «взялись за оружие, за подкопы, за мины»[495]. По тому же принципу была выстроена самая подробная генеалогия «крамолы», предложенная в «Современных известиях». Задавшись вопросом о происхождении «страшного плода» 1 марта 1881 года, ее автор проследил биографию исполнителей до «процесса 193-х». Не останавливаясь на этом, он обратился к поиску первоистока, вспомнив не только «нечаевцев» и Каракозова, но и прокламацию «Молодая Россия» (1862 год)[496]. Включение народовольческих покушений в историю революционного движения заставляло иначе взглянуть на нее, соединив вопросы о причинах террора с более широкими вопросами о причинах протеста в течение всего царствования императора Александра И. Эта модель объяснения лучше помогала осознать истинные причины происходящего, но и усложняла понимание, так как предполагала исследование более широкого контекста, чем в случае рассмотрения происходящего как просто террора или, уже, попыток цареубийства. Построение любой подробной генеалогии террора приводило к одному своеобразному эффекту: по меньшей мере, до обнародования стенограмм судебных заседаний по делу «Шестнадцати» все покушения на императора приписывались некоей «социально-революционной партии», якобы существующей в России чуть не со времен Каракозова. Эффект этот отчасти сохранялся вплоть до процесса по делу первомартовцев. Таким образом, в течение 1879–1880 годов печать обсуждала не конкретную организацию «Народная воля», а мифическую «социально-революционную партию», ее структуру, программу и образ действий. При этом журналисты вынуждены были ориентироваться на те минимальные сведения, которыми они, благодаря судебным процессам, располагали. «Идеальным типом» революционной организации продолжала оставаться «Народная расправа» С.Г. Нечаева: не имея другой информации, журналисты обращались к этому опыту, чтобы утверждать: «Тайное общество 1869 года является как бы образцом для позднейших форм революционной агитации, личный состав — нормой, повторяющиеся на будущее время с небольшими вариантами»[497]. С процесса 1871 года утвердилось представление о широком использовании революционерами методов обмана и запугивания. Публицист газеты «Голос» писал, что «крамола» поставила для русского общества «пьесу», доказывая многочисленность своих сторонников, тогда как на самом деле она представляет собой «кружок или совокупность кружков, порядочно организованных, но немногочисленных»[498]. В пользу такого мнения приводились разные аргументы: при арестах не находят списков — террористов так мало, что списки им просто ни к чему[499]; «чем меньше народу в шайке, тем меньше опасности быть открытым, случайно или от предательства»[500], «чтобы подкопаться под полотно железной дороги из соседнего дома и чтобы натаскать два пуда динамита во дворец, […] могло понадобиться не более четверых-пятерых человек»[501]. Мнение о многочисленности «крамолы» высказывалось значительно реже[502]. Силу «социально-революционной партии» большинство журналистов объясняли «строжайшею внутреннею организациею» и тайной[503]. Бытовало представление, что внутри ее поддерживается железная дисциплина, «нескромных адептов» убивают[504], рядовых членов держат «под страхом неминуемой грозной расправы в случае уклонения от связующего их долга»[505]. В газете «Улей» очень красочно было описано, как партия вербует в свои ряды «недоучившегося юнца»: «…ему рисуется картина великого подвига; его выставляют освободителем или спасителем народа, ему сулят историческое имя; самое преступление, на которое его готовят, выставляется в его глазах как великий подвиг […], ему подсовывают большей частью какую-нибудь женщину, которая еще больше экзальтирует его, пристыжает его трусость, разгорячает фантазию, наконец, в заключение, ему грозят в случае неисполнения…»[506] Рассуждения о том, кто стоит за покушениями, приводили некоторых журналистов к весьма нетривиальным выводам. Существовала точка зрения, что за действиями «Народной воли» скрываются националистические устремления одного из народов империи. М.Н. Катков описывал русское революционное движение как «театр марионеток», «кукловодом» которого является «польская справа», подтверждением чему служила, с его точки зрения, прокламация Исполнительного комитета, изданная после цареубийства[507]. С точки зрения Д.И. Иловайского, руководителями русских «крамольников» были украинцы. Обратив внимание читателей на фамилии (Ковальский, Лизогуб, Же-ляба, Тригоня, Колоткевич) и происхождение преступников, он писал: революционная организация состоит из четырех групп: польской, еврейской, украинофильской и собственно русской, среди которых русская — «наиболее пассивная», «выставляющая бессознательных исполнителей для тех групп, которые руководствуются целями более политическими или национальными»[508]. Реагируя на «политические фантазии» легальных журналистов, автор статьи «К статистике государственных преступлений», появившейся в № 4 «Народной воли» на основании данных Министерства юстиции (вероятно, предоставленных Н.В. Клеточниковым, так как среди них названо изданное «для внутреннего пользования» в количестве 150 экземпляров сочинение А.П. Мальшинского) приводил данные, опровергавшие «катковскую легенду о “польской интриге”» и «суворинскую теорию “жид идет”»[509]. Существовала и другая точка зрения на то, кто в действительности стоит за покушениями на императора. В печати она была откровенно высказана лишь однажды на страницах журнала «Русская речь». Автор внутреннего обозрения напомнил читателям прошлые столкновения и «неизбежно грядущее противоборство России с Англией в Азии», чтобы доказать: «…мы переживаем опыт тайного отравления ее [России — Ю.С.] внутреннею смутою»[510]. Другие издания были более осторожны, позволяя себе лишь намекать, что «анархия в России может быть нужна только одному из наших внешних врагов»[511]. Раздавались и голоса протеста. Например, в «Новом времени» по поводу статей М.Н. Каткова было сказано: «…быть может, в этом убеждении говорит больше патриотическое чувство, которое не может примириться с мыслью, что в самой России найдутся столь гнусные враги ее»[512]. Наконец, руководство русскими террористами приписывали некоему «международному революционному комитету», уверенность в существовании которого также выражалась на страницах русской печати[513]. «Русские “нигилисты-террористы” выросли на русской почве и отличаются азиатским зверством и дикою силою Стеньки Разина. Но они — отпрыски дерева, пустившего глубокие корни в западноевропейской почве, и в ней они находят свои жизненные соки», — писал юрист Ф.Ф. Мартенс в газете «Голос»[514]. Рассуждения о происках внешних врагов, даже если их принимали на веру, снимали вопрос только о руководителях «крамолы». Факт участия в покушениях на императора русских «исполнителей» требовал от журналистов куда более глубокого анализа причин возникновения терроризма. Ответ на последний вопрос часто давался на метафорическом уровне — с помощью метафоры «почвы». Она позволяла конструировать отношения «крамола»-общество. «Крамола» представлялась как «безобразный росток», «ядовитые растения», «ядовитые грибы», «семена зла»[515]. Этот образ употреблялся, когда ставился вопрос о причинах-«корнях» возникновения терроризма. Выбор метафоры обуславливал ответ: причина в «почве», на которой способны произрастать «ядовитые растения», т. е. в русском обществе: «Зло питается многочисленными и невидимыми соками»[516]. Пользуясь этой метафорой, газета «Новое время» могла описать вполне определенное состояние общества: «Очевидно, крамола пустила корни […]. Их питает общественная апатия, благодаря ей воздух как будто заражен»[517]. Еще более определенно отношения между «крамолой» и русским обществом позволяла уловить метафора «болезни», восходящая к более общему «метафорическому телу общества»[518]. Крамола уподоблялась «заразе», «язве», «ране», «проказе», «гнойному нарыву», даже «известным “секретным” болезням»[519], а борьба с нею — «врачеванию»[520]. С помощью этой метафоры журналисты могли оценивать общее состояние государства и общества. Представление «крамолы» как «болезни» давало журналистам возможность более свободно говоритьо способах «лечения», методы которого разнились в зависимости от политических взглядов «врача».3. «Поставить общество в более благоприятные гигиенические условия…» либеральная печать о методах борьбы с террором
До сих пор, анализируя то, каким образом народовольческий террор освещался в печати, мне удавалось избегать разделения точек зрения на «либеральную» и «охранительную». В самом деле, и стратегия описания внешней стороны покушений на монарха, и анализ проблемы терроризма не позволяют исследователю противопоставлять друг другу различные мнения, ссылаясь на принадлежность того или иного органа печати к противоборствовавшим политическим лагерям. Журналисты не только сходились во мнении о глубинной сущности террора как метода политической борьбы. Они говорили на одном языке, пользовались общими метафорами, охотно цитировали друг друга, создавая в информационном поле то ядро, вокруг которого могло формироваться общественное мнение. Раскол начинался в тот момент, когда от конкретных фактов и теоретических изысканий публицисты обращались к практическим вопросам борьбы с террором. Публицисты либеральных изданий очень остро ставили вопрос о разобщенности русской печати и об отличии своего положения от положения «консервативных» собратьев по перу. Либеральная печать представляла свое мнение читателям одновременно с позиций силы и слабости. С одной стороны, ее представители постоянно подчеркивали свою «угнетенность»: их «травят» с криком «вяжи либералов, они — потворщики злоумышлений», «объявляют виновниками преступления»; «наиболее честная, здравомыслящая и либеральная часть русской печати говорит намеками и полунамеками, когда требуется особенно ясная и вразумительная речь»[521]. С другой стороны, именно либеральная печать говорила от имени «всего общества», основываясь на убеждении, что «если в чем-нибудь еще возможно найти в русском обществе сколько-нибудь согласное большинство, то скорее всего — в направлении политическом. Мы — почти все — либералы»[522]. Свое «угнетенное» состояние журналисты-либералы соотносили с таким же положением общества, пребывающего в состоянии «бездействия, бессилия и изнеможения»[523]. Положение изданий либерального толка в течение 1879–1881 годов претерпело ряд серьезных изменений. После покушения на Московско-Курской железной дороге немногочисленные органы печати этого направления вели себя исключительно осторожно вследствие произошедшей накануне приостановки газеты «Голос»[524]. Ситуация стала меняться уже в декабре 1879 года, когда «Голос» был возобновлен. В течение 1880 года либеральный лагерь пополнился газетами «Страна» Л.А. Полонского и «Земство» Ю.В. Скалона, а с 1 января 1881 года добавилась газета «Порядок» М.М. Стасюлевича. С приходом к власти М.Т. Лорис-Меликова либералы почувствовали относительную свободу, в то время как их идейные противники отступили в тень. Покушение 19 ноября 1879 года не вызвало каких-либо заметных статей о мерах борьбы с «крамолой» в изданиях либерального направления. После взрыва в Зимнем дворце журналист газеты «Молва» заявил, что средство спасения от террора известно обществу, но ему «недостает искренности, честности, недостает мужества открыто сознаться во всем». Едва ли публицист стремился обвинить общество в трусости. Причина молчания, с его точки зрения, заключалась в отсутствии «возможности и законных путей» довести общественное мнение до сведения правительства[525]. Общим местом в публицистике 1879–1881 годов стала оценка состояния общества как «нездорового» («чувствуется в нем вялость, тоска и неохота. Нет бодрящего духа, энергии и соответствующей для борьбы почвы»[526]), «апатичного», «пассивного»[527]. В январе 1880 года Сергей Атава, возражая против «шаблонного» обвинения общества в апатии, призывал критиков посмотреть, когда общество было пассивным, а когда — «возбужденным, энергичным, живым» (во время Русско-турецкой войны, при обсуждении проблемы «классического» образования и т. д.)[528]. Сточки зрения либеральных публицистов, «апатичность» не была собственной чертой русского общества, напротив, последнее было «доведено» до этого состояния. Возможность откровенно высказаться о причинах, вызвавших такое положение, появилась у либеральных изданий только с приходом к власти М.Т. Лорис-Меликова, однако намеки на них можно обнаружить и в статьях, вышедших до 14 февраля 1880 года. Последовательность событий, которые привели к «болезни» общества, в изложении либеральных изданий выглядела следующим образом: «великие реформы» были прерваны польским восстанием и выстрелом Каракозова; меры «реакции» поставили общество в «пассивное положение»: Ум и воля были парализованы. Общественный дух с каждым годом падал все ниже и ниже. Вялое, апатичное, а отчасти и безнравственное общество безучастно смотрело, как в его сердце растет страшный враг[529]. Виновниками всех бед объявлялись бюрократия, правительство, но никогда лично Александр II, который представлялся заложником бюрократической системы, искажавшей самые благие его намерения[530]. Не последнее место среди обвиняемых занимали журналисты-охранители» во главе с М.Н. Катковым, которые своими нападками на реформы, либерализм и интеллигенцию способствовали возникновению и упрочению «белого террора»[531]. Появление революционного движения, а затем и террора, которые описывались как «симптомы болезни» общества, также связывалось с правительственной политикой. Наиболее отчетливо эта позиция была выражена в статьях газеты «Молва»: среда, из которой возникают преступники, есть порождение «излишней подозрительности» правительства и тех мер строгости, которые оно принимало[532]. Та же точка зрения была высказана в журнале «Отечественные записки»: «Под влиянием карательных мер революционное движение приняло характер массового, стихийного, подражательного»[533]. В либеральных кругах бытовало убеждение, что рост «крамолы» и возникновение террора напрямую связаны с пороками школьной и университетской систем. В ноябре 1879 года В.И. Модестов под псевдонимом Педагог опубликовал в «Голосе» статью «К школьному вопросу», в которой писал, что «крамольниками» обыкновенно становятся «юноши-гимназисты и семинаристы, уловленные в сети, в виде увлеченных полусознательных жертв, а еще более исключенные из заведений и потерявшие надежду на карьеру и успех в жизни»[534]. В первой после возобновления издания передовой также указывалось, что революционные идеи «воспринимаются юношами, никогда не слушавшими или недослушавшими лекций и лишенными возможности окончить среднее образование»[535]. Только за намеки на массовые исключения из средних учебных заведений В.И. Модестов по требованию министра народного просвещения Д.А. Толстого вынужден был оставить профессуру в Санкт-Петербургской духовной академии. Откровенно идея о том, что «неправильная постановка» школьного дела способствует «распложению “мыслящего пролетариата”», составляющего основу революционного движения, была высказана только апреле 1881 года, снова в газете «Голос» в статье «Революционные элементы и школа»[536]. Правительство, обращаясь к обществу с призывами о поддержке в борьбе с террором, само провоцировало полемику о том, в каком виде может выразиться искомая помощь. К марту 1881 года, по признанию газеты «Русские ведомости», «стало уже ходячей истиной, повторяемой чуть не малым ребенком», что борьба с «крамолой» возможна только при содействии общества[537]. Прибегая к метафоре «болезни», публицисты писали о двояких «терапевтических средствах», способных остановить покушения: «Одни имеют целью непосредственное устранение или смягчение острых, наиболее угрожающих в данное время болезненных симптомов; другие должны быть направлены к лечению недуга хронического»[538]. Под первыми подразумевались любые полицейские методы борьбы, которые, сточки зрения либеральных публицистов, обществу недоступны, поскольку оно «не имеет ни данных, ни опытности, чтобы содействовать полицейской власти в этой сфере каким-либо полезным советом»[539]. Логика «врачевателей» состояла в том, что нельзя «убить заразу, не дезинфицируя зараженного района»[540]. Правительственные меры — «карантины», «наружные средства»[541] — не могут помочь. «Болезнь» «не исчезает ни перед карательной деятельностью правосудия, ни перед длинным рядом мер исключительных и временных […]. Внутренний недуг требует внутреннего врачевания»[542]. При восприятии покушений как «симптома болезни» казалось достаточным «исцелить» общество, чтобы покушения исчезли. Осторожно, но вместе с тем очень настойчиво журналисты советовали «справиться у самого общества», чего оно желает. После покушения 19 ноября 1879 года в журнале «Отечественные записки» правительству рекомендовалось воспользоваться помощью земств и органов городского самоуправления, представители которых способны — «в пределах своего района» — разъяснить «все наболевшие вопросы»[543]. Взрыв в Зимнем дворце сделал предложения либеральной печати еще более определенными: дворянские корпорации в силу имеющегося у них права и земства, в виде исключения, могут дать «указания» обо всех «недугах» страны, порождающих «крамолу». Правительству, в свою очередь, следует воспользоваться этими советами «по своему усмотрению»[544]. Более ясно высказался В.А. По-летика: «…нужно усилить влияние и компетентность гласного суда и его органов, воскресить и укрепить земства, щедрою рукою разбросать миллионы на элементарное образование, […] открыть арену для плодотворной, твердо-прогрессивной общественной работы»[545]. Разумеется, подобные осторожные высказывания не составляли всю либеральную программу. Цензурные ограничения до какого-то момента не позволяли представителям либеральных течений писать более определенно. Если мнение о способах борьбы с террором высказывалось осторожно, то критика аналогичных предложений идейных противников либералов была яростной и очень жесткой. По поводу призыва М.Н. Каткова ввести диктатуру газета «Страна» вспоминала Аракчеева, указывая, что история «никогда не ставит его эпохи в пример будущим векам»[546]. В «Молве» эта идея критиковалась более детально, но вывод был тот же: появление «воистину экстраординарного чиновника» никого не спасет[547]. Назначение М.Т. Лорис-Меликова на пост, вызывавший такие возражения, было встречено тем не менее рядом панегирических статей. Журналисты убеждали читателей: раз общественному мнению теперь дано удовлетворение, то не только сама «крамола» будет подавлена, но и «почва, плодившая эти преступления и самих преступников, перестанет возделываться и удобряться»[548]. Изменилось и содержание статей: если до обращения «диктатора» либеральные журналисты предлагали проекты реформ, то после 14 февраля 1880 года они в основном давали комментарии к тем мерам, которые принимались Главным Начальником. Отмечая радикальную «перемену системы», состоящую в призыве общества к содействию власти, фельетонист «Голоса» высказывал надежду, что теперь «улавливать будет некого»: даже революционеры «помалкивают», когда правительство идет по «пути дальнейшего мирного преуспеяния»[549]. Символом эпохи стало упразднение 6 августа 1880 года III отделения, расцененное как доказательство того, что «возобладала вновь прежняя, светлая, плодоносная мысль доверия русского Монарха к русскому обществу»[550]. 10 августа А.Д. Градовский в передовой «Современное положение» провозгласил лозунг: «Дело правительства — наше дело»[551]. Хотя к концу 1880 года вера либерального лагеря в М.Т. Лорис-Меликова сменилась разочарованием[552], новогодние статьи либеральных газет были преисполнены надежд: «…восьмой десяток нынешнего столетия будет принадлежать к светлейшим эпохам нашего развития»[553]. Только в газете «Страна» Л.А. Полонский, констатировав воцарившееся спокойствие, замечал: «…полное умиротворение может наступить лишь тогда, когда налицо будет ясная, определенная программа, начертанная хотя бы не представителями общества, но все же согласно с истинными нуждами и желаниями всего народа»[554]. В свете этого новогоднего оптимизма убийство императора действительно стало потрясением. Сразу после цареубийства была предпринята попытка либеральных кругов открыто выступить со своими программными требованиями. В газете «Порядок» был дан совет новому государю — обратиться к «излюбленным людям»[555]. Ссылаясь на «чрезвычайные обстоятельства», газета «Страна» требовала «уменьшить ответственность главы государства», с тем чтобы оградить его впредь от покушений. «Надо, чтобы основные черты внутриполитических мер внушались представителями русской земли», — писал И.Н. Харламов[556]. 4 марта последнее предложение было поддержано в газете «Голос»: необходимо «установление таких органов общегосударственной жизни, перед которыми исполнители ответственны»[557]. За эти статьи газетам «Страна» и «Голос» были вынесены предупреждения М.Т. Лорис-Меликовым[558]. Других попыток открыто заявить о своих требованиях в печати русские либералы не предпринимали. В течение марта-апреля 1881 года представители либеральной журналистики пытались предотвратить возвращение к «реакции». В один голос газеты доказывали, что «суровые меры» непригодны, «тот путь безнадежный, бесплодный; он заперт, загроможден массою обманувшихся третьеотделенских расчетов, неудачею князя Василия Долгорукого, неуспехом князя Петра Шувалова, бесполезным террором генерала Мезенцева»[559]. Поскольку правительственный курс еще не был определен, все усилия журналистов сосредоточились на том, чтобы дать отпор предложениям «охранительных» изданий. Последние обвинялись в «происках и кознях», «сведении счетов» с «газетами иного строя», стремлении «завести систему повального самообыскивания и взаимного шпионства»[560]. Все предлагавшиеся «охранительные» меры именовались «белым террором»[561], а их поборники обвинялись в том, что они «незримо управляли деятельностью “Исполнительного комитета”»[562]. Следует отметить, что всерьез анализировать проекты противников ни один из публицистов-либералов не стремился. Они описывали программу «охранителей» в лучшем случае как «лирическое излияние»[563], но гораздо чаще как плод воображения «людей, одержимых горячкою или утративших самообладание», «бесплодные вопли и стоны» «кликуши на похоронах», «охранительную эпилепсию»[564]. Цель подобных риторических приемов была одна — доказать, что в предложениях «консервативных» изданий нет никакого рационального зерна: «Кроме оцепления Петербурга, конфискации домов, перенесения столицы и т. п. мер, критиковать которые было бы благодарною задачею для любого юмористического листка, если бы они предлагались в иное время и по иному поводу, — кроме этих и других чересчур очевидных нелепостей до сих пор ими [охранителями. — Ю.С.] не было высказано ни одной более-менее определенной мысли, не было предложено ничего мало-мальски серьезного»[565]. Никакой положительной программы, кроме настойчивого требования продолжать реформы прошедшего царствования[566], сами журналисты-либералы после 4 марта не выдвигали. Молчали они и о формах, в которых это требование может быть осуществлено. Анализ либеральной публицистики позволяет говорить о том, что в центре внимания либералов была не столько проблема борьбы с терроризмом, сколько вопрос о реформировании государственного строя, введении представительной формы правления. Покушения на Александра II стали для них тем весомым аргументом, к которому власть не могла не прислушаться. В статьях, появлявшихся в либеральных изданиях, неоднократно высказывалось убеждение, что террор является лишь проявлением «болезненного» состояния русского общества и решение этой проблемы автоматически должно снять вопрос о покушениях с повестки дня. Представители общества, призванные к участию в управлении государством, не только откроют глаза правительству на истинное положение дел в стране, но и примут верные решения по устранению всех «нестроений». Когда будут отменены меры строгости, улучшено положение учащейся молодежи, призвана к порядку администрация, предоставлена свобода слова, а земства и органы городского самоуправления получат всю полноту власти для решения местных проблем, — наступит если не золотой век, то «полное умиротворение». В такой ситуации, по мнению либералов, революционеры исчезнут сами собой, так как не будет смысла в их дальнейшем существовании. Цензурные ограничения не позволяли либералам публиковать конкретные проекты необходимых реформ, потому их заявления в печати отличались непоследовательностью и туманностью, не отражая всего спектра мнений различных либеральных групп, которые в это время существовали в русском обществе. Тем не менее налицо общая тенденция: проблема терроризма не представлялась либералам центральной проблемой эпохи. Борьба с ним была скорее предлогом, чтобы подтолкнуть власть к уступкам, а не самоцелью.4. «Если язва увеличивается, то на нее действуют прижиганием…» Проблема террора на страницах «охранительных» изданий
Если публикации либеральных изданий отличались относительным идейным единством, того же нельзя сказать об их противниках, объединяемых либералами под общим именем «охранителей»[567] и, гораздо реже, «консерваторов»[568]. Сами представители этого лагеря, спокойно относясь к первому наименованию, едва ли были согласны на второе[569], полагая себя «мыслящей и чувствующей заодно с народом печатью»[570]. Спектр мнений, представленных в этих изданиях, отличался большей индивидуальностью: умеренная газета «Новое время» нередко критиковала как либералов, так и М.Н. Каткова, московские «Современные известия» ориентировались на изменения ситуации, меняя окраску вслед за политическими веяниями, в то время как «Санкт-Петербургские ведомости» вставали на сторону «Московских ведомостей», а порой и превосходили их в критике администрации. Появление в ноябре 1880 года славянофильской газеты «Русь» И.С. Аксакова добавило новый оттенок. Созданный накануне «новых веяний» официоз под редакцией П.П. Цитовича также примыкал к этому лагерю. Мнения о том, каким образом следует бороться с терроризмом, высказывавшиеся на страницах «охранительных» изданий, отличались по сравнению с либеральными проектами большей пестротой и противоречивостью, но в то же время и большей степенью конкретизации. Очевидно, эти мнения рождались в острой полемике с либералами как реакция на идею соучастия общества в управлении государством. Представители правых кругов оказались в сложном положении во время «диктатуры сердца»: после длительного периода торжества во внутренней политике «охранительного направления» им пришлось уступить свои позиции. В этой ситуации для них было два выхода: либо оказаться в оппозиции новому курсу внутренней политики, либо пойти на уступки. Убийство Александра II восстановило пошатнувшийся было порядок вещей. Колебания правительственного курса в значительной степени определяли изменения в позиции различных «охранительных» изданий на протяжении 1879–1881 годов. Сразу после покушения 19 ноября 1879 года М.Н. Катков предложил емкое объяснение причины покушения и развития революционного движения в целом: «Бездействует власть, и появляются признаки хаоса; появляются эти признаки, значит, бездействует власть»[571]. Эта мысль красной нитью проходила через все статьи московского публициста в течение 1880–1881 годов. 6 февраля 1880 года, когда стало известно, что взрыв в Зимнем дворце был террористическим актом, М.Н. Катков предложил ввести диктатуру, «чтобы один правительственный орган, облеченный полным доверием Государя, имел диктаторскую власть для борьбы со злом»[572]. Прочие «охранительные» издания писали о «каре закона» и «устрашении устрашителей»[573]. Очевидно, что эти советы были советами о том, как власти действовать против террористов, чего практически не встречалось в либеральных статьях. Вместе с тем общество тоже не было забыто. «Санкт-Петербургские ведомости» предлагали «тесно сплотиться около народного знамени — Царя и охранить его, а с ним и Россию от этих покушений»[574]. Газета А.С. Суворина могла добавить к этому, что «никто себе не враг и невозможно сомневаться, что общество обладает здравомыслящими элементами, которые важны в такую трудную пору»[575]. Один только М.Н. Катков, реагируя на обращение М.Т. Лорис-Меликова «К жителям столицы», критиковал «салоны, фельетоны и науку» и утверждал: «Нет надобности обращаться к обществу за поддержкой и пособием»[576], поскольку «нельзя желать всякого содействия, нельзя искать всякого пособничества. От иных пособников да сохранит нас Бог!»[577]. Мнение журналистов «охранительного направления» о состоянии русского общества отчасти совпадало с воззрениями либералов. Оно виделось им «апатичным», «равнодушным», утратившим «известные понятия и душевные силы»[578]. В изложении сотрудников умеренно консервативного «Нового времени» причина «нездорового» состояния русского общества заключалась в остановке «правильного развития». Если либералы обвиняли правительство, напрасно испугавшееся «случайного» выстрела Каракозова, то сотрудники А.С. Суворина возлагали ответственность на революционеров. Власть должна была реагировать на пропаганду, чтобы продемонстрировать населению, что она «твердо держит в своих руках]…] внутреннее развитие и внутренний порядок»[579]. Либералы винили за состояние общества систему, которая не позволяет ему свободно удовлетворять «нравственные нужды»[580], «охранители» — «отсутствие души, преобладающий формализм во всех живых колесах нашей административной машины»[581]. Особенно страстным нападкам бюрократия подверглась после 1 марта 1881 года со стороны «Санкт-Петербургских ведомостей». В этой газете ее клеймили за то, что она «давно потеряла чувство народного пульса и, как наемная дружина в государстве, служит в данную минуту тому, кому ей выгодно служить»[582]. В статье от 10 марта, которая едва не привела газету к закрытию за «крайне реакционное направление»[583], «тунеядная администрация», обвинявшаяся в том, что под ее покровительством образовалось «общество повального тунеядства», была названа либеральной. «Чиновничий либерализм» характеризовался как ничегонеделание, страсть к наживе и меркантилизму[584]. Таким образом, в этой статье соединились два обвиняемых в «растлении» общества — бюрократия и либерализм. Если публицисты-либералы утверждали, что русское общество в большинстве своем на их стороне, то «охранители» скрепя сердце признавали либеральность «некоторой части нашего образованного общества»[585]. Сточки зрения М.Н. Каткова, разделяемой отнюдь не всеми «охранителями», причина «апатии» крылась в неком органическом пороке, изначально обществу присущем и стремительно развившемся под влиянием либеральных идей. В полных яда и пафоса статьях московский публицист использовал в качестве синонимического ряда выражения «слабодушие», «умственный разврат», «измена», «предательство» и «либерализм»[586]. По мнению И.С. Аксакова, либерализм «растлевает и ум, и душу русского общества, парализует смысл и волю, путает нравственные понятия, обращает человека в своего рода умственного и нравственного евнуха»[587]. Разумеется, причины появления террора крайняя часть «охранителей» видела все в том же либерализме. С одной стороны, либеральное общество обвинялось в том, что оно воспитало «крамольников», «выхолило» «такое детище, от которого сами не знают, как откреститься»[588]. Либеральные идеи по поводу школьного вопроса толковались М.Н. Катковым как стремление «не докучать» юношеству серьезными занятиями и «не надоедать дисциплиной»[589]. После 1 марта 1881 года «Санкт-Петербургские ведомости» прямо заявляли: «самоизменщическое» общество «приготовило контингент юношей, из которых выуживаются различного вида государственные преступники, завершающиеся цареубийцами»[590]. С другой стороны, либеральное общество обвинялось в «пособничестве» террористам. В феврале 1880 года, перечисляя категории «злодеев», журналист «Санкт-Петербургских ведомостей» включил в «третью категорию» «либералов», т. е. людей, «безусловно восстающих против каких бы то ни было репрессивных мер, старающихся распространить в публике неблагоприятные слухи о правительстве, проповедующих, что только гуманными мерами, введением либеральных учреждений можно прекратить зло»[591]. В марте 1881 года в этой газете было высказано еще более радикальное мнение: цареубийство стало возможным, так как «в известной части нашей интеллигенции» были люди, считавшие покушения «содействующими, путем устрашения власти, ходу преобразований»[592]. Схожую эволюцию претерпели взгляды М.Н. Каткова: в марте 1880 года он утверждал, что либеральное «несообразительное притворство и легкомыслие в общественных делах» привело к расцвету «нигилизма»[593]. После цареубийства публицист призывал «проклясть» либерализм, который «по-русски зовется громким словом “измена”»[594]. Наконец, иногда в либералах видели не просто «отцов» или «пособников» «крамолы», но ее представителей. Эта точка зрения характерна для публицистики П.П. Цитовича, стремившегося найти связь между «надпольными» и «подпольными радетелями»: либералы говорят «то же самое», что и революционеры, пусть и другим языком[595]. В одной из статей журналист «Берега» прямо обращался к либералам: «Только не кричите фарисейски: мы — не они [крамольники. — Ю.С.]! Они говорят же вам толком: вы хоть и не мы, но вы нямпл!»[596] М.Н. Катков высказывал схожее мнение менее открыто, однако когда он сводил сущность либерализма к «бессмысленному отрицанию всего»[597], то фактически ставил знак равенства между либерализмом и «нигилизмом», между либералами и террористами. Не последнее место среди «изменников» в статьях «охранительной» печати занимали либеральные собратья по перу, которые «торгуют убеждением и честью своей Родины» и с «накрахмаленным благоразумием продолжают доказывать ненужность энергических мер»[598]. До цареубийства 1 марта критика предложений, выдвигаемых на страницах либеральных изданий, велась в относительно спокойном тоне. Пользуясь все той же метафорой «врачевания», журналист «Нового времени» указывал на невозможность «органических работ», когда государству грозит «смута». П.А. Монтеверде в фельетоне «Кот и повар» писал об отсутствии в либеральных статьях ясно сформулированных предложений и «пресмыкании» перед М.Т. Лорис-Меликовым. Признавая необходимость реформ, он в то же время требовал не указывать на них как на «самое серьезное оружие против анархистов и крамолы». Именно в этой статье иронично описана характерная особенность всех либеральных предложений против террора, формулировавшихся на основе мнения, что стоит лишь побороть общественную «апатию» — и «все эти нехорошие анархисты покраснеют, устыдятся и сконфуженные уткнутся в угол, обливаясь горючими слезами»[599]. После 1 марта 1881 года тон «охранительных» изданий стал куда более резок. Характер их высказываний можно обрисовать одной фразой из «Санкт-Петербургских ведомостей»: Умолкните, враги России и русского народа! Ваши речи так же не чисты, как и ваши желания […]. Нам не нужно никаких благ земных за невинную кровь нашего Монарха[600]. Хотя либеральные публицисты до 1 марта избегали в своих статьях открыто говорить о представительстве, их главный противник М.Н. Катков видел в любых высказываниях об «оживлении» общества требование ограничения самодержавия[601]. И в феврале 1880 года, и в марте 1881 года[602] московский публицист выступал против конституции, по сути нарушая правительственный запрет на обсуждение этого вопроса в печати. При этом собственные идеи М.Н. Каткова строились на том же основании, которые высмеивал П.А. Монтеверде. Видя в терроре порождение «нестроений», он ратовал за укрепление власти и «обуздание» либералов, полагая, что эти меры сами по себе способны пресечь дальнейшее развитие революционного движения: «…попытки [поколебать государство. — Ю.С.] прекратятся, когда крамола убедится в их безнадежности»[603]. После цареубийства М.Н. Катков последовательно продолжил бороться за идею всемерного укрепления власти: «…восстановить порядок, оградить спокойствие, призвать людей власть имущих к исполнению забытых обязанностей — вот задача минуты»[604]. Прочие издания сосредоточились на конкретных мерах. В «Новом времени» журналисты настаивали на укреплении полиции и введении ответственности домовладельцев за квартирантов[605]. В «Санкт-Петербургских ведомостях» появились призывы к «энергичным мерам»: выловить преступников, оцепить Петербург, конфисковать дома «беспечных и тем самым преступных домовладельцев»[606]. При этом, отвечая на нападки либеральных критиков подобных предложений, обвинявших консерваторов в призывах к «белому террору», публицисты утверждали, что эти меры должны быть выборочными, «власть должна иметь два лика»[607]. В полемику о способах борьбы с терроризмом с особой точкой зрения в марте 1881 года включился И.С. Аксаков. Причину разложения русского общества он видел в «петербургском периоде русской истории». Знаменитый призыв «в Москву» диктовался не столько соображениями безопасности нового императора, сколько необходимостью духовного возрождения русского общества: «русская совесть» должна воспрянуть и стряхнуть с себя «грех лени, праздного коснения и легкомыслия»[608]. Славянофильская идея «Земского собора», несмотря на отрицание самим И.С. Аксаковым ее сходства с либеральными проектами введения представительства, была близка к ним. И.С. Аксаков писал, что крамола может быть побеждена только самодержавием, «а самодержавие мыслимо и крепко только в тесном союзе с народом, на народной почве, на земской основе»[609]. Представители либерального лагеря не замечали отличия предложений И.С. Аксакова от всех прочих консервативных проектов. Либеральная газета «Русские ведомости» одинаково оценивала «Московские ведомости», «Новое время» и «Русь» как «органы белого террора»[610]. Общей особенностью всех «охранительных» проектов борьбы с террором было то, что они рассматривали правительство как единственную силу, способную противостоять «крамоле». Соответственно, все их предложения были советами, каким образом должна действовать в этой ситуации власть. Призыв правительства к помощи общества одобрялся отнюдь не всеми представителями этого лагеря. Само общество рассматривалось журналистами не с политических, а скорее с моральных позиций: они связывали его «нездоровье» не столько с отсутствием деятельности, сколько с нравственным «разложением». Соответственно, пока власть «прижиганием» борется с «язвой», общество должно не только всячески поддерживать эти меры, но и очиститься духовно от «скверны» либерализма, «очнуться» и «отрезвиться в виду бездны»[611]. В 1879–1881 годах периодическая печать представляла собой один из важнейших факторов формирования информационного поля. Сложность обсуждавшейся проблемы, с одной стороны, и существование разногласий вследствие различия политических убеждений, с другой, привели к чрезвычайной пестроте оценок и мнений, среди которых читатели должны были выбирать наиболее правдоподобные или отвечавшие их собственным вкусам. Существование цензурных ограничений привело к тому, что высказывавшиеся в статьях журналистов суждения о терроре и участниках политического конфликта не покрывали весь диапазон мнений, бытовавших в это время в обществе. Особенно ярко это видно на примере описания императора Александра II как «жертвы» террористов: предпочитая идти вслед за официально одобренным описанием смерти государя как религиозного мученичества, журналисты тем самым избегали необходимости высказывать собственные суждения на эту тему. В то же время бытовавшие в обществе в связи с покушениями представления об императоре отнюдь не ограничивались этой единственной моделью. Равным образом в статьях, критиковавших правительственный курс или действия администрации, император никогда не затрагивался. Описание на страницах газет террористов отличалось большой степенью абстрактности: не существовало четкого представления ни об идеологии, ни о программе партии «Народная воля». То же было характерно и для изображения исполнителей террористических актов. Интересно, что появление новой информации после судебных процессов мало способствовало корректировке уже устоявшихся представлений, в значительной степени подчинявшихся стереотипным мнениям как о личности революционеров, так и о революционной организации. Наиболее важной проблемой, обсуждавшейся на страницах периодической печати, была борьба с террором и возможное участие в ней русского общества. На страницы газет и журналов зачастую попадали лишь отголоски споров, которые велись в самом обществе. В то же время следует признать, что знакомство с этими спорами позволяло читателям узнавать за метафорами и эвфемизмами вполне определенные модели объяснения возникновения террора и проекты борьбы с ним. Важно подчеркнуть, что сам по себе вопрос о прекращении покушений был вопросом второстепенным. Либеральные и часть консервативных проектов борьбы с терроризмом на деле были проектами реформирования существующей политической системы, по пути ли укрепления власти или же при помощи введения представительства. Спор о пользе или вреде конституции подменял собой проблему борьбы с терроризмом, вокруг которой он формально велся. При этом существовала общая иллюзия, что требуемые различными силами изменения в случае их введения автоматически снимут вопрос о революционном терроре с повестки дня. Конкретные предложения консервативных газет о том, каким образом следует «искоренять» преступников, были советами власти, а не обществу. Следовательно, несмотря на общепризнанное убеждение, что общество способно пресечь развитие терроризма, проектов, каким образом эту идею можно реализовать на практике, на страницах газет так и не появилось. Очевидно, эта ситуация была вызвана самой постановкой вопроса: терроризм понимался как «болезнь», а подчас и как один из симптомов «болезни» русского общества, которую необходимо «лечить», воздействуя на пораженное тело. Важно отметить, что, несмотря на диаметральную противоположность консервативных и либеральных проектов, их реализация была поставлена в зависимость от действий правительства. 14 введение представительства, и жесткий курс всецело зависели от того, какую программу в итоге изберет власть. В любом случае за отсутствие результатов в борьбе с терроризмом ответственность возлагалась на нее. Подобная логика приводила к тому, что в оппозиции к правительственному курсу, несмотря на его колебания, в итоге оказывались все силы русского общества, хотя недовольство властью и не приводило к консолидации извечных противников — либералов и «охранителей». «Война» публицистов между собой была куда более ожесточенной, приемы полемики более грубыми, чем любые заявления на страницах газет, направленные против «крамолы». Таким образом, важнейшее средство формирования общественного мнения — печать в значительной мере способствовала, с одной стороны, нарастанию оппозиционных настроений в обществе, а с другой — самоустранению общества от борьбы с террором. Логика большинства газетных статей подталкивала читателя к выводу, что решение проблемы целиком зависит от действий власти. В либеральной версии власть должна была позволить обществу самостоятельно принимать политические решения: введение представительства избавит страну от террористов. С точки зрения «охранителей», власти следовало проявить себя в полную силу, после чего террористы исчезли бы сами собой.ГЛАВА V РОЛЬ СЛУХОВ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ИНФОРМАЦИОННОГО ПОЛЯ
Важным фактором формирования общественного мнения на протяжении 1879–1881 годов были слухи. Обращение к этой части информационного поля требует ряда предварительных замечаний. Прежде всего, в отличие от сообщений правительства, статей в печати и материалов судебных процессов, бытовавших в печатной форме, слухи были средством устной коммуникации. В связи с этим, обращаясь к изучению слухов, исследователь сталкивается с трудностями источниковедческого характера. Чаще всего «хождение» того или иного слуха зафиксировано либо в делах политической полиции, либо в документах личного происхождения, в которых они подвергались рационализации, систематизации и т. п. Таким образом, исследователь имеет дело не с самим слухом, а его отголоском, отражением. Феномен слухов привлекал внимание социологов, филологов и психологов[612]. Круг исторических работ по этой проблематике невелик. Основной особенностью изучения слухов на российском материале является представление о широком распространении слухов как о признаке отсталости, которая преодолевалась по мере модернизации страны. Вследствие этого внимание исследователей сфокусировано на бытовании слухов в «народе»[613]. Ю. Иванов утверждает, что по мере развития средств массовой информации в столицах и промышленных центрах слухи стали играть более локальную роль[614]. Внимание исследователей к слухам и толкам в «народе» обусловлено также особенностью источников: фиксировавшие слухи сначала III отделение, а затем Департамент полиции сосредотачивались именно на толках в «народе», видя в них угрозу спокойствию государства. Слухи в связи с покушениями 1879–1881 годов изучены только на материале толков, бытовавших в «народе»[615]. Между тем чрезвычайные обстоятельства сделали и образованное общество благоприятной средой для распространения всевозможных слухов, которые, в свою очередь, оказывали влияние как на формирование общественного мнения, так и на поведение отдельных людей. Реконструировать весь спектр слухов, бытовавших в обществе в связи с террористическими актами, чрезвычайно трудно. В данном исследовании источниками для реконструкции послужили, во-первых, дневниковые записи и воспоминания. Во-вторых, пресса. Хотя обычно слухи относят к устной форме коммуникации, в 1879–1881 годах одним из главных распространителей непроверенной информации стала печать. Обращение к статьям «Слухи в связи с событием 1-го марта»[616], «Ложное сообщение»[617] и т. п. дает нам возможность установить, какие слухи читатели могли почерпнуть из газет. В-третьих, мною были использованы дела о распространении ложных слухов. Хотя обвиняемыми по ним в большинстве случаев были рабочие и крестьяне-отходники, каждый раз следствие устанавливало, что толки о покушениях были принесены из столиц. Сложный круговорот слухов включал в себя не только трактиры и лавки, но и, благодаря прислуге, великосветские гостиные. Генерал Н.А. Епанчин в воспоминаниях писал о сплетнях по поводу вел. кн. Константина Николаевича: из «общества людей якобы “культурных”» «россказни переходили через прислугу в низы»[618]. Всплеск тревожных слухов в чрезвычайной ситуации 1879–1881 годов серьезно беспокоил власти. В особенности это касалось распространения недостоверной информации через печать[619]. Варшавский обер-полицмейстер генерал-майор Н.Н. Бутурлин 21 апреля 1881 года писал в Департамент полиции, что источник всех слухов заключается «исключительно в ежедневно передаваемых иностранною, русскою и местною прессами новостях о постоянно новых и непрекра-щающихся дерзких попытках революционеров»[620]. Передаче газетами слухов немало способствовала практика перепечатки сообщений иностранных изданий. Заимствуя заграничные известия,русские журналисты снимали с себя ответственность за их содержание и перед цензурой, и перед читателями. В мае 1881 года директор Департамента государственной полиции В.К. Плеве обратился к исполняющему обязанности начальника Управления по делам печати П.П. Вяземскому с просьбой «внушить» редакторам газет, чтобы они «воздерживались» от перепечатывания из иностранных изданий сведений «о разных вновь обнаруженных обстоятельствах в области исследований государственных преступлений»[621]. Неодобрительно к появлению на страницах газет слухов относились некоторые журналисты, осуждая те издания, что, «гонясь за свежими и пикантными новостями без всякой проверки их источников»[622], способствовали распространению паники. Для большинства изданий сообщение толков и слухов служило способом увеличения продаж, потому редакторы газет не стеснялись публиковать непроверенные известия, а затем давать опровержения. Власть и представители общества часто видели в появлении слухов, особенно тех, что ходили в «народе», результат усилий «социально-революционной партии». После 1 марта 1881 года Департамент государственной полиции обратил внимание губернаторов на распространение «злодеями» «вредных слухов», в связи с чем начальникам губерний предписывалось «обращать самое тщательное внимание на всякий отдельный слух» и извещать министра внутренних дел как о каждом заслуживающем внимания случае, так и о принятых мерах[623]. В газетах высказывалось мнение о том, что все ложные сообщения есть «измышления злоумышленников, пытающихся посеять панику»[624]. Некоторые журналисты с сожалением констатировали, что публика облегчает «крамоле» задачу, «жадно бросаясь» на любые известия, относящиеся к террору[625]. Нет никаких свидетельств того, что «Народная воля» предпринимала какие-либо усилия для распространения слухов. Напротив, ее члены в воспоминаниях удивлялись толкам, ходившим в обществе[626]. Многочисленные слухи были результатом чрезвычайной ситуации 1879–1881 годов: их провоцировали недостаток информации о происходящем, а также чрезвычайная важность событий. В условиях «информационного голода» слухи позволяли каким-то образом ориентироваться в сложившейся ситуации, превращаясь, несмотря на попытки правительства противодействовать их распространению[627], в важнейший источник информации. В течение 1879–1881 годов степень интенсивности слухов о терроре была различной. Каждое покушение приводило к их всплеску, а потом постепенному затиханию, переключению внимания общества на другие события — до нового покушения. Можно выделить два временных отрезка, когда слухи были максимально интенсивны: с 5 по 20 февраля 1880 года, когда после взрыва в Зимнем дворце ожидались какие-то события во время празднования двадцатипятилетия царствования Александра II, и в марте-апреле 1881 года. Толки и слухи в связи с террористическими актами можно условно разделить на несколько групп: слухи о готовящихся или даже уже состоявшихся новых покушениях, слухи, содержащие вымышленные подробности о покушениях 19 ноября 1879 года, 5 февраля 1880 года, 1 марта 1881 года; известия о народных волнениях; слухи о «социально-революционной партии», ее деятелях, а также об арестах террористов (об этом заговорили чаще в марте 1881 года). В отдельную категорию можно отнести толки, имевшие мистическую окраску: сообщения о предсказаниях, пророчествах, необыкновенных явлениях, связанных с покушениями на императора. Наиболее интенсивными, многочисленными и разнообразными были слухи о готовящихся новых покушениях. На распространение именно этого вида слухов, как представляется, повлияли два обстоятельства: во-первых, переход народовольцев к использованию взрывчатых веществ создавал угрозу жизни случайных людей; во-вторых, менее определенным, но также осязаемым был страх перед возможными последствиями цареубийства — волнениями, восстаниями, даже революцией. Таким образом, покушения создавали обстановку, в которой каждый беспокоился за свою жизнь и социальное благополучие. Выстрел А.К. Соловьева и в особенности взрыв 19 ноября 1879 года привели к убеждению, что новое покушение на императора неизбежно, тем более что сами народовольцы в прокламации заявляли, что они не обескуражены неудачей под Москвой[628]. В середине декабря 1879 года в Брест-Литовске появился слух о том, что 4 декабря террористы осуществили новое покушение: злоумышленники убили стоявшего возле дворца часового и заменили его своим человеком, когда же император проходил мимо, «часовой выстрелил три раза, но не попал в Его Величество и, чтоб не быть схваченным, заколол себя кинжалом»[629]. Этот слух по содержанию своему являлся скорее наследием донародовольческого периода революционной борьбы: как место действия, так и способ (огнестрельное оружие) отсылают к покушению А.К. Соловьева, а не к произошедшему незадолго до того взрыву динамита под полотном железной дороги. В это же время начинают распространяться слухи о готовящемся взрыве императорской резиденции. В подобных слухах, очевидно, была своя логика: Зимний дворец считался наиболее вероятной и в то же время невероятной (поскольку хорошо охранялся[630]) целью. То, что в слухах появлялся именно Зимний дворец, было тесно связано с другими расхожими представлениями о могуществе революционеров. Публицист князь В.П. Мещерский, в 1879–1881 годах близкий к наследнику престола, в воспоминаниях записал разговор с жандармским офицером, который уверял, что у «анархистов» есть агенты в III отделении и в петербургской полиции, и — как догадку — об их «гнездах» во дворце[631]. А.Н. Бенуа вспоминал слух, взволновавший его детское воображение, будто «невидимая рука» клала ежедневно на стол государя письмо с угрозой близкой «казни»[632]. Слухи о готовящемся взрыве Зимнего дворца, видимо, распространялись в Петербурге, азатем расходились по всей стране. Так, в начале февраля 1880 года, еще до известия о покушении 5 февраля, в г. Новоалександровске Ковенской губернии появились толки о подметных письмах, в которых сообщалось о намерении «злоумышленников» взорвать Зимний дворец. Расследование обнаружило, что распространителем слухов был прибывший 21 января из Петербурга мещанин Гжималовский[633]. Можно предполагать, что этот слух отчасти был связан с реально готовившимся покушением: публицист Н.С. Русанов, близкий к «Народной воле», но никогда не входивший в нее, в воспоминаниях утверждал, что он знал о готовящемся покушении С.Н. Халтурина[634]. Сейчас трудно сказать, сколько таких «знавших» было в Петербурге. Гораздо больше на распространение слуха о взрыве императорской резиденции влияли иностранные газеты. 30 ноября (12 декабря) 1879 года берлинская «National Zeitung» поместила заметку о неудавшемся покушении в Зимнем дворце[635]. Во французской газете «La Lanterne»[636] 1 (13) февраля появились известия о нескольких попытках взорвать Зимний дворец, которые затем были перепечатаны в «National Zeitung» 3 (15) февраля. Газеты сообщали об аресте двух переодетых дворников, которые забрались в Зимний дворец с целью вложить порох в печи, одного переодетого крестьянина с пятью бутылками нитроглицерина, а также об оставленной перед дворцом телеге, нагруженной большим количеством пороха и динамита и с зажженным фитилем[637]. Русская печать обратила внимание на эти заметки только после взрыва в Зимнем дворце. Читатели тем не менее могли узнать такого рода сведения непосредственно из первоисточника. В январе 1880 года в г. Холмогоры появились слухи о подведенных под Зимний дворец минах. В ходе расследования выяснилось, что слухи через административноссыльного Владимирова попали в Холмогоры из Архангельска, в котором немецкие мещане почерпнули их из декабрьского номера немецкой газеты, получаемой местным пастором[638]. Перед самым взрывом берлинские газеты писали о злоумышленнике, проникнувшем во дворец под видом посланца от генерал-адъютанта И.В. Гурко, который был раскрыт «по недостаточности военной выправки»[639]. Похожий слух циркулировал в Пскове, только в нем преступник пытался выдать себя за самого И.В. Гурко. Он явился во дворец «с шестью молодыми людьми, одетыми казаками, составлявшими его конвой, и был узнан, и то случайно, когда уже находился в приемном зале»[640]. Распространение подобных известий привело к тому, что некоторые современники в воспоминаниях утверждали, что о готовящемся взрыве было известно и полиции, и обществу, а потому совершенно непонятно, как полиция не смогла предотвратить его. Офицер л. — гв. Преображенского полка Р. фон Пфейль в 1908 году в воспоминаниях подтверждал существование общего знания о готовящемся взрыве, приводя свое письмо к жене от 12 декабря 1879 года[641]. Сложно сказать, насколько верно утверждение мемуариста о «всеобщем» знании о готовящемся покушении. Возможно, на него повлияли широко распространившиеся уже после взрыва 5 февраля 1880 года известия о предупреждениях, якобы предшествовавших покушению. Так, в «Петербургском листке» 14 февраля было перепечатано сообщение «Pall Mall Gazette» о том, что уведомление о готовящемся взрыве было своевременно доставлено в Россию русским посольством в Лондоне. Там же сообщалось, со ссылкой на «Kolnische Zeitung», что германское правительство еще в декабре 1879 года уведомило петербургский кабинет о плане минирования петербургских улиц (Большой и Малой Морских и Миллионной)[642]. Русская печать цитировала венскую газету «Abendpost», которая сообщила, что подробный план Зимнего дворца был найден германской полицией у проживающего в Женеве князя П.А. Кропоткина[643]. Взрыв в Зимнем дворце 5 февраля 1880 года, подтвердивший ходившие накануне толки, в свою очередь, привел к распространению слухов о готовящихся покушениях 19 февраля, день празднования двадцатипятилетия царствования Александра II. Очевидно, эта дата называлась в силу нескольких причин: во-первых, праздничные мероприятия, в которых император должен был участвовать, вынуждали его покинуть дворец и тем самым подвергнуть себя опасности в одном из тех людных мест, которые он должен был посетить, или во время переездов по городу. Во-вторых, в это время в публике уже утвердилось мнение, что террористы нуждаются в эффекте, так что покушение может быть направлено не только против императора, но вообще против толпы во время массовых гуляний. Наконец, 19 февраля само по себе было датой, на которой сосредоточились всеобщие ожидания: «народ» ждал «милости», т. е. передела земли, общество ожидало реформ[644]. Неудивительно, что эта дата казалась столь подходящей и для предсказываемой катастрофы. Слухи о том, что «что-то» готовится именно к этому дню, появились еще до 5 февраля. В декабре 1879 года на постоялом дворе в Рославлевском уезде Смоленской губернии ехавший из Москвы Иосиф Быхтовия рассказывал окружающим о том, что «19 февраля сего года удивят всю Европу и что в Петербургском вокзале нашли мины»[645]. В Петербурге рабочий завода «Вулкан» Петр Петров в январе 1880 года говорил товарищам: «Неубили Государя теперь [19 ноября 1879 года. — Ю.С.], так убьют его 19 февраля»[646]. Московский генерал-губернатор с тревогой сообщал начальнику Московского жандармского губернского управления 15 февраля: «…в Москве упорно держится слух, что 19 февраля приготовляется что-то вроде Варфоломеевской ночи»[647]. В слухах назывались разные места Петербурга, где возможны покушения на императора. В первую очередь указывались те объекты, которые царь должен был посетить во время празднования: слух о взрыве Казанского собора «носился» в Вологде[648], Исаакиевского — в Костроме и Полтаве[649]. Также 19 февраля ожидались масштабные экспроприации денег. Когда один из служащих Государственного банка услышал подозрительный шум, были вызваны саперы, вырывшие вокруг банка несколько траншей[650]. Распространению паники способствовали анонимные записки с угрозами. В.В. Воейков, офицер л. — гв. уланского Ее Величества полка, вспоминал, как он получил письма, подписанные «Колпаков», с прокламациями и советом считать себя «в осадном положении»[651]. В ночь с 11 на 12 февраля была тревога в конногвардейских казармах также в связи с получением предупреждения по почте[652]. Письма с угрозами взорвать казармы близ Таврического дворца были доставлены в л. — гв. Преображенский полк и 8-й флотский экипаж[653]. По поводу такого рода угроз журналист «Санкт-Петербургских ведомостей» высказал предположение, что «добрая половина» их рассылалась «шутниками, которые находят безрассудную забаву в том, чтобы пугать и без того напуганную публику»[654]. Чем ближе было 19 февраля, тем больше распространялись слухи и тем масштабнее казалась ожидаемая катастрофа. В этот день предрекали «взрывы, пожары, беспорядки», «поджоги», «общий взрыв газовых труб»[655]. Фельетонист «Санкт-Петербургских ведомостей» иронично описывал распространение слухов: Отрадная прогрессия геометрическая! — Несомненно, общий взрыв должен был произойти 19 числа… […] — Тогда же взорвут и Поцелуев мост. — Тогда же подожгут город с четырех концов. — И взорвут городской газовый резервуар. — И взорвут городской водяной резервуар, зальют весь город. — И строения разные взрывать будут… И пошло, пошло, пошло…[656] Несомненно, общему ожиданию катастрофы немало способствовали действия правительства. Конечно, празднование юбилея не могло быть отменено вовсе, как это советовали некоторые доброжелатели: это означало бы, что власть признается в бессилии перед террористами. Тем не менее празднование прошло куда менее торжественно, чем требовалось для юбилея. Стараясь не дать повода для каких-либо выступлений молодежи, Александр II лично запретил любые торжественные речи в учебных заведениях, кроме проповедей[657]. Во избежание «пьяных» инцидентов не было в этот день обычной в «царские дни» раздачи водки[658], кабаки были открыты только после окончания торжественных обеден — во второй половине дня. Этот день в полной боевой готовности провели войска Петербургского гарнизона[659]. Столичной пожарной команде было запрещено выезжать дальше одной версты от городской черты; совершать такие выезды можно было лишь минимальным составом[660]. Были усилены караулы, осмотрены подвальные помещения, а дворникам было приказано запастись водой, фонарями и свечами[661]. Последний приказ немало поспособствовал нагнетанию паники, так как дворники в превратном виде сообщали жильцам домов распоряжения властей[662]. Военный министр Д.А. Милютин вечером 19 февраля, оценивая празднование юбилея, написал: «Полицейские меры были приняты с избытком; даже, кажется, пересолили»[663]. Результатом распространения слухов стала паника в Петербурге: горожане старались выехать из города в Царское Село, Павловск, деревню или вовсе за границу[664]. Корреспондент газеты «Страна» отмечал, что театры стали «пустоваты, оттого что есть много наивных людей, которые опасаются, что “вдруг театр взлетит на воздух”»[665]. Некоторые предприимчивые дельцы пытались заработать на общем страхе: по домам ходили страховые агенты, предлагавшие страховать жизнь и имущество на случай непредвиденных событий 19 февраля[666]. Губернские города также не избежали распространения паники: в них ожидались поджоги и волнения молодежи. Следует особо отметить, что сведения такого рода поступали на места от центральных властей, безусловно поддавшихся нараставшей в столице панике. Министр народного просвещения специальной телеграммой попечителям учебных округов распорядился принять меры для предотвращения готовящихся «социалистами» поджогов зданий учебных заведений[667]. Из Штаба войск Московского военного округа было приказано усилить надзор за казарменными и казенными помещениями — также на случай поджога[668]. Губернаторы усиливали надзор: кто-то «совершенно секретно», как воронежский губернатор, не придававший слухам особого значения, другие — вполне открыто. Например, в Пскове полиция была усилена нижними чинами местного гарнизона, а с наступлением сумерек город стали обходить вооруженные патрули[669]. В Казани проводилась масштабная проверка паспортов прислуги всех учебных заведений и ежедневно осматривались чердаки и подвалы зданий[670]. Неудивительно, что, реагируя на эти меры и на распространяемые в газетах и письмах из Петербурга слухи, население провинции также стало ожидать локальных катастроф. Попечитель Казанского учебного округа П.Д. Шестаков иронично описывал ожидание взрыва университета: …с минуты на минуту ждали: «Вот сейчас раздастся треск — вот уже экзекутор подходит к попечителю и шепчет ему на ухо, конечно, об этом, — сейчас полетим на воздух!»… И пылкое воображение рисовало целую картину, правда, мало правдоподобную: «Как они [присутствовавшие на молебне в университете ученицы гимназии. — Ю.С.] через крышу вылетят на Воскресенскую улицу, как вокруг них соберется толпа, будут спрашивать их, как они сюда попали»[671]. Празднование юбилея прошло совершенно спокойно. После неудачного покушения на М.Т. Лорис-Меликова 20 февраля слухи о готовящихся террористических актах быстро пошли на спад. Их сменили толки о предстоящих реформах, даже введении конституции. Кроме того, вплоть до 1 марта 1881 года народовольцы явно не проявляли себя. О подготовке взрыва Каменного моста через Екатерининский канал летом 1880 года публике стало известно лишь год спустя, уже после смерти Александра II. Новая, еще более масштабная волна слухов была спровоцирована цареубийством. Как и в случае со взрывом 5 февраля 1880 года, ходили толки, что полиция отовсюду получала предупреждения, но ими пренебрегла. Газеты сообщали о подметных письмах, предупреждавших о покушении на пути из манежа[672], известиях из Берлина[673], Вены, Цюриха и Женевы[674]. Особенно много предположений появилось, когда стало известно об осмотре сырной лавки Кобозева городским техником генералом Е.А. Мравинским накануне 1 марта. Выдвигались разные версии, почему генерал не обнаружил подкоп: от страха прослыть нелиберальным[675], оттого, что «злоумышленники» запугали его[676], или даже потому, что он был с ними в сговоре[677]. Ходили толки и о предупреждениях, имевших мистический характер. В газете «Улей» появилась заметка об огромном коршуне, свившем себе гнездо на крыше Зимнего дворца и подкидывавшем каждое утро под окно императорского кабинета мертвых голубей. Это было сочтено за дурное предзнаменование, так как повторяло историю, якобы случившуюся накануне смерти Николая I[678]. Вспоминали предсказание парижской цыганки (или митрополита Филарета), утверждавшее, что царь не переживет восьмого покушения[679]. Суеверные люди обращались к нумерологии: если переставить цифры в дате 1818 (год рождения Александра II), то получалось 1881 — год его смерти[680]. Л.А. Тихомиров в воспоминаниях записал следующее суеверие: …если написать имена детей императора, то для всех них обнаруживалась угроза смерти: Николай Александр Владимир Алексей Сергей Прочтя акростихом сверху вниз — получаем «на вас», а снизу вверх «саван». То есть вместе «на вас — саван»[681]. Очевидно, о существовании у императора сына Павла предсказатели предпочитали забывать. Р. фон Пфейль вспоминал, что на разводе 1 марта офицеры обсуждали статью газеты «Кавказ», в которой рассказывалось о толковании турецким предсказателем Али Эфенди сна императора Александра II: «Ему приснилось две луны: одна красная, а другая обыкновенного цвета. Снотолкователь объяснил так, что между Россией и Турцией должна разыграться жесточайшая война. После нее в России возникнет революционное движение и через несколько месяцев император Александр II падет жертвою заговора»[682]. Слухи, ходившие в Петербурге, а затем разносившиеся по всей России, касались и вполне земных обстоятельств смерти императора. Большой интерес вызвал новый способ покушения при помощи метательных снарядов. До момента, когда стало известно, что их изобретателем является Н.И. Кибальчич, публика активно обсуждала вопрос их происхождения. Выдвигались версии ввоза из-за границы снарядов или их частей. Газета «Современные известия» утверждала, что снаряды сделаны в Амстердаме[683], в «Новом времени» писали, что в Амстердаме изготовлены только «сосуды для помещения взрывчатых веществ»[684]. Русские издания, ссылаясь на парижскую газету «Intransigeant», сообщали, что на пути из манежа императора ожидало множество людей с бомбами, так что «уйти ему от катастрофы было невозможно»[685]. Обнаружение мины на Малой Садовой улице 4 марта вызвало предположение, что подобные мины должны быть и в других местах Петербурга. Накануне погребальных церемоний по столице распространялись слухи о готовящихся взрывах под аркой Генерального штаба, под Казанским мостом[686], под главной водокачкой у Таврического дворца и под Тучковым мостом[687]. Наиболее вероятным местом для взрыва казалась Петропавловская крепость, а датой — погребение, назначенное на 15 марта. Из Ростова 10 марта пришла телеграмма о распространившемся там слухе о заложенных под крепость минах[688]. Газета «Молва» сообщала, что злоумышленники еще до 1 марта пытались снять в крепости мелочную лавку за две тысячи рублей[689]. В газетах также появились известия об аресте человека, переодетого придворным певчим, которого выследили по заявлению портного, получившего к 6 марта заказ от неизвестных людей на три траурных мундира певчих придворной капеллы. Передававшая этот слух газета «Голос» назвала его «вздорным», так как «число придворных певчих столь невелико, что появление самозванца в среде их было бы немедленно обнаружено»[690]. Между тем это сообщение не было беспочвенным. Из доклада М.Т. Лорис-Меликова от 8 марта выясняется, что 7 марта был арестован проникший в собор в певческом платье крестьянин Ярославской губернии. Расследование выяснило, что костюм он получил от певчего л. — гв. гренадерского полка, чтобы «увидеть печальную процессию и обряд соборного служения»[691]. Распространению слухов о заложенных минах способствовали власти, начавшие осматривать подвальные помещения и окапывать дворцы[692]. Особенно нагнетанию страхов способствовал назначенный 8 марта петербургским градоначальником Н.М. Баранов. Развив бурную деятельность по поимке социалистов, градоначальник нередко делился непроверенной информацией с посетителями великосветских гостиных. Так, А.В. Богданович записала в дневнике 15 апреля: «Баранов все врет. На днях рассказал Шувалову, адъютанту Владимира Александровича [вел. кн, — Ю.С.], что поймал 11 социалистов, хотевших взорвать пороховой погреб, а потом отперся от этой новости»[693]. Обращает на себя внимание также письмо К.П. Победоносцева Е.Ф. Тютчевой от 15 марта, в котором обер-прокурор сообщал, что Н.М. Баранов рассказал ему о готовящемся покушении: «…в четырех местах по дороге; в одном месте, на Невском, соберутся люди, переодетые извозчиками, с тем чтобы открыть перекрестные выстрелы»[694]. Начатые по инициативе градоначальника земляные работы вокруг дворцов (Зимнего, Мраморного и Аничкова) вызвали множество толков[695]. Среди прочего городская молва утверждала, что таким образом он мстит вел. кн. Константину Николаевичу[696]: канава рылась потому, что «будто бы из Мраморного дворца в Зимний был проведен провод для производства взрыва»[697]. Поиск подкопов и новых мин, ожидание покушений во время переноса тела или похорон — все это в преувеличенном виде попадало на страницы иностранных газет, а оттуда и в русскую прессу. «Русский курьер», со ссылкой на «Wiener Allgemeine Zeitung», сообщал читателям: …по обыскам оказывается, что в течение последних семи недель в восьми различных местах города найдены массы динамита, в общей сложности составлявшие вес 770 пудов [76 центнеров. — Ю.С.]. Доставкою оного было занято по крайней мере 150 человек. Утверждают, что с ноября месяца в шайку нигилистов поступило более тысячи новых членов, по большей части из интеллигенции[698]. В провинции появлялись толки о покушениях на Александра III и беспорядках в столице[699]. Ходили и совершенно невероятные слухи, например о том, что революционеры провозят динамит в винных бутылках через Константинополь, чтобы снарядить ими 500 воздушных шаров для атаки на Петербург[700]. А.В. Богданович записала в дневнике 15 апреля: «Рассказывают, что на днях государю устроили ванну в Гатчине, но он, к счастью, не сел — прежде смерили градусы. Обнаружилось, что там яд»[701]. Никаких чрезвычайных происшествий после 1 марта в Петербурге не последовало. Тем не менее уверенность, что террористы продолжат свою деятельность, сохранялась долго. Общим стало мнение, что следующее покушение будет организовано в Москве, во время коронации. Уже 3 марта киевский губернатор сообщал в департамент полиции о предположениях, что покушение будет подготовлено «исподволь» на одной из тех улиц Москвы, по которым пройдет торжественная процессия[702]. Возвратившиеся из Москвы в Тверскую губернию рабочие рассказывали о минах, заложенных под некоторые из зданий мануфактурной выставки, а также от Тверской заставы до Иверских ворот, — для покушения на императора[703]. В начале апреля московский обер-полицмейстер получил анонимное письмо с угрозою взорвать 8 апреля Страстной монастырь[704]. Наиболее подробный план покушения был описан в другом анонимном письме, присланном московскому генерал-губернатору 9 мая. Автор утверждал, что злоумышленники начали устраивать мину из просвирни Чудова монастыря, но «упокойник послушник им воспрепятствовал, за что он и зарезан бритвою»; вторая мина закладывается от здания окружного суда и ограды Чудова монастыря, из-под склада дров под Успенский собор, третья — из подвала Вознесенского монастыря, четвертая — на Красной площади из торгового погреба[705]. Широко распространился слух о том, что революционеры собираются похитить наследника цесаревича, «предать его страшным пыткам и воспитать другого в своем духе и потом выдать за царя»[706]. Слух этот бытовал в Москве[707], Петербурге, Кунгуре[708]. Вариант его передавал в местечке Веприке Полтавской губернии мещанин Трофим Галушко: революционеры «предполагают похитить Наследника престола и воспитать его по-своему, а потом, когда он вступит на Престол и станет Государем, то сделает все так, как они хотят»[709]. Слухи о предполагаемых действиях террористов были тесно связаны с представлениями о «социально-революционной партии» и об отдельных революционерах. Публику волновал вопрос о происхождении денег, на которые совершаются покушения. Несмотря на то что благодаря «Процессу Шестнадцати» общество узнало о завещанном «Народной воле» состоянии Д.А. Лизогуба, казалось, что этих денег слишком мало. Существовали разные версии происхождения партийных капиталов: революционеры получили 500 тысяч в наследство от Н.А. Некрасова[710], добыли в Америке посредством кражи или грабежа[711], вымогали у богатых купцов, получали от либералов, собирали по подписке, завлекали в свои ряды людей, получивших наследство, как они это сделали с Н.Е. Сухановым[712], устраивали за границей ложные доносы на своих, чтобы получить премию у русских посольств[713]. Представлению о том, что революционеры располагают огромными суммами, немало способствовали газеты, сообщавшие о найденных у арестованных деньгах, причем называвшиеся суммы все время возрастали. 5 марта 1881 года «Московские ведомости» писали об аресте «злоумышленника» в Измайловском полку, в квартире которого были найдены «огромная сумма денег и девять ящиков динамита», 7 марта «Петербургский листок» называл суммы 30 или 240 тысяч рублей, 10 марта эта сумма возросла до миллиона[714]. Долгое время исполнители террористических актов оставались неизвестны широкой публике. Чуть ли не главой заговора считался продолжавший скрываться за границей Лев Гартман. Скудость знаний об исполнителях покушений приводила порой к курьезам. После покушения 5 февраля 1880 года распространился слух о том, что в Петербурге видели Веру Засулич, которую генерал-адъютант Ф.Ф. Трепов узнал в Большом театре[715], или даже арестовали ее на квартире флотского офицера[716]. В отличие от предыдущих расследований следствие по делу 1 марта 1881 года было наиболее гласным, о каждом произведенном аресте публике сообщал «Правительственный вестник». Тем не менее, несмотря на получаемую официальную информацию, аресты и арестованные обрастали легендами. Так, утверждали, что Н.И. Рысаков был арестован в форме дворника с положенной по закону бляхой[717]. С.Л. Перовская, благодаря молве, рисовалась «дьявольски решительной женщиной», которая «заставляла некоторых своих товарищей расплачиваться самоубийством за проявленное малодушие»[718]. Публика нашла еще одного «злоумышленника» — вел. кн. Константина Николаевича. Молва утверждала, что именно генерал-адмирал является «скрытым корнем заговора»; «мутит», оттого что ему «не добраться никогда до верховной власти»[719]. III отделение получало анонимные предупреждения такого рода: «Оберегайте Царя от происков Константина — бунтари в его руках ширма и орудие для своих целей»[720]. Подозрения усилились, когда выяснилось, что Константин Николаевич единственный не присутствовал на семейном обеде 5 февраля 1880 года. Высказывались предположения, что он был осведомлен о покушении и в случае его успеха «объявил бы себя Императором при содействии флота»[721]. О широте распространения этого слуха свидетельствует запись в дневнике вел. кн. Константина Константиновича: «Говорят, что 4-го числа [февраля 1880 года. — Ю.С.] я был в карауле во дворце, чтобы подготовить взрыв»[722]. После 1 марта 1881 года в Петербурге распространились слухи, что великий князь уличен в сношениях с социалистами и для него приготовлено помещение в Шлиссельбургской крепости[723]. С покушениями связывали и сына генерал-адмирала вел. кн. Николая Константиновича, находившегося с 1874 года под домашним арестом и официально признанного сумасшедшим в связи с похищением фамильных бриллиантов и другими «выходками». Молва, связав этот арест с цареубийством, утверждала: «Николай Константинович арестован и заключен в Петропавловскую крепость. Говорят, что он скомпрометирован участием в происках нигилистов»[724]. Общество чутко прислушивалось не только к слухам о террористах и их действиях. Не менее угрожающей и загадочной силой представлялся «народ», реакция которого на покушения, и в особенности на цареубийство, составляла предмет постоянных опасений. В.А. Долгоруков получил после цареубийства письмо с подписью «старый земец», автор которого выражал опасение, что пущенные революционерами «вредные слухи», волнующие «массы», «могут легко повести к опасным демонстрациям и стоить жизни сотням неповинных людей. Мужики, не читающие или не понимающие газет, питаются дикими выдумками, не понимая, что враги царя суть враги дворянства и всего народа»[725]. Ожидание катастрофы, инициатором которой выступит спровоцированный террористами «народ», выразилось в распространявшемся в Черниговской губернии слухе о том, что после Пасхи произойдет «резня» помещиков[726]. Очевидно, именно этот страх порождал толки о происходящих то тут, то там народных расправах с лицами, заподозренными в принадлежности к партии «социалистов». Газеты сообщали, что 1 марта в магазине «Нового времени» артельщик «жестоко избил» девушку, сказавшую после взрыва «Слава Богу, наконец-то!»[727], а 4 марта на Невском извозчики и дворники избили «девицу, окутанную в плед, в синих очках, с постриженными волосами»[728]. Под крики «Бей студентов!» «крестьяне» избили господина Б-ова, носившего длинные волосы[729]. Общая обеспокоенность таким положением вещей была выражена в письме читателя в газету «Порядок», описывавшем поведение толпы на месте цареубийства и указывавшем, что в такую минуту «всякий злоумышленник мог бы эксплуатировать возбужденную толпу»[730]. Время покушений «Народной воли» было временем господства слухов, когда было трудно отличить достоверную информацию от выдумок и легенд. Ощущение недостоверности сведений, зыбкости пошатнувшегося порядка сквозит в наблюдениях журналистов и современников. Среди толков и разговоров было «трудно ориентироваться» хотя бы потому, что масса «нелепых» слухов мешалась с «опасениями серьезными»[731]. Хорошо осведомленный о настроениях в Петербурге Б.М. Маркевич писал К.П. Победоносцеву накануне 19 февраля 1880 года: «Настроение здесь такое, что у самого крепкого человека нервы разъёживаются чуть ли не до истерики. Вообще глупая какая-то бабья паника, недоверие и бессилие во всем и ко всему»[732]. Приехавший в Россию Морис Палеолог, несколько драматизируя, писал о впечатлении от русской столицы после 1 марта 1881 года: «Петербург был совершенно терроризирован, — не только покушением, совершенным 1 марта, но еще более слухами о силе и отваге революционеров. На улице можно было встретить лишь запуганных и растерянных людей»[733]. Столица в гипертрофированном виде переживала то, что переживала вся страна. В ней рождались слухи, которые благодаря газетам, письмам, а также личным рассказам путешественников достигали самых отдаленных уголков империи, обрастая по дороге невероятными подробностями. Вышедшая 2 марта на улицу в Ковно Ольга Любатович услышала весть: «Государь убит, Петербург взорван»[734]. Слухи были порождением страха за жизнь и за привычный миропорядок. Человек, прислушивавшийся к городским толкам, опасался всего: ходить по улицам, по которым ездит император, жить в казарме, хранить деньги в Государственном банке. Любой — дворник с бляхой, человек в военном мундире, сам генерал-адъютант И.В. Гурко — мог оказаться переодетым «социалистом». Опасение оказаться среди случайных жертв, как это случилось с нижними чинами л. — гв. Финляндского полка или четырнадцатилетним мальчиком Колей, погибшим 1 марта, мешалось с другим, более устойчивым страхом, который террор лишь актуализировал: страхом «русского бунта». Слухи рождали «панику и беспомощность», «точно во время чумы или наводнения»[735]. Слухи вызывали не только страх, но и любопытство, заставлявшее на модных спиритических сеансах спрашивать духов (даже дух Николая I), когда же наконец Александр II будет убит[736]. В этих мистических толках можно заметить несколько важных симптомов, относящихся к состоянию общества. Н.Н. Страхов писал после 1 марта 1881 года, что люди, за 15 лет привыкшие к покушениям, не верили в то, что императора можно убить[737]. Мне кажется, что обращение к спиритизму, внимание к разного рода предсказаниям подтверждают это наблюдение. Кроме того, интерес к мистике в какой-то мере свидетельствует о самоустранении общества от конфликта между властью и революционерами. Официальная печать и православная церковь внушали, что все события 1879–1881 годов совершаются только по Промыслу Божьему. Общество же как будто отдавало Александра II в руки судьбы, которая заранее предопределила ему насильственную смерть. Героями молвы становились и террористы, рисовавшиеся воображению то в романтическом, то в демоническом виде. Несомненно, что слухи, преувеличивавшие смелость, решительность, а также материальные возможности членов «Народной воли», оказывали влияние на разговоры о новых готовящихся покушениях. Террористы казались почти всесильными. Масштаб распространения слухов и вызванная ими паника накануне 19 февраля 1880 года и в марте 1881 года даже сегодня поражают воображение. Журналисты, непосредственно наблюдавшие за общественными настроениями, писали о массовых помешательствах, нервных потрясениях, бреде, даже mania religiosa[738]. Несколько иронично это состояние передавал фельетонист «Молвы»: «Теперь бы лучше всего было бы растворить горы опия в невской воде; пусть бы все на всякий случай пили»[739].ГЛАВА VI «ЗАПРЕТНЫЙ ПЛОД»: НЕЛЕГАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА КАК ЧАСТЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ПОЛЯ
Заинтересованная в поддержке общества партия «Народная воля» освещала террористические акты в ключе, продиктованном Исполнительным комитетом. Этой задаче служили журнал «Народная воля», «Листок Народной воли», а также прокламации, печатавшиеся в связи с различными событиями в нелегальных типографиях. Журнал «Народная воля» представлял собой значительное явление в нелегальной журналистике 1870-х годов[740]. Ни одно бесцензурное издание в XIX веке не имело такого большого тиража (2–3 тыс. экземпляров). Журнал выходил в течение 7 лет: с октября 1879 года по ноябрь 1886 года. Всего было издано 12 номеров журнала, одно прибавление к журналу, семь «Листков Народной воли» и одно приложение к «Листку». Осенью 1879 года вышли два первых номера, в январе 1880 года — № 3. Провал Петербургской Вольной типографии в январе 1880 года повлек за собой вынужденный перерыв. С июня по сентябрь 1880 года появились три «Листка Народной воли», и только в декабре вышел № 4 журнала, а уже в феврале — № 5. После 1 марта 1881 года издание было перенесено в Москву, где в июле 1881 года вышел очередной «Листок Народной воли». Первыми редакторами журнала были Л.А. Тихомиров и Н.А. Морозов. В начале 1880 года Н.А. Морозов уехал за границу, в том числе из-за конфликта в редакции издания. Л.А. Тихомиров участвовал в редактировании всех номеров «Народной воли» до седьмого включительно. Ведущее место среди авторов занимали Л.А. Тихомиров, А.П. Корба, Н.И. Кибальчич, Н.А. Саблин, В.С. Лебедев. В издании журнала принимал непосредственное участие Н.К. Михайловский с лета 1880-го до весны 1881 года. Читательская аудитория народовольческих изданий была несравнимо больше, чем у любого другого нелегального издания, печатавшегося в России. Члены партии заботились о распространении своей литературы, прежде всего прокламаций, рассылая их по почте во все губернии самым разным лицам, от высокопоставленных чиновников до сельских старост[741]. Особенно следует подчеркнуть, что всю свою печатную продукцию «Народная воля» рассылала по редакциям легальных изданий[742]. Также прокламации раскладывали в общественных местах, подбрасывали в библиотеки, университеты и гимназии[743]. «Народную волю», несмотря на «драконовские» методы борьбы с нелегальной литературой (6 марта 1880 года в Киеве за распространение прокламации по поводу покушения 19 ноября 1879 года был казнен Иосиф Розовский), читала не только революционно настроенная молодежь, хотя именно она составляла основной контингент читателей. С нелегальными изданиями были знакомы император и наследник престола, высшие сановники, губернаторы и жандармы[744]. Приобщиться к «запретному плоду» желали не только радикалы, но и вполне «благонамеренные» лица, которыми двигало желание узнать из первых рук, к чему именно стремятся террористы. Р. фон Пфейль писал в воспоминаниях, что он смог не только ознакомиться с двумя прокламациями «Народной воли» по поводу цареубийства, но и получить с них копии благодаря «любезности одного полицейского»[745]. Н.И. Пирогов справедливо сравнивал распространение нелегальной литературы на рубеже 1870—1880-х годов с ситуацией вокруг «Колокола»: «…о ней [подпольной печати. — Ю.С.] запрещено было упоминать в печати, приказанобыло игнорировать эту печать, тогда как она рассылалась и читалась молодежью и всеми любопытствующими»[746]. Обсуждение террора в 1879–1881 годах велось не только в народовольческой печати. О нем рассуждали все русские революционеры в России и за границей. Издания «Народной воли» никогда не существовали изолированно, на них, несомненно, оказывали влияние уже устоявшиеся в подпольной печати стереотипы, риторические штампы. Некоторые моменты, лишь смутно намеченные в органе народовольцев, более рельефно предстают при изучении всего комплекса нелегальной литературы этого периода. Исследование нелегальной литературы позволяет увидеть альтернативные точки зрения на проблему терроризма, существовавшие внутри русского революционного движения, на которые «Народная воля» была вынуждена реагировать. Таким образом, речь идет о влиянии на информационное поле нелегальной печати в целом. Положение собственно народовольческих изданий можно определить как положение «эксперта», но отнюдь не «диктатора», единолично определяющего, каким образом следует рассматривать происходящее в России.1. Споры о терроре на страницах нелегальных изданий
Необходимо отметить терминологическую двойственность, существовавшую в исследуемый период и связанную с различием в употреблении слова «террор». Родившееся во время Великой французской революции слово «terreur», т. е. «ужас» или «устрашение», в течение XIX века несколько раз поменяло значение, а точнее, субъект действия[747]. К 1879 году более устоявшимся было понятие «белого террора»[748], относившееся к употреблению насилия правительством. Выражения «красный террор»[749] и «терроризм» для обозначения убийств и покушений на убийства шпионов, должностных лиц и правителей были неологизмами. Эта двойственность употребления термина нашла отражение и на страницах «Народной воли»: «белый террор» там всегда соседствовал с «красным», объясняя и оправдывая последний. Для истолкования террора авторы «Народной воли» чаще всего прибегали к двум метафорам: метафоре войны и метафоре правосудия. Выбор зависел от того, какую сторону в осуществлявшемся партией методе политической борьбы следовало подчеркнуть. Несмотря на то что Л.А. Тихомиров в статье «На чьей стороне нравственность?» отрицал безнравственность политического убийства[750], все же очевидно партия нуждалась в том, чтобы каким-то образом оправдать применяемое ею насилие. Метафора войны позволяла описывать ситуацию, в которой обычные правила морали не действуют. «На войне — как на войне… Сентиментальность вовсе не уместна в такое время», — говорилось в статье «Кошачий концерт»[751]. Метафора войны появилась уже в передовой статье № 1 журнала «Народная воля»: «Правительство объявляет нам войну [выделено мной. — Ю.С.]; хотим мы этого или нет — оно будет нас бить»[752]. Эта фраза включает в себя характерный для партии прием использования метафоры войны: она подчеркивает, что инициатором террора выступило само правительство, «объявившее войну». В прокламации «Французскому народу от Исполнительного комитета русской революционной партии по поводу невыдачи Л. Гартмана» действия партии показаны как ответ на действия правительства: «Народная воля» только «принимает сражение»[753], начатое не ею, «отражает нападение»[754]. Навязанность, «вынужденность» террора декларировалась также в прокламации партии по поводу взрыва в Зимнем дворце: правительство подавляло исключительно «мирную» деятельность на благо народа, вследствие чего партия начала «вооруженную борьбу»[755]. В первых номерах «Народной воли» политические убийства были представлены как аффективные действия. Эта традиция восходила к процессу В.И. Засулич, поступок которой радикалы объясняли исключительно возмущенным «чувством чести», а не каким-то политическим или иным расчетом[756]. Л.А. Тихомиров утверждал, что террористы не руководствуются холодным расчетом, но действуют в «состоянии озлобления и отчаяния» и «крайней степени ожесточения»[757]. Причина такого состояния кроется в жестоких гонениях, которым подверглись мирные «ходебщики в народ»: не будь репрессий, русские революционеры действовали бы только методами пропаганды. Они органически не переносят насилие, «не способны к террору»[758]. Переход к последнему был описан А.А. Квятковским во время «Процесса Шестнадцати» как превращение «агнца» в «тигра». Он тут же подчеркивал, что это превращение «временное», вызванное «необходимостью»[759]. В такой интерпретации революционный террор становился еще одним преступлением правительства. Своими действиями оно вынудило перешагнуть через мораль «людей глубоко гуманных и неспособных к кровопролитию», «тяжелому» для них[760]. Эволюция взглядов народовольцев на террор нашла отражение в употреблении метафоры войны в статьях и прокламациях, относящихся к 1880–1881 годам. Их авторы выделяли два этапа войны «Народной воли» с правительством и, соответственно, два этапа понимания задач террора. На первом этапе партия «ограничивалась» отражением нападений «правительственных агентов»[761]. К этому периоду относится представление о терроре исключительно как о средстве «мести и самозащиты», продемонстрированное А.А. Квятковским и С.Г. Ширяевым на «Процессе Шестнадцати» и унаследованное ими от землевольческого периода[762]. В 1880 году террор представлялся народовольцам уже как способ борьбы с государственной организацией и в то же время как средство агитации: «Террор помогает организационной работе, пробуждая ум и чувство народа и интеллигенции, намечая сильнейшего врага и доказывая возможность борьбы с ним»[763]. Соответственно, война на этом этапе приобрела новый, «наступательный» характер. Тема мести и возмездия связывала метафору войны с другой, не менее часто употребляемой «Народной волей» метафорой правосудия. Чаще всего она использовалась в прокламациях по поводу покушений. Цареубийство в них было представлено как «казнь» и «кара», осуществляемая по «приговору» партии[764]. Метафора правосудия подчеркивала законность действий «Народной воли», она же снимала вопрос о нравственности политического убийства. Предвидя возможные возражения по поводу права партии осуществлять правосудие, Л.А. Тихомиров в статье «На чьей стороне нравственность?» прибегнул к казуистическому приему: правительство осуществляет правосудие, «узурпировав народную волю», в ответ на это партия будет считать себя вправе осуществлять правосудие «ровно до тех пор, пока оно не перейдет в руки народа»[765]. «Смертный приговор» был вынесен императору в связи с его «преступлениями». Главное, что ставилось ему в вину, — это «узурпация народного самодержавия»[766]. В прокламации по поводу 1 марта находим утверждение, похожее больше на норму права: «Всякий насилователь воли народа есть народный враг и тиран. Смерть Александра II показала, какого возмездия достойна такая роль»[767]. Также император обвинялся в 16 «убийствах» революционеров и «мучении» тысяч «страдальцев»[768]. «Он заслуживает смертной казни за всю кровь, им пролитую, за все муки, им созданные»[769], — гласила прокламация, посвященная взрыву 19 ноября 1879 года. Обе метафоры имели общую цель — подчеркнуть, что террор является мерой вынужденной, ответом на действия правительства. Это положение нашло воплощение в емкой формуле С.Г. Ширяева: «Красный террор Исполнительного комитета был лишь ответом на белый террор правительства [выделено мной. — Ю.С.]. Но не будь последнего, не было бы и первого»[770]. Постоянное подчеркивание вторичности террора партии по отношению к террору правительства подводит к необходимости проанализировать, что именно народовольцы понимали под «белым террором» и какими риторическими приемами пользовались при его описании. В изображении журнала «Народная воля» действия правительства представали как череда мер, попадающих под определение «насилия». Хронологические рамки эпохи «белого террора» были даны условно: последние десять-пятнадцать лет[771]. Историческая параллель с эпохой Ивана Грозного, не раз появлявшаяся на страницах партийного издания, удревняла историю «правительственного деспотизма» в России на несколько веков. В статьях газеты жандармы назывались «опричниками», а киевский временный генерал-губернатор — «Малютой Скуратовым»[772]. Народовольцы, первоначально видевшие в террористических актах месть, сосредотачивались на описании «белого террора», направленного против революционеров. Несколько номеров журнала вышло с разделом «Хроника преследований», в котором печатались сведения о ссылках, арестах, жестоком обращении со ссыльнопоселенцами и пр. Постоянно подчеркивалась несоразмерность преступления и наказания: в России вешают за «образ мыслей», отправляют на каторгу людей, «которых не за что было и под арест посадить»[773]. Журнал перечислял все разнообразие насильственных мер, применяемых правительством: оно «вешает», «губит в тюрьмах», «держит целые годы без суда и следствия» и «хоронит заживо в рудниках», «замуровывает в крепостях», «разлучает с детьми, женами и престарелыми родителями, оставляя их на произвол судьбы, без пропитания»[774]. Особенно остро в этот момент стоял вопрос о пытках: в одной из статей Л.А. Тихомиров писал, что Каракозова, Соловьева и других политических преступников пытали «электричеством и гальванизмом»[775]. Представить террор только как ответ на действия правительства против революционеров было недостаточно. В этом случае он выглядел бы просто как личная месть. «Народной воле» необходимо было показать, что она совершает возмездие за муки всей страны. Партия доказывала, что правительство применяет целую систему мер, в которые входит «полное подавление мысли, общественной жизни, уничтожение всех органов проявления народной воли и террор»[776]. Российская империя рисовалась в партийном издании как «душная необъятная темница», «живое воплощение разнузданного деспотизма»[777]. Изображение правительственных репрессий как явления, имеющего массовый характер, создавалось с помощью гипербол: «Нет деревушки, которая не насчитывала бы нескольких мучеников, сосланных в Сибирь»[778]. «Не отдельные личности, не десятки и сотни, а тысячи лиц замучены в тюрьмах, ссылке и каторге, тысячи семей подвергнуты разорению и брошены в омут безысходного горя»[779]. Получалось, что «белый террор» направлен не против одних только революционеров, но против всей страны. В таком случае «Народная воля» мстила не столько за своих товарищей, сколько за доведенную до отчаяния Россию. Постоянное изображение на страницах партийного органа «белого террора» служило, таким образом, средством легитимации террора «красного». Если правительство, узурпировав волю народа, творит судебный произвол, следовательно, и партия «Народная воля» вправе вершить правосудие. Равным образом партия вправе ответить насилием на насилие, если этого требуют интересы народа. При этом, отказывая правительству и его агентам в моральных качествах, награждая их действия эпитетами «зверские» и «кровавые»[780], народовольцы утверждали, что насилие чуждо самой природе русской молодежи. «Народная воля» была не единственным революционным изданием, обсуждавшим проблемы террора. Следует сразу отметить, что среди революционеров не существовало единого мнения по поводу допустимости и полезности применения насилия в качестве метода борьбы. Не вдаваясь в подробности происхождения и обоснования той или иной точки зрения[781], остановлюсь лишь на конечном результате, т. е. нелегальной литературе, так или иначе попадавшей в Россию и читавшейся в ней в период с 1879 по 1881 год. Против террора как метода, толкающего социалистов на путь политической борьбы, разумеется, выступал в России «Черный передел»[782]. В опубликованном в первом номере партийного органа «Письме к бывшим товарищам» был выражен протест против политической борьбы. Единственным доступным партии методом такой борьбы была названа «терроризация правительства»[783]. Именуя террор системой, основанной на «случайностях», «Черный передел» не отрицал возможности успеха задуманного цареубийства. Суть возражений состояла в том, что, даже если, запугав правительство террором, революционеры вынудят его пойти на уступки, они не только не приблизятся, но, напротив, удалятся от социалистического идеала, подтолкнув империю к буржуазному развитию[784]. «Чернопередельцы» подчеркивали, что народ, во имя которого партия борется с правительством, не понимает покушений на царя, видя в них лишь месть дворян[785]. Цареубийство 1 марта несколько смягчило негативные оценки: в вышедшем в марте 1881 года номере «Черного передела» оно было названо «казнью деспота», осуществленной как «месть за погибших товарищей»[786]. Общего отрицательного отношения к террору тем не менее удача «Народной воли» не изменила. В статье «По поводу события 1 марта» террор получил признание в качестве способа «борьбы против политического деспотизма, имеющей целью улучшение внешних условий деятельности революционной партии», но в ней отрицалось, что таким образом можно достигнуть социальной революции[787]. За границей с критикой террора выступил известный украинофил М.П. Драгоманов[788]. В брошюре «Смерть Александра И» (замечу, не «казнь») он открыто заявил: «Мы не сторонники убийств, в том числе и тираноубийств»[789]. Несмотря на неприятие террора, М.П. Драгоманов в других работах писал о том, что борьба русских революционеров поддается объяснению. В отличие от западноевропейских «довольно случайных» покушений русские убийства, с его точки зрения, представляют собой «законообразное явление»[790]. «Политические убийства […] вызываются застоем, мучениями и казнями со стороны правительства […]. Продолжение застоя […], увеличив количество недовольных и тех, кому нечего более терять, — увеличит число политических убийств», — писал он в брошюре «Соловья баснями не кормят», адресованной М.Т. Лорис-Меликову[791]. М.П. Драгоманов публиковал свои статьи в различных изданиях, в том числе в журнале «Общее дело», редакция которого не разделяла его неприязненного отношения к террору. Этот журнал, основанный по инициативе М.К. Элпидина, по существу выражал либеральные взгляды и поддерживал конституционно-монархическое движение в России[792]. Редакция разделяла общее представление о том, что политические убийства в России были вызваны «бесчеловечной жестокостью» режима, и потому отказывалась порицать их: «…нравственное чувство имеет также свою упругость, и кто же виноват в том, что у нас в России оно может давать только взрывы и не имеет для себя никакого мирного и правильного исхода»[793]. В августе 1880 года в журнале была напечатана статья «О пользе цареубийства» за подписью «профессора Историомарова» (В.А. Зайцева), в которой на исторических примерах доказывался тезис: «цареубийство полезно». При этом автор уточнял, что под цареубийством он подразумевает убийство, «имеющее целью перемену политической системы в обществе»[794]. Между эмигрантами были и поклонники террора и террористов. Среди революционных изданий выделяются посвященные положению дел на родине брошюры П.Ф. Алисова, богатого курского помещика, покинувшего Россию в 1871 году. В своих рассуждениях о терроре публицист обращался к традиции тираноубийства. Терроризм для него — прежде всего цареубийство: «Не пройдет и десятка лет, и убийство царя станет такой же необходимостью, как убийство рыскающей, бешеной собаки»[795]. Если «Народная воля» пыталась доказать, что убийство императора небезнравственно, то Алисов, напротив, доказывал высокую моральность такого деяния, потому что оно есть «протест человека против кровожадного, бессмысленного зверя»[796]. Цареубийство 1 марта было оценено публицистом как «казнь тирана» в одном ряду с казнями Карла I и Людовика XVI[797]. Столь же одобрительно высказался о 1 марта П.Н. Ткачев[798]. Очевидно, что русская эмиграция живо интересовалась борьбой «Народной воли». Несмотря на различное отношение к террору как методу борьбы, все эмигранты сходились в том, что единственным виновником террора является само правительство. В изображении эмигрантских изданий, русские революционеры были вынуждены перейти к террору вследствие жестоких репрессий. В этом пункте точка зрения эмигрантов совпадала с мнением, представленным на страницах «Народной воли». Также большинство заграничных изданий поддерживало метафору правосудия применительно к покушениям на Александра II, 1 марта чаще всего описывалось как «казнь». Важно отметить, что, говоря о терроре, эмигранты имели в виду прежде всего цареубийство, в то время как сама «Народная воля» включала в него убийства шпионов и должностных лиц. Видимо, вследствие этого для эмигрантов более актуальны были традиции тираноборчества и апелляция к прецедентам казни монархов. Следует отметить еще одно направление в дискуссиях о терроризме внутри революционного мира — ультратеррористические взгляды Н.А. Морозова и его последователя Г.Г. Романенко[799]. В апреле 1880 года журнал «Общее дело» опубликовал статью Н.А. Морозова «Русское террористическое движение», вслед за этим в Женеве вышла брошюра «Террористическая борьба»[800]. Н.А. Морозов видел в терроре новую форму революции, более гуманную, чем предыдущие, поскольку «она казнит только тех, кто действительно виновен в совершающемся зле»[801]. Солидаризируясь с теми, кто утверждал, что правительство само толкнуло революционеров на террор, он предсказывал последнему блестящие перспективы: если вслед за «Народной волей» в России возникнут и другие подобные организации, которые затем объединят усилия, то «наступят последние дни монархизма и насилия и откроется широкая дорога для социалистической деятельности в России…»[802]. Эмигрантские издания и «Черный передел» не имели такого влияния на информационное поле, как литература народовольцев. Это было связано не только с ограниченной численностью тиражей и трудностями доставки из-за границы, но прежде всего с большим авторитетом «Народной воли», подкреплявшей теоретические рассуждения о терроре практическими действиями. Тем не менее комплекс нелегальной литературы не следует игнорировать, поскольку она проникала в Россию. Кроме того, сами народовольцы должны были реагировать на рассуждения о терроризме других представителей нелегального лагеря, будь то полемические статьи «Черного передела» или не одобренная Исполнительным комитетом брошюра Н.А. Морозова.2. «Лицемерный деспот». Александр II в нелегальной литературе
Для того чтобы оправдать убийство человека, «Народной воле» необходимо было представить свою жертву в нелицеприятном виде, вообще лишить ее человеческих черт. Если речь шла об уничтожении шпионов, сообщения о «казни» которых появлялись в партийных изданиях[803], то они представлялись как «люди, не имеющие уже ничего человеческого и составляющие позор общества»[804]. Жалким показан шпион Жарков в «Листке “Народной воли”»: «…оглушенный кистенем, шпион упал, крича о помиловании, обещая во всем признаться. Несколько ударов кинжалом прекратили эту позорную жизнь»[805]. Разумеется, гораздо больше усилий редакция прикладывала для того, чтобы дискредитировать в глазах читателей главную жертву — императора Александра II. Выстраивание негативного образа монарха партия начинала не с чистого листа. К 1879 году в нелегальной литературе сложилась прочная традиция дискредитации Александра II, восходящая к статьям А.И. Герцена и серии очерков П.В. Долгорукова[806], с одной стороны, и опирающаяся на мнения и слухи, циркулировавшие в русском обществе, — с другой. По сути, не изобретая ничего нового, редакция «Народной воли» взяла на вооружение уже имевшиеся негативные характеристики императора, с тем чтобы доказать справедливость «смертного приговора». Можно выделить разнообразные приемы, которыми пользовались публицисты при конструировании негативного образа монарха. Журналисты нелегальных изданий удачно использовали навязывавшийся официальной пропагандой образ Царя-Освободителя. Намеренно чрезмерно употребляя закрепленные за царем официозные формулировки, авторы «Народной воли» добивались комического эффекта, превращая восхваление «Александра Милостивого» в фарс. Типичной можно назвать сказку «Доброта», помещенную в № 3 «Народной воли». В тексте, состоящем из двенадцати предложений, слово «добрый» было употреблено семь раз. «Добрый» царь после покушения на него «злых людей» утешал плачущего генерала, объясняя тому, что на него покушаются оттого, что он уж «слишком добрый»[807]. На страницах «Народной воли» ироничные характеристики императора как «царя-освободителя, Александра Милостивого» и «Александра Блаженного» соседствовали с титулом «Александр Вешатель»[808]. Для революционеров важными оказывались личные качества императора. В заграничной нелегальной литературе постоянно подчеркивалась и преувеличивалась старческая немощь 62-летнего монарха. Царя называли «добрый дедушка Студень»[809] (прозвище происходит от названия болгарской деревни Горный Студень, в которой во время Русско-турецкой войны 1877–1878 годов находилась ставка императора), «парализованная дохлятина»[810], «наш царственный Паралич»[811]и т. п. В статье «Народной воли», посвященной приему в Москве после покушения 19 ноября 1879 года, корреспондент писал о поразившей его резкой перемене: «…медленная походка, глухой голос, потухшие глаза, седые волосы, тяжелая одышка», — этот облик, как писал автор, резко контрастировал с бравым видом императора еще пять лет назад. Итог подводился неутешительный: «…от русского императора осталась жалкая полусгнившая развалина»[812]. Журналисты революционных изданий в один голос называли две причины подобных изменений: постоянный страх покушений и развратная жизнь[813]. «Старческие амуры» императора, разумеется, не могли добавить ему положительных черт. Революционеры использовали скандальный роман с Е.М. Долгоруковой сразу в нескольких целях. Во-первых, так подчеркивалось лицемерие императора, несоответствие его поведения официальному образу защитника нравственности и семейных основ[814]. Александра II обвиняли, с одной стороны, в том, что он тратит на любовницу миллионы, когда народ голодает[815]; с другой стороны, подчеркивалось вмешательство фаворитки в государственные дела. Журнал «Общее дело» утверждал: «Теперь уже редкая концессия получается не из ее [Долгоруковой. — Ю.С.] рук, редкий подряд и миллионная спекуляция обходится без ее посредства»[816]. Наконец, императора обвиняли в пренебрежении государственными делами. В корреспонденции из Москвы «многотрудными» обязанностями монарха были названы «цензирование наших невинных газет и разрешение благотворительных спектаклей»[817]. Фельетон «Дневник Императора Самодержца» добавлял к этим важным занятиям игру в «винт»[818]. В нелегальных изданиях создавался образ жестокого тирана, созвучный описаниям «белого террора». В прокламации «Народной воли» о Льве Гартмане император рисовался «лицемерным деспотом» и «главным столпом реакции», который «не стыдился даже усиливать приговоры […], на его личную ответственность приходится возложить смерть сотен лиц»[819]. П.Ф. Алисов в ответ на распространившееся после 1 марта сравнение смерти императора с муками Христа предположил, что логичнее сравнивать Александра II с царем Иродом[820]. Все перечисленные выше характеристики императора как сластолюбивого, жестокого старика были традиционны для нелегальной литературы. Начавшаяся «охота на царя» добавила в этот список такую черту, как трусость. Н.А. Саблин в фельетоне в гиперболизированном виде описывал меры охраны: улицы «превращаются в пустыню, окна запираются, пешеходы скрываются, экипажи скрываются в переулках, повсюду тихо, безмолвно, ни души»[821]. Чтобы благополучно добраться в Ливадию, император в том же фельетоне заказывает себе ящик и отправляется в багажном вагоне[822]. Схожий мотив находим в статьях журнала «Общее дело». Неудача покушения 19 ноября объяснялась предпринятыми предосторожностями: «…план был очень прост. Именно на время путешествия решено было называть дедушку багажом, а багаж дедушкой»[823]. Таким же образом император якобы ездил в Ниццу для прощания с императрицей Марией Александровной[824]. Итак, созданный «Народной волей» негативный образ Александра II соответствовал уже сложившимся традициям, бытовавшим в нелегальной литературе. Интересно, что царь, как его изображали революционеры, скорее жалок, чем страшен. Жестокий, трусливый старик, предающийся «старческим амурам», подчиняющийся своей любовнице, он представляет собой пережиток прошлого, мешающий развитию страны. Это уже не человек, а «старая развалина», которую не убивают, но добивают. Этот образ царя сопоставим с красочным описанием самодержавия в одном из номеров журнала «Народная воля»: Видали ли вы давно упавший ствол дерева в лесу? С виду он еще совершенно крепок, его кора совершенно цела, и на ней растут зеленые мхи… Но попробуйте вскочить на него: кора провалится под вашими ногами, и ствол рухнет, обдавши вас целым облаком гнили[825]. Очевидно, выбор в пользу более юмористического, чем демонизированного образа был связан с декларировавшимся «Народной волей» возможным отказом от террора в случае выполнения царем требований партии. Жалкого врага возможно было помиловать[826], в то время как сильный и жестокий требовал бы непременного уничтожения.3. «Святые тени мучеников за народное благо»
Не менее важным, чем создание негативного образа жертвы, было для народовольцев конструирование положительного образа революционера. Замечу сразу, именно революционера, а не исполнителя террористического акта. Террористы появлялись на страницах изданий «Народной воли» редко. Цель в этом случае была всегда одна: показать, что покушения осуществляются людьми из «народа». Такие упоминания подспудно были продолжением спора с Г.В. Плехановым и его сторонниками, утверждавшими, что революционное движение воспринимается «народом» только как происки дворян и чиновников[827]. «Народная воля» стремилась доказать, что «народ» не только правильно понимает происходящее, но, более того, террор осуществляется руками лучших его представителей. Этой задаче подчинено заявление Л.А. Тихомирова, сделанное от имени Степана Халтурина, что взорвавший Зимний дворец столяр «действительно рабочий по происхождению и ремеслу» и сообщения газет о его знатном происхождении «для него крайне неприятны»[828]. Прокламация по поводу казни А.А. Квятковского и А.К. Преснякова решала ту же задачу. В ней доказывалось, что правительство выбрало для казни Квятковского только потому, что он дворянин, а не потому, что он действительно участвовал в террористическом акте. Прочие же подсудимые на процессе «крестьяне да мещане»[829]. Революционеры, появлявшиеся на страницах «Народной воли», во всех других случаях были либо погибшими, либо томящимися в тюрьме или на каторге «товарищами». Разумеется, это значительно ограничивало возможность их реалистичного изображения. Видимо, сами авторы нелегального издания понимали это. Попытку преодолеть излишнюю идеализацию «героев» представляет собой отрицание Л.А. Тихомировым в статье «На чьей стороне нравственность» тезиса, будто бы все революционеры «существа идеально-нравственные». Признание, что между революционерами есть «малодушные, увлекающиеся и, больше всего, невыработанные люди»[830], все же не влияло на общую тенденцию: в нелегальной литературе революционеры описывались почти исключительно в светлых тонах. Герои революции освящены мукой или казнью, индивидуальные черты уступают место героико-патетическому мифотворчеству. Портрет идеального революционера рисовался следующим образом: этот человек либо находится на скамье подсудимых, либо уже мертв. Он всегда спокойно принимает свою участь, «расставаясь с жизнью, знает, что отдает ее за правое дело»[831]. Его последние минуты согреты надеждой, что товарищи продолжат его дело. Это «непреклонный» и исполненный «нравственного величия человек», способный поражать всех «экспромтами знания, умелости, изобретательности»[832]. Изображение революционеров в русле революционной мифологии, видимо, предопределило обращение нелегальной литературы к христианству с его развитой идеей мученичества во имя блага человечества. Прямой параллели между революционерами-«мучениками», как называли их авторы нелегальных изданий[833], и Христом на страницах «Народной воли» нигде не проводится. Однако обыгрывается ситуация гонений на христианское учение. Следует отметить, что это скорее обращение к истории, чем к Откровению. Намеренно модернизируя евангельский сюжет, журналисты «Народной воли» стремились доказать простую истину: хотя «римские жандармы» замучили «христианского бога», они не остановили распространение христианского учения[834]. Точно так же «гонения» на социалистов не смогут помешать торжеству социализма[835]. В большей степени использование евангельских мотивов характерно для публицистики П.Ф. Алисова, наблюдавшего за борьбой «Народной воли» с прекрасной виллы на берегу Средиземного моря[836]. Он объяснил поведение А.И. Желябова, поцеловавшего перед казнью крест, не как поступок верующего, но как жест равного: «…ты поцеловал запытанного на кресте не как бога, но как брата, умевшего умереть за святыню убеждений»[837]. Он же предрекал И.И. Гриневицкому воскресение из мертвых: «Чудный юноша! Наступит твой час, и ты подымешься из безвестного гроба, и ослепительнее солнечного света засияет вокруг твоей головы терновый венец»[838]. История Христа, таким образом, была рассказом не только о муках во имя идеи, но и о торжестве воскресения. Последнее применительно к революционерам осмысливалось чаще всего все же не как мистическое событие, но как воскресение в памяти благодарных потомков.4. Четыре портрета русского общества
Изображение на страницах нелегальной литературы русского общества было подчинено одной задаче: получить его поддержку в борьбе с правительством. Все прокламации «Народной воли» обязательно содержали в себе призыв к обществу «сомкнуть свои силы для предстоящей борьбы»[845]. Насколько сложным было выполнение этой задачи, настолько же противоречивым был портрет, созданный революционерами. Если бы общество заглянуло в «Народную волю» и другие подпольные издания, как в зеркало, оно бы увидело не одно, а несколько лиц, ничем друг на друга не похожих. Портрет первый: все слои общества всецело поддерживают революционеров. Портрет этот создавался двумя способами: либо прямо заявлялось о всеобщей поддержке, либо косвенно — через сообщения об общей ненависти к правительству. То, что этот портрет не имел ничего общего с действительностью, доказывает хотя бы высокая степень обобщенности: общество рисовалось как монолит — «всеобщее» сочувствие[846], радость по поводу цареубийства у «огромной части населения»[847], «критика, искание чего-то лучшего и способов осуществления этого» «повсюду, по всей стране»[848]. Эта же нерасчлененность видна в статьях, анализировавших отношение общества к правительству: недовольство в них названо «поголовным»[849], «люди досадуют», что покушение 19 ноября 1879 года не удалось[850], «общественное мнение» выносит правительству обвинительные приговоры[851]. Как подведение итога выглядит фраза из статьи «О казнях»: «Все против него [правительства. — Ю.С.]. Нет ни одного класса, ни одного элемента, который бы поддерживал его»[852]. Этот нарисованный в «Народной воле» портрет был скорее мечтой партии. Таким она хотела бы видеть состояние общества. Портрет второй был более реалистичным. Общество рисовалось разделенным на группы, враждебные друг другу. Здесь мы встречаем привычных героев, описанных и на страницах легальной литературы, либералов и «охранителей». Последние, впрочем, появляются в издании редко; они смешиваются с жандармами и шпионами, то есть с «партией вешателей»[853]. В центре внимания «Народной воли» был либерал. На его сочувствие рассчитывали члены Исполнительного комитета, когда обещали в программе помощь и защиту «всем оппозиционным элементам»[854]. В том, что либералы близки революционерам и могут им помочь, пытался убедить народовольцев и Н.К. Михайловский[855]. В большинстве случаев «Народная воля» рассматривала поведение либералов отнюдь не в радужном свете. В статьях журнала «либеральные достопочтенности», «любя покой, природу, книги», в лучшем случае лишь «мечтают» о счастье народа, ничего для этого не делая. Куда чаще они трусливо «запираются в скорлупу невинности и ничегонеделания и молчат»[856]. Нелицеприятная характеристика дана либералам в одной из статей «Народной воли»: «Они трусливы, “художественно трусливы”, и даже такого своего подхалюзинского мнения выразить вслух не решатся»[857]. И все же «Народная воля», обвиняя либералов в трусости, никогда не говорила о том, что те на самом деле служат правительству. Эмигранты, не столь заинтересованные в поддержке либеральных кругов, позволяли себе более резкие выпады. «Консерваторы в судах — прокуроры, либералы — адвокаты […]. Консерваторы охотно поступают в урядники, либералы — еще охотнее шпионами за границу […]. Консерваторы — губернаторы, либералы — чиновники особых поручений», — писал П.Ф. Алисов[858]. На втором изображении общества, нарисованном «Народной волей», есть еще один неопределенный герой — «остальные». К ним, по всей видимости, относятся те, чьи взгляды невозможно охарактеризовать одним из двух ярлыков. Все же отдельные характеристики сближают «остальных» с либералами. Они, конечно, не шпионят и не доносят, но необходимого партии «гражданского мужества» тоже не проявляют. «Остальные» либо «молчат», либо надеются: «Авось начальство помилует»[859]. Это они «свыклись» и «притерпелись» с «белым террором» и ничего уже не ощущают помимо «постыдного трепета»[860]. Это они «своей дряблостью, пассивностью» вычеркнули себя «из ряда борющихся общественных сил»[861]. Был и третий портрет, нарисованный «Народной волей» в ответ на изображение общества в легальных изданиях. Сообщения русских газет о реакции общества на покушение 19 ноября 1879 года Л.А. Тихомиров назвал «верноподданнической ложью, клеветой на Россию»[862]. Если газеты и уверяли: «…вся Россия пришла в ужас и уныние при известии о покушении, а потом вся Россия стала радоваться и восторгаться почти “до бесчувствия” ради того, что царь не взлетел на воздух», то сам он никаких «воплей отчаяния» не слыхал[863]. П.Ф. Алисов писал, что изображаемые журналистами «комиссаровские чувства» были почерпнуты «в секретном столе», их же «становые, урядники на обывательских развозили по России и диктовали их дворянству, купечеству»[864]. Сообщениям легальных газет противопоставлялись корреспонденции «Народной воли»: страна встретила покушение «равнодушно», «никакого волнения, ни раздражения, ни даже особого интереса»[865]. Л.А. Тихомиров уверял: «…при самом тщательном наблюдении верноподданнические чувства блистали своим отсутствием в массе населения»[866]. Верноподданнические адреса, во множестве печатавшиеся в «Правительственном вестнике», не признавались партией мерилом общественных настроений. Партия утверждала, что всем известно, каким образом адреса пишутся[867]. Наконец, после 1 марта 1881 года появился еще один портрет общества. Если первый был радужной иллюзией, то последний, написанный в пору разочарования, выполнен в черных тонах. В атмосфере «подлой, беззастенчивой лжи» действуют лишь «импотенты, жалкие в своих потугах, люди без веры, без идеалов, истасканные нравственно и физически, привыкшие утробно жить […]. Это надоедливые попрошайки, рассчитывающие раболепием добиться маленьких фикций правового порядка, принявшие на себя непосильное обязательство задушить действительную свободу; все это — смрадное испарение гнилого болота, потревоженного событием 1-го марта»title="">[868]. «Черный передел» пытался успокоить товарищей, уверяя, что не стоит смущаться «невежественными толпами» поклонников «низвергнутого Перуна»: «Они сами скоро излечатся от фанатической веры в божественность своего идола»[869]. Не столь оптимистичны были эмигрантские круги, разделявшие скорее мрачный настрой «Народной воли»: поведение русского общества П.Ф. Алисов назвал «черным позором, вакханалией рабства, отвратительнейшего факирства»[870]. «Народная воля» с повышенным вниманием относилась к статьям легальной печати. В ожесточенной полемике разных литературных лагерей нелегальные издания тоже были участниками, причем зачастую находившимися в более выгодном положении. Легальная печать, даже если знала об обвинениях, выдвигаемых против нее этой стороною, вынуждена была молчать. Речь идет именно об обвинениях, потому что революционные круги всегда с осуждением относились к тому, что пишут о них легальные издания. Для «Народной воли» аксиомой был тезис: легальная печать старается «при каждом случае улыбаться правительству и забрасывать нас [революционеров. — Ю.С.] самой возмутительной грязью»[871]. Неудивительно, что любое заявление в легальных изданиях воспринималось как клевета. Несмотря на то что Л.А. Тихомиров и утверждал, что газетные толки не стоят того, чтобы обращать на них внимание[872], появление таких статей, как «На чьей стороне нравственность?» и «Кошачий концерт», говорит об обратном. Упоминавшаяся уже не раз статья «Кошачий концерт» посвящена анализу мнений различных газет на покушение 19 ноября 1879 года. Ее автор расставляет самые крупные издания по местам «по качеству и по размеру подлости, глупости и холуйства»[873]. На первом месте оказалась газета «Новое время», которая и вообще «никогда не отличалась особенным умом», второе место заняли «Московские ведомости». В изображении Л.А. Тихомирова М.Н. Катков «рвет и мечет с пеной у рта […], зычным голосом требуя казней, крови, архи-генерал-губернаторов, увеличения числа шпионов и полиции». Наконец, особо выделен редактор газеты «Молва», который «усиленно воссылает к небесам молитву, полную скорби и отчаяния»[874]. Смысл всех обличений можно свести к одному: газеты всех направлений клевещут на революционеров и раболепствуют перед правительством, потому что любят деньги куда больше, чем свою родину. Следовательно, ничему из того, что пишут в них, верить нельзя. Еще в более неприглядном свете представлены русские журналисты в брошюре П.Ф. Алисова «Спасение отечества с выдачею 100 000 рублей вперед (Торжище)», в которой показан торг между неким «высокопоставленным лицом», под которым, видимо, подразумевается М.Т. Лорис-Меликов, и редактором газеты «Берег» П.П. Цито-вичем. О русских газетчиках ее герой говорит следующее: «Защищать основы может всякий. Краевский, Суворин, Полетика, Буква даром защищают, а приласкай их, руку им пожми, рюмку водки заставь их при себе выпить, — они из кожи вылезут!»[875] Намек на поведение русских журналистов во время «диктатуры сердца» очевиден. На страницах издания «Народной воли», и вообще не жаловавшей Главного Начальника, особо отмечалось поведение последнего по отношению к газетам: «Лорис очень ловко эксплуатирует лакейские чувства разных газетчиков, милостиво допуская их до разговора с собой: убытку ему никакого, а газетчики млеют и рады на стенку лезть за доброго барина»[876]. Особенно возмущало революционные круги поведение газет после 1 марта. Реакция на высказывавшиеся в газетах чувства скорби по поводу гибели императора и возмущение действиями революционеров последовала незамедлительно. Перечислив предлагавшиеся газетами меры против революционеров (вплоть до анекдотичного проекта ношения верноподданнических крестов[877]), В.С. Лебедев писал: «…кажется, никогда еще рабьи инстинкты и холопское нахальство не выползали на свет божий в такой омерзительной наготе»[878]. Обращает на себя внимание и то, каким образом революционные круги использовали религиозную риторику в собственных целях. Реакцией на рассуждения о воле Провидения, всякий раз спасающего царя, выглядит заметка в журнале «Общее дело», относящаяся еще к 1879 году. Корреспондент предсказывал в ней возможные последствия взрыва: «Преосвященный Макарий произнесет ряд таких проповедей, в которых как дважды два четыре докажет, что у нас теперь 4-ипостасная Троица: Бог, Сын, Св. Дух и Александр Николаевич», «Москва на месте “проклятого Сухоруковского домишки” воздвигнет уже не часовню, как около Летнего сада, а целый храм, на котором только, пожалуй, к надписи “Не прикасайся к Помазаннику Моему” прибавит слова “ни к свите его, ни к багажу его”[879]. В другой статье корреспондент сам брался истолковать волю Небес: Провидение, хотя и спасает царя, всякий раз допускает покушения, потому что надеется образумить его. Автор спрашивал, чего же хочет Провидение, и в качестве ответа приводил прокламацию «Народной воли», в которой излагались требования партии. В заключение он задавал вопрос: «Уж не Провидение ли устроило и саму мину?»[880] Сравнение Александра II с Христом вызывало возмущение революционеров, называвших его своим «братом». П.Ф. Алисов писал по этому поводу: «Попы […] дошли до кощунства: Александр II сравнивался с Иисусом […]. Я напомню пастырям, что они сравнивают два существа несколько разных обстановок и происхождений»[881]. Нелегальная литература в целом и издания «Народной воли» в частности были важной частью формировавшегося информационного поля вокруг проблемы терроризма. Именно в ней наиболее четко был поставлен вопрос о сущности террора как метода революционной борьбы. Прежде чем объяснять свои действия представителям «легальной России», народовольцам необходимо было разработать непротиворечивую концепцию терроризма, положив ее в основу программных документов партии. В течение 1879–1881 годов понимание террора эволюционировало от акта мести к способу политической борьбы и пропаганды. Особенно важным было для народовольцев убедить читателей в том, что «красный террор» партии — мера вынужденная и «нравственно тяжелая». Именно этой задаче подчинено использование метафор войны и правосудия при объяснении сущности терроризма. Остальной революционный мир в той или иной степени поддерживал предложенное партией объяснение покушений как ответа на «белый террор». Оценки избранного «Народной волей» метода борьбы разнились от всецелой поддержки до острой критики (М.П. Драгоманов, Г.В. Плеханов). Создавая негативный образ императора Александра И, народовольцы стремились демонизировать правителя, доказывая, что вынесенный ему «смертный приговор» справедлив. Особо следует отметить, что партийные журналисты в целом повторяли уже существующие отрицательные характеристики монарха, бытовавшие в нелегальной литературе. В изображении революционера (подчеркну еще раз, не террориста) народовольцы также не были оригинальными. Опираясь на сложившиеся-ранее стереотипы, они создавали образ «мучеников» за народное дело. Наконец, не было оставлено в стороне и русское общество. Изображение его на страницах нелегальной литературы крайне противоречиво, что, в свою очередь, отражает противоречивость и колебания самого общества в вопросе о революционном терроре. Нелегальная литература постоянно вступала в диалог с легальными изданиями. Целью этого диалога было не столько что-то доказать самим журналистам, сколько опровергнуть их точку зрения перед читателями, которые, быть может, никогда и в руках не держали всех газет, перечислявшихся корреспондентами «Народной воли» или «Общего дела».* * *
Реконструируя информационное поле, исследователь поневоле вынужден задавать вопросы о целях, желаниях, действиях сил, создающих информационные потоки и пытающихся влиять на поле в целом. Стремление как можно тщательнее рассмотреть сложный и противоречивый процесс складывания информационного поля проблемы терроризма увело нас довольно далеко от первоначальной цели. Политика правительства в области информирования населения или теоретические изыскания народовольцев о терроризме мало говорят о русском обществе. Гораздо больше можно сказать о нем, изучив легальную печать и тем более неконтролируемый процесс распространения слухов. Тем не менее информационное поле нужно исследовать только во всей его полноте. Журналисты цитировали официальные сообщения правительства, говорили языком проповедей, намекали на подпольные сочинения, не стеснялись передавать слухи. Проповедники, действуя в интересах власти, могли обращаться к газетным статьям, толкуя пастве о неурядицах в стране. Революционеры вынуждены были отвечать и первым и вторым. Впрочем, их положение было сравнительно выгодным: их оппоненты не могли реагировать на статьи подпольных обвинителей. Участвовало в этом процессе и правительство, безуспешно пытавшееся обеспечить себе полный контроль над распространением информации о покушениях на монарха и ее интерпретацией. «Встреча» всех сторон происходила в зале суда. Правительство в лице судей и прокурора стремилось доказать «преступность» террористов и заставить зрителей негодовать. Народовольцы в ответ убеждали судей и общество, что их действия вынужденны, а цели благородны. Наконец присяжные поверенные, вмешиваясь в этот спор, поднимали вопросы о правительственной политике, системе образования, ответственности родителей за детей-террористов. Внутри этого непрерывного диалога, цитирования и самоцитирования и находилось русское общество, поставленное перед необходимостью осмыслить проблему терроризма и ответить на нее какими-то действиями. Все рассмотренные информационные потоки, несмотря на их явное различие, объединяет выбор тем, через описание которых раскрывалась проблема терроризма. Это вопрос о том, кто такой террорист, почему он пришел в революционное движение, с какой целью осуществляет покушения на императора, какая организация стоит за его действиями. Второй вопрос — это вопрос о «мишени» террористов: каким образом следует воспринимать монарха, на которого производятся покушения. Наконец, третий вопрос — о роли общества в происходящем. Является ли оно участником или пассивным наблюдателем, несет ли ответственность за эскалацию революционного насилия, имеет ли возможность повлиять на происходящее. Публицисты «Народной воли» не отделяли революционера-террориста от революционера вообще. В соответствии со складывавшейся революционной мифологией они создавали образ «мученика», жертвующего жизнью ради народного блага. Параллельно с этим образом в информационном поле существовало множество других объяснений, кто такой террорист: преступник, фанатик, слуга дьявола, внешний враг, социалист и нигилист. Особенно обращает на себя внимание образ террориста как «заблудшего юноши», «дитяти русского общества». Именно этот образ содержал максимальный потенциал оправдания террориста как жертвы условий, в которых он вырос, перекладывая ответственность за терроризм на правительство или родителей. Эти определения выросли из горячих дискуссий о системе образования и о состоянии семьи и общественной нравственности, которые велись в это время в обществе. Создание образа Александра II как «мишени» террористов находилось в центре внимания правительства и в особенности Русской православной церкви. Образ «мученика», «искупительной жертвы» за грехи русского народа, начавший складываться еще во время первых народовольческих покушений, был как нельзя более удачен. Проповедникам удалось предложить такую интерпретацию 1 марта 1881 года, которая превращала его в событие, прославляющее самого монарха. Религиозная интерпретация смысла цареубийства без изменений заимствовалась всеми представителями легальной печати. Сложно сказать, разделяли ли журналисты подобные убеждения, выбирали ли их только из опасений цензурных репрессий или из-за неумения говорить о монархе иначе. Альтернативная точка зрения на Александра II предлагалась лишь в нелегальных изданиях. Народовольцам необходимо было создать демонизированный образ своей жертвы, чтобы доказать, что «смертный приговор», вынесенный ими, полностью заслужен. Образ тирана и выжившего из ума старого сластолюбца был изобретен не ими. Он был продолжением сложившейся за четверть века традиции, поддерживавшейся всей нелегальной литературой. Важно подчеркнуть, что революционеры активно использовали слухи о личной жизни императора, ходившие в обществе: роман с Е.М. Долгоруковой ставился Александру II в вину наряду с шестнадцатью виселицами и «миллионами страдальцев». Вопрос о роли общества в происходящем, в свою очередь, распадался на два: о степени ответственности общества за действия террористов и о том, что оно может предпринять для прекращения покушений. В правительственных обращениях первый вопрос не ставился. Власть призывала общество поддержать ее в борьбе с террором. Призывы эти тем не менее носили скорее декларативный характер. Александр II в обращениях и Александр III в манифестах видели помощь общества как соединение подданных у трона в молитве за благополучие державы, а не как его участие в политическом процессе. Равным образом Русская православная церковь, интерпретируя покушения как гнев Провидения, вызванный многочисленными «грехами» общества, предлагала в качестве решения проблемы покаяние и возвращение к вере в Бога, к верности престолу. «Народная воля», также стремившаяся заручиться помощью общества, на страницах своих изданий описывала его крайне противоречиво. Ее публицисты то заявляли о всеобщей поддержке действий партии, то гневно писали об общем «предательстве». В целом подход партии схож с подходом правительства: преследуя собственные цели, и та и другая сторона мало обращали внимания на действительную реакцию общества и то, каким образом его представители видели свое участие в происходящем. Игнорируя различные варианты самоопи-сания общества, предлагавшиеся на страницах газет публицистами, правительство и «Народная воля» создавали его портреты, далекие от реальности. Пользуясь метафорами «болезни» и «почвы», журналисты легальных изданий ставили вопрос о вине и ответственности русского общества за революционный террор иначе, чем ставили его остальные участники создания информационного поля. Признавая связь между возникновением терроризма и «болезненным» состоянием общества, они писали о причинах «апатии» и о способах борьбы с покушениями в соответствии с политическим направлением того или иного издания. Важно подчеркнуть, что и либералы и «охранители» использовали вопрос о борьбе с терроризмом как повод еще раз обратиться к обсуждению возможных путей развития страны. Логика тех и других в итоге приводила к тому, что победа над террором ставилась в зависимость исключительно от действий правительства: пойдет ли оно на уступки либералам или внемлет призывам «охранителей». Сложившееся в 1879–1881 годах вокруг проблемы терроризма информационное поле и сегодня поражает своим масштабом, многоликостью, противоречивостью. Избранный мной метод его анализа, ориентированный на членение информационного континуума на отдельные потоки в зависимости от субъектов, их порождавших, неизбежно навязывает этому полю несвойственную ему логику. Хотя в тексте обозначены основные точки пересечения информационных потоков и показано взаимовлияние различных источников информации, он рассказывает одновременно слишком много и слишком мало. Едва ли хоть один представитель общества был знаком со всеми существовавшими точками зрения на происходящее или постоянно соприкасался со всеми источниками информации. В то же время таким образом невозможно оценить, из какого именно «сопряжения» информации складывалось представление о терроре. Действительное воздействие информационного поля на представителей общества можно понять, изменив точку наблюдения. Место дотошного исследователя, знающего содержание десятков газет и сотен проповедей, читающего нелегальную литературу без опасения обыска и ареста и специально коллекционирующего слухи, должен занять совсем другой человек. Вообразим, что мы имеем дело с жителем столицы. За завтраком 21 февраля 1880 года он читает в своей газете (а читает он «Новое время», поскольку придерживается умеренных взглядов) сообщение о покушении на жизнь только что назначенного на экстраординарную должность «героя Карса» М.Т. Лорис-Меликова. Покушение для него отнюдь не новость, поскольку он сам накануне проходил по Большой Морской в третьем часу пополудни и своими глазами видел, как дурно одетый молодой человек стрелял в графа. Мы не знаем, какие чувства он при этом испытал. Возможно, ему тоже показалось, что вид у преступника «мерзкий, гадкий», и у него появилось желание того поколотить[882]. Вечером в клубе наш герой сделался центром общего внимания, так что историю ему пришлось повторить не один раз. Разумеется, весь вечер спорили о революционерах, организовавших покушение (никто в клубе не знает, что Млодецкий был террористом-одиночкой). Обсуждали учреждение Верховной распорядительной комиссии и обращение Лорис-Меликова к жителям столицы. Припомнили и недавнюю речь митрополита Исидора по поводу царского юбилея… Разумеется, он никому не рассказал, что утром получил по городской почте письмо в обыкновенном конверте, а в нем прокламацию по поводу взрыва во дворце. Прокламацию он прочитал и сжег, почему теперь опасается, что о ней было известно в почтовой конторе и что III отделение проверяло его благонадежность… Этим утром он читает в газете: «Решительная, крепкая, сильная власть, власть, которой была бы подчинена вся полиция, без всяких различий… власть, которая могла бы внести единство в действия, власть, которая бы не развлекалась отношениями и соглашениями, только такая власть способна обезопасить общество от этих позорных “случайностей”»[883]. Соглашается ли он с каждым словом? За одни сутки придуманный столичный житель смог столкнуться с самыми разными источниками информации о терроризме, но, сложись его день немного по-другому, он узнал бы о выстреле Млодец-кого только из газеты. Важнее этого факта то, как и что именно он извлекал из услышанного/увиденного/прочитанного. Принимал ли он на веру суждения газетных статей, прислушивался ли к разговорам сослуживцев или полностью самостоятельно вырабатывал мнение о происходящем? Конечно, в массе рассуждений, предлагавшихся внутри информационного поля, можно было найти объяснение террора на любой вкус. Вероятно, каждый конкретный человек выбирал то, которое в большей степени соответствовало его убеждениям, личному опыту, склонностям. Едва ли этот процесс был полностью осмыслен или строго рационален. Усвоенные из какого-то источника или выработанные самостоятельно, но все равно под влиянием предлагавшихся в информационном поле объяснений взгляды на террор транслировались дальше — в дневниках, письмах, разговорах. Иногда, чтобы понять отношение человека к террору, достаточно пары слов: например, тех, какими он называет исполнителей террористических актов. Иногда, наоборот, человек сам не мог понять, как именно он относится к покушениям и как вообще следует к ним относиться. Мой рассказ о событиях 1879–1881 годов перевалил за середину, а обещанный в первых строках этой книги герой так и не появился на сцене. Впору и впрямь решить, что русское общество — лишь «слово без смысла и содержания», поскольку до сих пор речь в книге в основном шла лишь о текстах — бессчетных газетных статьях, проповедях, правительственных указах, манифестах, а героями были люди, желавшие управлять обществом, но не быть им. Читателю был обещан рассказ о действиях в публичном политическом пространстве, между тем до сих пор, кажется, свое присутствие в нем обнаруживали одни лишь террористы, отправляющие свои «послания» при помощи динамита… Впрочем, внимательный читатель помнит, что с самого начала книги в число политических действий были включены акты коммуникации, почему, собственно, такими ценными оказываются террористические акты, понимаемые как передача информации пусть весьма нетривиальным, зато эффектным способом. На самом деле до сих пор речь шла об избранном мной зеркале, в которое однажды заглянуло русское общество. Оно потребовало предельно точного описания не собственно покушений «Народной воли» на императора Александра II, а того, каким образом о них можно было узнать, как понять и оценить. Учитывая сложность проблемы самой по себе и огромное разнообразие сложившихся вокруг нее мнений, а также присутствие в публичном политическом пространстве большого количества «игроков», стремившихся навязать остальным свою точку зрения, объявляя ее единственно верной, неудивительно, что описание этого зеркала заняло больше страниц, чем потребовал бы самый подробный рассказ о трех взрывах, организованных народовольцами.ЧАСТЬ II РУССКОЕ ОБЩЕСТВО в 1879–1881 годах: ОБСУЖДАЯ ПРОБЛЕМУ ТЕРРОРИЗМА
ГЛАВА I ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО: КАНАЛЫ КОММУНИКАЦИИ
Стремясь обнаружить русское общество, действовавшее в публичном политическом пространстве Российской империи в 1879–1881 годах, исследователь сталкивается с парадоксом источниковедческого характера: большинство сведений об обществе он вынужден черпать из вторых рук, причем из рук власти, т. е. силы, которая традиционно обществу противопоставляется. Более того, если рассматривать в качестве политического действия, доступного представителям общества в самодержавном государстве, акты коммуникации, то источники позволят довольно подробно рассмотреть взаимодействие между властью и обществом, но будут скупы на сведения о межличностной коммуникации. Природу этого парадокса можно объяснить особенностью формирования архивных фондов, хранящих делопроизводственные материалы различных государственных структур в большем объеме, чем документы частных лиц. Есть и другая причина: обсуждение политических вопросов представителями общества чаще всего имело устный характер. Если такие разговоры не выходили за границы «благонадежности» и на них не обратило внимание всевидящее око политической полиции, то они, за редким исключением, не оставили никаких следов. Кроме того, если обсуждение земством той или иной губернии адреса по поводу кончины Александра II, во время которого высказывались идеи о способах борьбы с террором и о котором известно благодаря журналам заседаний, безусловно, может быть отнесено к сфере политики, то разговоры в салоне А.В. Богданович, в которых речи о террористах перемежались рассуждениями о спиритизме, показывают, насколько тонка может быть грань между политическим и приватным. Эта ситуация и стала причиной, по которой исследование реакции русского общества на революционный террор основано преимущественно на мнениях, высказанных его представителями в посланиях, адресованных во власть.1. Верноподданнические адреса: правила игры
Наиболее формальным способом коммуникации власти и общества были верноподданнические адреса и телеграммы, которые отправлялись императору после каждого террористического акта различными учреждениями, корпорациями, собраниями и иногда частными лицами. Поскольку обращение ко всему обширному комплексу адресов не имеет смысла в силу их шаблонности и отчасти ритуального характера, остановлюсь на адресах служащих Министерства народного просвещения, чтобы показать особенности этого канала коммуникации. Через министра народного просвещения верноподданнические адреса по случаю спасения Александра II от покушений 19 ноября 1879 года и 5 февраля 1880 года, а также соболезнования Александру III по поводу кончины его отца отправляли служащие и учащиеся различных учебных заведений, от начальных училищ до университетов. От покушения к покушению количество изъявлений верноподданнических чувств возрастало. Параллельно шло упорядочивание процесса их отправления, связанное с тем, что они постепенно теряли экстраординарный характер, превращаясь едва ли не в рутину. После 19 ноября 1879 года большинство адресов и телеграмм, независимо от статуса их отправителя, направлялись министру[884]. После 5 февраля 1880 года ситуация резко меняется: местные учебные заведения стали посылать адреса попечителям своих учебных округов. Последние становились своеобразным «фильтром»: адреса, каллиграфически написанные и украшенные виньетками, порой даже «обложенные в темно-синий с золотом бархатный переплет»[885], отправлялись министру, в то время как телеграммы, журналы заседаний и решения о пожертвованиях оставались у попечителя, который сообщал в вышестоящие инстанции лишь о сути посланий[886]. Вторым «фильтром» на пути к высочайшему адресату был сам министр, принимавший решение, какие из адресов представить в подлиннике, а о каких сообщить в докладе. Высокой чести скорее могли удостоиться адреса от учащихся. Так, на адресе воспитанников Московского Императорского лицея в память Цесаревича Николая Александр II милостиво написал: «Благодарить, и надеюсь, что эти благородные чувства сохранятся и впредь»[887]. Впрочем, это учебное заведение, известное также как «катковский лицей», находилось на особом положении. После покушения в Зимнем дворце Д.А. Толстой посчитал необходимым представить в подлиннике и малограмотный адрес, составленный учениками-крестьянами Городецкого начального училища, находившегося в Балахнинском уезде Нижегородской губернии[888]. Все-таки большинство адресов, как бы красиво они ни были оформлены, оставались в канцелярии министра. Император получал лишь списки учреждений, заявивших о верноподданнических чувствах. В ответ на адрес неизменно следовала высочайшая благодарность, о которой монарх уполномочивал министра сообщить отправителям. Даже наличие посредников не гарантировало, что на стол императору ляжет полностью «благонадежный» адрес. К юбилею царствования Славянское благотворительное общество единогласно приняло редакцию адреса, составленного Ф.М. Достоевским. Министр внутренних дел приказал исключить из текста фразы о славянском единении и о предчувствии «будущего великого разрушения», однако в адресе остались слова о террористах как о «юных русских силах, увы, столь искренно заблудившихся», равно как и осуждение воспитавших их отцов. Высочайшее неудовольствие вызвала оставленная, вероятнее всего, Л.С. Маковым фраза: «Мы верим в свободу истинную и полную, живую, а не формальную и договорную, свободу детей в семье отца любящего и любви детей верящего, — свободу, без которой истинно русский человек не может себя и вообразить». А.Г. Достоевская сделала примечание на беловой рукописи адреса: государь заявил доложившему адрес министру, что он «никогда не подозревал Славянское Благотворительное Общество в солидарности с нигилистами»[889]. Хотя изъявление верноподданнических чувств было формально добровольным решением подданных, на деле отсутствие реакции на покушения было чревато для отмалчивающихся неприятными последствиями. Недаром попечитель Одесского учебного округа в марте 1881 года писал о своем «немалом затруднении»: к концу месяца только одно учебное заведение округа выразило свои чувства по поводу события 1 марта. Пытаясь как-нибудь объяснить ситуацию, он указывал в качестве причины «нравственное потрясение несчастным событием» учителей и учеников прочих учебных заведений[890]. Отсутствие адреса могло быть расценено как политическая демонстрация, а иногда и было таковой. Собравшееся после 1 марта 1881 года на чрезвычайное заседание Самарское губернское земство почти полным составом, кроме трех человек, отклонило предложение об отправке адреса, мотивируя это тем, что в течение последнего времени земством было послано пять адресов, которые ни к чему не привели, и потому, как выразился гласный Наумов: «К чему пустая формальность?.. Лучше молчать»[891]. Смысл верноподданнических адресов заключался в самом акте коммуникации подданных и монарха, а не в содержании послания, с небольшими вариациями сообщавшего о неизменной преданности престолу и негодовании на злоумышленников, покушающихся на Священную Особу Государя Императора. Порой предпринимались попытки нарушить правила игры и превратить адрес из ритуального послания в более или менее откровенное заявление о необходимости реформ. В 1878 году, после того как Харьковское земство приняло адрес, требовавший введения конституции, местным властям циркулярно было предписано не допускать обсуждений, подобных харьковским. Запрет был нарушен только в марте 1881 года: адреса Новгородского, Казанского, Тверского и Черниговского губернских и Весьегонского, Солигаличского, Череповецкого уездных земских собраний по поводу цареубийства 1 марта содержали высказывания о необходимости политических реформ[892]. Политические заявления присутствовали и в составленных в марте 1881 года адресах Саратовского и Самарского губернских дворянских собраний[893]. За слова «единственный исход из переживаемого тяжелого положения есть созыв избранных народом представителей для установления мер к водворению желаемого порядка и спокойствия» допустивший их самарский губернский предводитель дворянства С.П. Юрасов был наказан уже летом 1881 года, когда Александр III не утвердил его в должности[894]. В марте 1881 года растерявшаяся власть принимала адреса, содержавшие политические заявления. Когда после манифеста 29 апреля 1881 года Черниговское губернское дворянское собрание приняло решение поднести императору адрес, в котором монарху советовалось «войти в непосредственное общение с землею через излюбленных людей»[895], министр внутренних дел Н.П. Игнатьев сообщил встревоженному подобным заявлением харьковскому генерал-губернатору, что «Государь подобных адресов не допускает и депутатов не примет»[896]. В конце концов черниговскому дворянству разрешили поднести адрес при условии, что слова об «излюбленных людях» будут из него исключены[897]. Нарушенная в марте ритуальная коммуникация подданных и монарха возобновлялась. Жанр верноподданнического адреса, несмотря на его распространенность, нес в себе определенную угрозу: именно его ритуальность обесценивала содержащееся в нем послание, в котором правительство хотело видеть общественное мнение. Невозможность написать о том, что действительно волновало общество, с одной стороны, и боязнь высочайшего неудовольствия из-за отсутствия адреса, с другой, приводили к жесткой критике как самой практики, так и людей, которые ее поддерживали. Известный юрист и общественный деятель Б.Н. Чичерин в личном письме пытался убедить К.П. Победоносцева в неискренности всех подобных заявлений: «…официальные адреса можно посылать по всякому случаю, даже по поводу отмены соляного налога, над чем смеются сами те, которые его посылают»[898]. Харьковский нотариус Су-щев в феврале 1880 года утверждал, что в борьбе с террористами адреса столь же бесполезны, как молитвы и тосты за здоровье государя[899].2. «И крестик дорогому Царю!» Поднесения монарху от подданных
Совершенно противоположным верноподданническому адресу явлением было поднесение монарху стихотворений, музыкальных произведений и священных предметов. Если адреса были, как правило, заявлениями коллективными, то эти послания были сугубо индивидуальным делом отправителей. В отличие от адресов, в получении которых власть нуждалась, эти проявления монархических чувств терпели скорее по традиции. Когда министр народного просвещения А.П. Николаи получил посвященное Александру III стихотворение от отставного унтер-офицера Ивана Карелина, он раздраженно написал на нем: «Не понимаю, почему сей воин-пиит избрал меня посредником своего влечения на Парнас!»[900] Чиновники канцелярии Министерства императорского двора, получавшие вместе со статс-секретарем большую часть такого рода заявлений, старались выяснить, нет ли у адресанта явных или скрытых корыстных мотивов, не получал ли он ранее сумм из кабинетных денег императора. С ноября 1879 года по июль 1881 года Министерством императорского двора было получено сорок три верноподданнических заявления, вызванных, по указанию их авторов, террористическими актами. Рисунок 1 показывает, насколько такого рода заявления были привязаны к конкретному событию: если произошедшее в конце ноября 1879 года покушение вызвало письмо, датированное декабрем, то все послания, связанные со взрывом в Зимнем дворце, относятся к февралю 1880 года. Только цареубийство 1 марта упоминалось в верноподданнических прошениях месяцы спустя. В тридцати двух случаях императоры получили стихотворные произведения (в том числе три молитвы и одну эпитафию), в которых описывались покушения и вызванные ими чувства. Кроме того, подданные посылали иконы, крестики, воззвания к нигилистам с требованием прекратить террор. Среди подношений были также историко-драматическое произведение «Город Брундус», сочинитель которого «поражал сарказмом нигилистов»[901], и вышитые домашние тапки.
 Рис. 1. Заявления верноподданнических чувств в связи с террористическими актами
Рис. 1. Заявления верноподданнических чувств в связи с террористическими актами
Авторами посланий в большинстве случаев были мелкие канцелярские служащие (11 человек), учителя (6 человек), мещане(6 человек), купцы, актеры, отставные унтер-офицеры. Среди корреспондентов императора было семь женщин и двое детей. Некоторые из них писали императору после каждого покушения, другие упоминали свои произведения, поднесенные к именинам, празднованию юбилея царствования и пр. Часть просителей удовлетворялась самим фактом обращения к монарху и получения через министра императорского двора высочайшей благодарности. Были и те, кто превращал свои труды в источник дохода, как дворянка Н. Дмитриева, с 1872 по 1881 год подносившая «предметы собственной работы» десять раз и каждый раз получавшая пособие в двадцать пять рублей[902]. Следует отметить, что из сорока трех заявлений только три содержали предложения по борьбе с терроризмом. Титулярный советник П.Ф. Сергеев просил обнародовать свое письмо, в котором описывал положительные качества «Царя-Ангела» и свою любовь к нему, чтобы «хотя одна душа из нигилистов, крамольников» могла «обратиться к Богу и раскаяться в своем заблуждении»[903]. Таким же образом собирались бороться с покушениями коллежский асессор Ф.И. За-крицкий и учитель А. Клеваев: первый с помощью «Воззвания русского к своим соотечественникам», второй — брошюрой «Опровержение лжеучений социализма»[904]. Если верноподданнические адреса были максимально публичным каналом коммуникации общества и власти (сообщения об адресах печатали газеты, а их тексты нередко помещались в отчетах об очередной сессии земства или в журналах заседаний дворянских собраний), то изъявления верноподданнических чувств и разнообразные подношения были приватным общением подданного и монарха, пусть и при посредничестве министра императорского двора. Среди посланий постоянных корреспондентов, знавших, на чье имя и в каких выражениях адресовать свои прошения, встречаются письма новичков: «…прошения не привыкла писать, не умею, и потому обращаюсь прямо, как сердце говорит»[905]. В большинстве случаев их едва ли можно относить к актам коммуникации в публичном политическом пространстве. С другой стороны, в этих посланиях можно видеть реликты политики совсем иного рода, основанной на личном общении монарха и подданных. То, что такого рода общение было в рассматриваемое время скорее пережитком, доказывается немногочисленностью корреспондентов, их невысоким социальным статусом, а также неизменным поиском чинами канцелярии корыстных мотивов, вызвавших послание. Власть делала вид, что верит в искренность адресов, отправляемых коллективно, но не скрывала недоверия к личным заявлениям подданных.
3. Записки о борьбе с террором: «Если СЛОВО СМОЖЕТ БЫТЬ ПОЛЕЗНО ДЛЯ ДЕЛА»
Наибольший интерес для исследования представляют записки о борьбе с терроризмом, созданные в течение 1879–1881 годов и адресованные представителям высшей администрации. Этот канал коммуникации не был публичным. Лишь несколько записок были опубликованы за границей в виде отдельных брошюр или обнародованы после 1905 года[906]. На такие письма не следовало ответа: корреспонденты высочайших лиц могли лишь надеяться, что их труд повлечет за собой какие-то изменения во внутренней политике. Всего мной было проанализировано 215 записок, созданных в промежутке с декабря 1879-го по октябрь 1881 года и принадлежащих перу 191 автора. Очевидно, записок о борьбе с терроризмом было больше: в частности, в дневнике М.И. Семевского упоминаются «проекты охранения жителей от злоумышленников», полученные санкт-петербургским градоначальником Н.М. Барановым «во множестве». Их пока не удалось обнаружить[907]. Выявленный корпус источников, на мой взгляд, позволяет решить поставленную исследовательскую задачу. Его основу составляют записки на имя М.Т. Лорис-Меликова (139 случаев). Кроме того, были рассмотрены послания к его предшественнику на посту министра внутренних дел Л.С. Макову и его преемнику Н.П. Игнатьеву; записки трем последовательно сменившим друг друга министрам народного просвещения Д.А. Толстому, А.А. Сабурову и А.П. Николаи, министру юстиции Д.Н. Набокову, обер-прокурору Синода К.П. Победоносцеву и некоторым другим. Также были привлечены несколько записок из фондов императоров Александра II и Александра III, созданных высокопоставленными авторами. Рисунок 2 позволяет увидеть динамику составления записок о борьбе с терроризмом. Хотя такого рода тексты стали появляться уже после первого покушения «Народной воли», большинство их стало ответом на обращение Главного Начальника Верховной распорядительной комиссии 15 февраля 1880 года. Второй всплеск отмечается после цареубийства 1 марта 1881 года. При этом большинство записок конца апреля и мая 1881 года появились как ответ на манифест «о незыблемости самодержавия». Таким образом, можно утверждать, что взаимодействие власти и общества было инициировано самой властью, давшей дозволение на такого рода коммуникацию. Разумеется, последняя не была свободна от определенных ритуальных правил, хотя подчинялась им не в такой мере, как верноподданнические адреса. Обращение к высшим сановникам империи требовало использования верноподданнической риторики, с одной стороны, и определенной осторожности — с другой. Некоторые авторы опасались последствий своей откровенности: пятьдесят одно послание (т. е. почти четверть выявленных) было отправлено анонимно. Один из анонимов, назвавшийся «русским писателем», даже советовал М.Т. Лорис-Меликову официально объявить, что «всякий, имеющий нечто полезное и желающий высказать свое мнение об общем деле, может Вам представить его невозбранно и не подвергаясь ответственности за прямоту»[908]. Рис. 2. Записки о борьбе с терроризмом 1879–1881 годов
Рис. 2. Записки о борьбе с терроризмом 1879–1881 годов
Адресатами большинства записок (рис. 3) были лица, в тот или иной момент стоявшие у руля внутренней политики. Ранее уже отмечалось, что большая часть проектов была получена М.Т. Лорис-Меликовым на посту Главного Начальника Верховной распорядительной комиссии. Причина этого, на мой взгляд, заключается не только в знаменитом обращении, но и в том, что его должность была создана специально для борьбы с покушениями. Таким образом, он выступал не только символом «новых веяний», но и лицом, прямо отвечающим за подавление террора. Стоит отметить, что параллельно с М.Т. Лорис-Меликовым проекты борьбы с терроризмом получал министр внутренних дел Л.С. Маков. Направленные ему проекты касались реорганизации полиции и административной ссылки, т. е. вопросов, входивших в сферу его компетенции. Несколько записок М.Т. Лорис-Меликов получил в августе-сентябре 1880 года, когда вступил в должность министра внутренних дел.
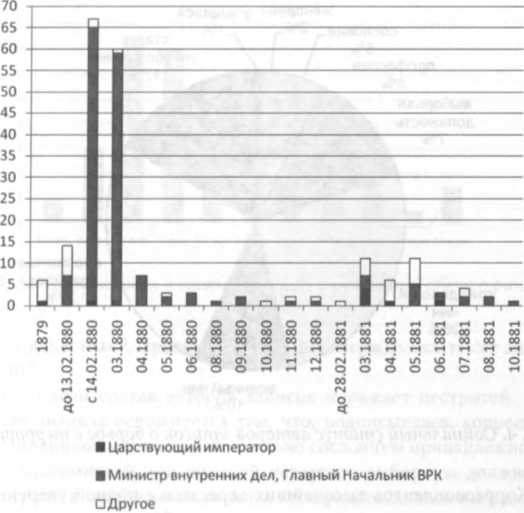 Рис. 3. Адресаты записок о борьбе с терроризмом
Рис. 3. Адресаты записок о борьбе с терроризмом
В марте-апреле 1881 года, напротив, наблюдается удивительное разнообразие лиц, считавшихся компетентными в вопросе борьбы с «крамолой». Как никогда много писем получил царствующий император, причем не только от людей, лично ему знакомых, но даже от анонимных корреспондентов. М.Т. Лорис-Меликов, напротив, утратил авторитет: удалось выявить только три адресованные ему записки. Представители общества в основном писали лицам, близким новому императору: Н.М. Баранову, К.П. Победоносцеву, назначенному в марте 1881 года министром народного просвещения А.П. Николаи. Ситуация изменилась 4 мая с назначением Н.П. Игнатьева: поток предложений против террора вновь направился к министру внутренних дел. Летом 1881 года стал получать записки И.И. Воронцов-Дашков, начальник охраны Александра III и один из руководителей «Священной дружины», ставший 17 августа министром двора.
 Рис. 4. Социальный статус авторов записок о борьбе с терроризмом
Рис. 4. Социальный статус авторов записок о борьбе с терроризмом
Корреспондентов высочайших адресатов с полной уверенностью можно назвать представителями русского общества: не только в силу их социального статуса, о котором ниже, или стремления повлиять на политическую ситуацию, но в первую очередь потому, что они самисчитали себя таковыми. Одни, как кишиневский землемер Алмазов, прямо объявляли себя «членами того русского общества, к которому Вы [М.Т. Лорис-Меликов. — Ю.С.] обратили свое слово»[909]. Другие апеллировали к обращению 15 февраля 1880 года, обосновывая свое право писать именитому адресату, право члена общества, на поддержку которого смотрят как на «главную силу, могущую содействовать власти в возобновлении правильного течения государственной жизни». Авторы записок подчеркивали, что высказывают не индивидуальное мнение, но говорят с властью от имени общества. Харьковский чиновник П. Пассек писал, что его выводы сделаны «из множества голосов общественного мнения»[910]. Гласный Петербургской думы Н.В. Латкин просил позволить ему «быть отголоском некоторой части русского общества»[911]. Право советовать подтверждалось также знанием жизни[912].
 Рис. 5. Авторы записок в соответствии с классами Табели о рангах
Рис. 5. Авторы записок в соответствии с классами Табели о рангах
Социальный состав авторов записок поражает пестротой. Возможность анализа осложняется тем, что, подписываясь, корреспонденты сановников могли указать на свою сословную принадлежность, место в чиновничьей или военной иерархии, выборную должность или все сразу, в зависимости от того, что представлялось им важным или оправдывающим обращение во власть. Некоторые из них свой статус никак не обозначали. Диаграмма на рисунке 4 позволяет говорить, что при обращении во власть для большинства авторов было важным указание на военный или гражданский чин. Последний зачастую указывался и в том случае, если человек был в отставке. Представители русского общества предпочитали говорить с сановниками по праву людей, так или иначе к власти прикосновенных, состоящих или ранее состоявших на службе. При этом большинство авторов занимало высокое положение в чиновной иерархии (рис. 5). 41 % лиц, указавших в записке гражданский или военный чин, составляли действительные статские советники (7), статские советники (14) и генерал-майоры (8). Кроме того, среди авторов записок были генерал-лейтенант И.Г. Чекмарев, вице-адмирал Н.М. Соковнин, четыре тайных советника и один действительный тайный советник. Из четырех человек, представлявших чины низких классов, трое находились в отставке, т. е. на деле их социальный статус мог быть выше, чем указанный в записке чин. Указание на положение в обществе с помощью какой-либо выборной должности могло служить для обозначения политических взглядов корреспондента. Это характерно для земских деятелей и в меньшей степени для представителей дворянских корпораций, чьи записки, как правило, носили либеральный характер. Гласные городских дум, мировые судьи и почетные мировые судьи, а также мещанский староста из Пензенской губернии Михаил Калашников указанием на выборную должность подтверждали свое право говорить с властью от имени общества и выступать в качестве эксперта в какой-то сфере внутренней политики. Только сословную принадлежность обозначали лица, занимающиеся деятельностью, характерной для того или иного сословия: купцы (4), мещане (2), представители духовенства (2) и дворяне-землевладельцы, никак иначе свое положение не характеризующие (3). Это свидетельствует, с одной стороны, о том, в какой мере купцы и мещане могли считать себя представителями общества в том значении, которое господствовало в этот момент. С другой стороны, данная ситуация говорит и о том, как далеко уходило в прошлое сословное деление, уступая место чиновному миру, выборным представителям общества и профессиональной деятельности. Последних за пределами государственной службы, поскольку учителя и университетские преподаватели также считались служащими, было немного: домашние учителя, присяжные поверенные, нотариусы, агрономы, журналисты. В этом мире мужчин, рассуждающих о политике и борьбе с террором, нашлись лишь четыре женщины, осмелившиеся написать во власть. Две из них указывали на свое право матерей, обеспокоенных ситуацией в системе образования, одна была «жертвой» этой системы, и, наконец, Е.Д. Ковригина писала М.Т. Лорис-Меликову об ущемлении прав женщин, которое ставит их «в ряды врагов закона»[913]. Рассматривая записки о борьбе с терроризмом как источник изучения русского общества, следует указать на некоторые неизбежно возникающие сложности. Первая из них связана с влиянием момента создания записки на высказанное в ней мнение. Обращение к дневникам современников показывает, что в первые дни после террористических актов реакция на них была чрезвычайно эмоциональной. Только по прошествии времени эмоции сменялись рациональными суждениями. Записки, адресованные М.Т. Лорис-Меликову в 1880 году, не показывают такой зависимости. Главный Начальник получал экспрессивные послания как в феврале, так и в августе 1880 года. В то же время непосредственно вслед за обращением «К жителям столицы» ему были отправлены проекты борьбы с терроризмом, отличавшиеся сдержанностью стиля и рациональностью подхода к проблеме. Это явление, как мне кажется, можно объяснить тем, что мнения, высказанные в ряде записок, были сформулированы задолго до взрыва в Зимнем дворце. Их авторы, такие как известный либерал, профессор гражданского права в Военно-юридической академии К.Д. Кавелин, ждали только разрешения, чтобы выразить «правду», которая «наболела на душе у каждого русского»[914]. Записки, созданные после 1 марта 1881 года, в большей степени демонстрируют зависимость между временем написания и содержанием. Вторая сложность заключается в определении мотивов корреспондентов высочайших лиц. Далеко не всегда ими двигали обеспокоенность сложившейся ситуацией или стремление повлиять на политику властей. Некоторые адресанты прикрывали заботой о благе общества корыстные устремления. Встречаются среди записок откровенные доносы или, наоборот, прошения о помиловании близких людей. Наконец, и это самое важное, остается вопрос, в какой мере мнения, высказанные в этих записках представителями общества, охватывают весь диапазон мнений о проблеме терроризма, которые обсуждались в публичном политическом пространстве. Проблема эта может быть решена двумя способами. Во-первых, привлечением разнообразных сведений об обсуждении террора внутри общества. Во-вторых, пристальным вниманием к языку записок и тем определениям, метафорам, образам, которые в них использовались. Информацию о частных разговорах и индивидуальных мнениях содержат дневники современников. Ряд их принадлежит людям, близко стоявшим к императору Александру II, занимавшим высокие должности и имевшим возможность наблюдать за настроениями придворных и чиновных кругов. Это дневники военного министра Д.А. Милютина, государственного секретаря Е.А. Перетца, председателя Комитета министров П.А. Валуева, министра внутренних дел Н.П. Игнатьева, петербургского предводителя дворянства А.А. Бобринского. О мнениях по поводу террора различных по политическим пристрастиям кругов общества можно судить по дневникам их представителей. Так, сведения о настроениях «охранительных» кругов можно найти в дневниках А.В. Богданович, супруги генерала Е.В. Богдановича, А.Ф. Тютчевой, бывшей фрейлины императрицы Марии Александровны и супруги И.С. Аксакова, редактора-издателя «Нового времени» А.С. Суворина, издателя «Гражданина» В.П. Мещерского, адмирала И.А. Шестакова, генерала Н.П. Литвинова; либеральных — Е.А Штакеншнейдер, дочери известного архитектора, издателей и журналистов М.И. Семевского и В.А. Бильбасова, земского деятеля Н.Ф. Фандер-Флита. Возможность судить об общественном мнении дает анализ частной переписки. Упоминания о террористических актах и их оценка встречаются в частной переписке М.М. Стасюлевича, Б.М. Маркевича, С.Ф. Платонова, И.Д. Делянова, Д.И. Шаховского, К.П. Победоносцева. Некоторые сведения можно найти в перлюстрированных письмах. Наблюдением за общественным мнением и настроениями населения империи занималось сначала III отделение, а затем Департамент государственной полиции, а также представители местной администрации. Работа с материалами, собранными органами политического сыска, требует определенной осторожности, так как они собирали лишь ту информацию об обществе, которая могла вызывать тревогу или даже представлять опасность. Именно поэтому картина, зафиксированная ими, заведомо неполна. Опираясь только на эти сведения, можно преувеличить масштаб оппозиционных настроений в империи. Ежегодные отчеты губернаторов о настроениях в той или иной местности, напротив, представляли ситуацию в радужном свете, указывая на безусловную преданность населения, отсутствие волнений и общее «негодование», вызванное террористическими актами. В то же время в еженедельных сводках сведений, заслуживающих внимания, по тем же губерниям содержится информация о студенческих волнениях, делах об «оскорблении величества» и т. п. Если вернуться к метафоре, с которой начинается эта книга, то проблема терроризма — это зеркало, в которое русское общество смотрело на себя, а выявленные каналы коммуникации власти и общества и источники, позволяющие судить о межличностном взаимодействии его представителей в публичном политическом пространстве, представляют собой материалы — серебро и стекло, — благодаря которым отражение возникает и может быть увидено сторонним наблюдателем. Зеркало это, как все старые зеркала, имеет изъяны: какую-то часть реальности в нем можно увидеть четко, другая едва различима, а некоторые места вообще покрыты темными пятнами. Помня обо всех несовершенствах, заглянем в него в надежде увидеть своего героя.
ГЛАВА II ОБРАЗЫ ТЕРРОРИСТА И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ВОСПРИЯТИЕ ТЕРРОРА
Исследователи сходятся во мнении, что отношение общества к терроризму напрямую зависит от восприятия исполнителя террористического акта. Изучение восприятия русским обществом фигуры террориста было предпринято А.С. Барановым. В статье «Терроризм и гражданское мученичество в европейской политической культуре Нового и Новейшего времени» он пишет, что самопожертвование террориста оправдывало совершаемое им убийство в глазах общества, вследствие чего, начиная с процесса Веры Засулич, русские террористы стремились воспроизводить модель «террориста-мученика», жертвующего собой ради спасения остальных[915]. Исследователь утверждает, что именно в результате действий «Народной воли» «укоренилась положительная традиция отношения к революционнотеррористическому насилию, сформировался героический пантеон, принятый значительной частью российского общества»[916]. Вероятно, избранный автором большой временной отрезок не позволил ему в полной мере обосновать свои выводы. Утверждение, что «значительная часть» русского общества разделяла представление о террористах как о «мучениках», не подкрепляется серьезными аргументами. Иначе подходит к проблеме М.Б. Могильнер, которая ищет корни оправдания терроризма не в пропаганде революционеров, воздействовавшей на общество, а в художественной литературе и публицистике. С ее точки зрения, усилиями литераторов была создана «мифология радикализма», оказывавшая влияние как на представителей «подпольной России», так и на членов общества. Только она обладала «потенциальной возможностью обеспечить радикализму столь необходимую для его выживания моральную поддержку общества»[917]. Таким образом, М.Б. Могильнер преодолевает представление о пассивности общества, присутствующее в рассуждениях А.С. Баранова. А.С. Баранов и М.Б. Могильнер обращаются в своих работах к такому образу террориста, который способен вызывать поддержку и сочувствие общества. Тип террориста-«мученика» не был единственным. Анализ информационного поля проблемы терроризма позволяет утверждать, что в 1879–1881 годах существовало множество альтернативных образов террориста, служивших как оправданию, так и осуждению покушений. Нельзя говорить о том, что общество пассивно принимало или отвергало предлагаемые ему модели террориста. Напротив, объяснения террора, особенно предлагавшиеся на страницах печати, были результатом обобщения той интеллектуальной работы, которая велась в разных кругах общества. Анализ определений, с помощью которых возможно было назвать исполнителя террористического акта и обозначить его деятельность, позволяет выявить специфику восприятия русским обществом исполнителей террористических актов.1. «Преступник», «враг», «фанатик»: ПОРТРЕТ В ТЕМНЫХ ТОНАХ
Наиболее логичным и простым при характеристике действий людей, покушающихся на монарха, было определение их, в соответствии с Уложением о наказаниях, как преступления. Исполнитель террористического акта, следовательно, был преступником. В качестве синонимов использовались понятия, уточнявшие суть преступления: «злоумышленник», «заговорщик», «убийца» и «цареубийца». Множество действий, приписываемых террористам, описывались эпитетом «преступный»: «преступные замыслы», «преступные планы», «преступная пропаганда»[918]. Возникали они на «преступной почве» и тесно были связаны с «преступным строем мысли»[919]. Рассмотрение действий революционеров в рамках юридической терминологии колебалось между двумя полюсами. С одной стороны, народовольцы формально были политическими преступниками, к поступкам которых необходимо подходить с особыми мерками. Международные конвенции о выдаче преступников уже в это время делали исключение для преступников политических на том основании, что «такой субъект не может быть отождествляем с уголовными преступниками, в наказании которых одинаково заинтересованы все государства»[920]. Поясняя этот термин, И.С. Аксаков писал на страницах «Руси», что политические преступники — это «люди, самоотверженно служащие какой-либо политической идее»[921]. Ряд журналистов пытался внушить читателям, что террористов нельзя рассматривать таким образом. Во-первых, у русских «нигилистов» нет «политической цели», они действуют во имя разрушения, а не созидания нового порядка[922]. Во-вторых, избранный ими метод ставит их вне всяких рамок: «…люди, стреляющие из-за угла […], взрывающие на воздух ни в чем не повинных ближних, не принадлежат к разряду даже политических преступников, в которых предполагается все-таки известная доля искреннего чувства, увлечения идеей»[923]. Вопрос этот, кажется, мало волновал общество. Редким исключением можно назвать записки сенатора Я.Г. Есиповича и анонимное письмо М.Т. Лорис-Меликову, подписанное «Истинный доброжелатель». Во втором случае корреспондент министра, не приводя аргументов, утверждал: «…партия этих злодеев — сборище поджигателей, воров, убийц, грабителей, а не просто политическая партия»[924]. Юриста Я.Г. Есиповича, крайне негативно высказывавшегося по поводу покушений, к рассмотрению этой проблемы, очевидно, подтолкнули тянувшиеся в феврале 1880 года переговоры русского правительства с французским по поводу выдачи Л.Н. Гартмана. В записках сенатор утверждал, что покушение на императора под Москвой «никак не может быть отнесено к тем политическим деяниям, которые в одной стране считают преступлением, а в другой — добродетелью»[925]. Действия революционеров назывались также словом «крамола», террористов именовали «крамольниками». Слово это в XIX веке уже не было юридическим термином (в XVI–XVII веках так официально называли антигосударственные деяния[926]) и относилось к области риторики. Тем не менее оно очень точно определяло сущность происходящего как «государственное преступление». Казалось бы, его использование должно было провоцировать рассуждения о терроре как о политическом преступлении[927]. Анализ слов, употреблявшихся в качестве синонимов «крамольника» («бунтарь», «смутьян», «разрушитель»[928]), дает отрицательный результат. В это время слово «крамола» не содержит потенциала для рационального обсуждения террора в рамках концепций современного событиям международного права. Это слово было лишь удачной риторической находкой, позволившей в который раз осудить «русский бунт». Представители общества, видевшие в террористах «преступников», были далеки от правового подхода к проблеме. Характеристика террористических актов как «чудовищных», «ужасных», «гнусных» «преступлений»[929] свидетельствует об эмоциональном, а не рациональном восприятии террора. Юридического подхода мы не находим даже у профессиональных юристов. Такие разные по политическим взглядам представители этой профессии, как Б.Н. Чичерин, К.Д. Кавелин или Я.Г. Есипович, высказывались о терроризме в одном ключе[930]. Так, Я.Г. Есипович писал о покушениях 19 ноября 1879 года и 5 февраля 1880 года как о «преступлениях, равных которым едва ли можно отыскать во всем нынешнем столетии», а об осуществивших их революционерах как о «злодеях, тайных убийцах и поджигателях», деяния которых «отвратительны»[931]. В противовес представлению о террористах как о политических преступниках их действия нередко описывались в терминологии уголовного права. «Народную волю» именовали «бандой»[932] и «шайкой» («шайкой злоумышленников», «крамольников», «тупоумных недоучек», «мерзавцев» и т. п.[933]), лидеров революционного движения — «главарями», «вожаками» и «атаманами»[934]. Кроме покушений террористам приписывали подлоги, поджоги, кражи, разбой[935]. Таким образом, определение террористов как «преступников» и «крамольников» не служило для беспристрастной констатации совершения ими противоправных действий. С его помощью выражалось негативное отношение к исполнителям террористических актов. По сути, представители общества, определявшие террориста таким образом, осуждали не столько преступность террористического акта, сколько его аморальность. Попечитель Казанского учебного округа П.Д. Шестаков охарактеризовал террористические акты «Народной воли» как «неслыханные, беспримерные преступления, перед которыми бледнеют даже ужасные злодеяния парижской коммуны»[936]. Не менее часто при определении террориста использовалось понятие «враг». Очевидная принадлежность этого термина к сфере внешней политики и войны (напомню, что и народовольцы описывали свои действия как «войну» с правительством) приводила к постоянному подчеркиванию, что террорист — это «враг внутренний», «домашний»[937]. Тем самым авторы записок указывали на специфику сложившейся ситуации: правительство и общество вынуждены вести «войну» внутри собственной страны. Одновременно этот термин позволял говорить о внутренних причинах возникновения террора. Среди представителей общества также были те, кто разделял мнение некоторых журналистов: за покушениями на монарха стоит какой-то «внешний враг». Поиск заграничных корней русской «крамолы» приводил к различным результатам. Во-первых, бытовало мнение, что русские покушения являются лишь частью международного движения, координируемого неким «международным комитетом»[938]. Во-вторых, вслед за М.Н. Катковым в покушениях искали «польский след»[939]. Так, надворный советник Д. Вальков в записке «О мерах борьбы с революционным движением» писал, что еще в 1844 году он видел «шаткость поляков к престолу и отечеству»[940]. Наравне с поляками под подозрением оказывались и евреи (чего практически не было в сообщениях печати[941]). Корреспонденты М.Т. Лорис-Меликова утверждали, что социальный и еврейский вопрос суть одно и то же, поскольку именно представители этого народа «способны на всякую мерзость»[942]. В-третьих, высказывалось убеждение, что покушения есть результат интриг враждебного России иностранного государства. Подпоручик Николай Зарембо-Годзяцкий в «Проекте преобразования полиции» утверждал, что «эпидемия» покушений «проникла к нам из Запада». Когда «настоящий наш Великий Государь своими благодеяниями для народа показал Западу, что Россия, заручившись преобразованиями, будет фактически сильна, соседние державы, боясь могущества, стали невольно ее врагами». Они намеренно распространяли в пределах России социалистические учения, и «люди, легко восприимчивые, легко приняли эти идеи, задавшись целью расширить великое, по их мнению, учение, забывая о той злой и корыстной цели, какую преследовал наш враг»[943]. Главным «подозреваемым» была Англия. Разделявшие такое мнение представители общества сопоставляли хронику покушений с успехами русских войск в Средней Азии[944]. Врач киевского военного госпиталя Ф.С. Оранский писал Главному Начальнику: Англия всегда «злорадствовала» России. «Она подозрительно боится русского могущества и в страхе трусливости решается на все средства, лишь бы хотя бы временно умалить авторитет России»[945]. Кроме Англии на роль тайного руководителя российских террористов подходили и другие европейские державы, желающие «унизить достоинство России», в особенности Франция и Германия[946]. Указания на «преступность» террористов могли служить для обоснования способов их наказания или даже «уничтожения». Своими действиями они «сами себе усваивают исключительное положение, которому должна по справедливости и соответствовать исключительная форма правосудия»[947]. Если добавить к этому восприятие террориста в качестве «врага», не удивит требование анонимного корреспондента Н.П. Игнатьева: «…каждый обязан относиться к нигилисту, как он относился бы к турецкому шпиону в русском лагере»[948]. Некоторые авторы призывали вернуться к букве закона: «Всякий, принимающий участие в заговоре против государственного порядка и Царствующего Дома, подлежит смертной казни»[949]. Другие, напротив, призывали нарушить закон, «откинуть пошлое рутинное понятие гуманности» и разрешить допросы с пристрастием[950]. Наконец, раздавались голоса, требовавшие отменить смертную казнь, так как «преступники сами ищут смерти»[951]. В качестве альтернативы предлагались наказания не столь «героические»: заключение в центральной тюрьме, публичная порка, снятие под бой барабанов кожи («…и тогда хорошему доктору в руки до выращения другой кожи, и опять то же повторение»)[952]. Еще одним понятием, которое представители общества употребляли по отношению к террористам, было понятие «фанатик». В самом термине было заложено объяснение происходящего. Под фанатизмом понимали «соединенное с страстным возбуждением всего существа рвение в проведении идей и убеждений, считаемых безусловно верными, хотя бы объективно они и не были таковыми»[953]. Предполагалось, что фанатизм как служение идее способен вызвать «уважение» даже у тех, чьим чувствам какие-то убеждения «противны»[954]. В некоторых письмах действительно можно уловить уважение к «солидарности без измены, без выдачи соучастников», к «самоотвержению, доходящему до фанатизма»[955]. Факт совершения террористами убийства во имя идеи был той границей, за которой уважение к подобной преданности заканчивалось: «бессодержательный фанатизм» воспринимался как психическая болезнь. Слово «безумец» было синонимом «фанатика» в таких словосочетаниях, как «шайка фанатиков-безумцев» и «шайка безумных фанатиков»[956]. Рассуждая о цареубийцах в своем дневнике, 4 марта 1881 года знаменитый хирург Н.И. Пирогов предположил, что убийство Александра II «есть просто зверский поступок злодея, рукою которого управляла личная скотская злоба, фанатизм, корысть, безумие»[957]. Он же, расценивая «склонность» русской молодежи к насильственным действиям как «ненормальную», сравнивал современное ему революционное движение с «выпущенными из всех домов умалишенными, если бы сумасшествие было у всех одно и то же и делало бы всех этих мономанов солидарными при осуществлении общей им idee fixe!»[958]. В большинстве случаев высказывания о психической ненормальности террористов не предполагали рассмотрения этиологии «болезни». Исключение составляет близкий к славянофилам чиновник Министерства иностранных дел Г.А. де Воллан. В брошюре «Современное состояние России» (1881) он описывал процесс, который привел многих революционеров к «помешательству»: «…раздраженное до страсти желание быть полезным народу и личная несостоятельность исключали друг друга, самоуничтожались в борьбе и вызывали нравственное терзание»[959]. Чаще всего рассуждения о «сумасшествии» революционеров были простой констатацией факта. Писавшие о «безумцах» не пытались понять, каким образом революционеры «сходят с ума». Ставился вопрос лишь о том, как «изолировать» «фанатика» и обезопасить государство и общество от его разрушительной деятельности, а не как его «вылечить». Подобный подход находим в письме М.Т. Лорис-Меликова цесаревичу 31 июля 1880 года: «…на исцеление людей, заразившихся социальными идеями, не только трудно, но и невозможно рассчитывать. Фанатизм их превосходит всякое вероятие»[960]. Аналогичное мнение высказывал автор анонимной записки, адресованной Н.П. Игнатьеву: охарактеризовав учение «нигилистов» как «бессодержательный фанатизм», он писал: «.. дозревших нигилистов […] нельзя исправить, их можно только искоренить, если не смертью, то пожизненным извержением из общества»[961]. Определение террориста в качестве «фанатика» чаще всего свидетельствует о негативном отношении к нему. В этом случае речь идет также об отказе от оценки его действий как рациональных, обусловленных вполне определенными причинами. Свидетельством аналогичного отношения является заимствованное из религиозной интерпретации террора представление о террористах как о зле, являющемся результатом действия потусторонней, дьявольской силы. После покушения под Москвой в 1879 году историк и публицист князь Н.Н. Голицын издал брошюру «По прочтении депеши», где сравнил террористов с «антихристом из евангельского пророчества»[962], князь В.П. Мещерский назвал их «исчадиями ада»[963], а П.Д. Шестаков «исчадиями духа злобы»[964]. Нетрудно заметить, что приведенные примеры, кроме высказывания П.Д. Шестакова, взяты из антинигилистических пропагандистских произведений, вышедших из-под пера светских деятелей. Пожалуй, единственный найденный мной пример серьезной веры в то, что террористы действуют не своей волей, а по велению «злых духов», являет собой записка генерала от инфантерии С.Е. Кушелева, о которой упомянуто в дневнике А.В. Богданович. Впрочем, такую странную убежденность сама мемуаристка объясняла «спиритическим направлением» генерала[965]. Ранее отмечалось, что и для проповедников определение террористов как инфернального зла было редкостью. Представители общества практически не использовали его даже на уровне риторики, что говорит о непопулярности такого рода интерпретации террора. Исключения составляют поэтические тексты, где выражения вроде «дети ада с смердящей душой»[966]обусловлены как жанром сочинения, так и — в большинстве случаев — отсутствием таланта и должного уровня образования. Можно предположить, что общество нуждалось именно в рациональном объяснении террора. В прочих случаях речь шла о наказании за террористические акты, посланцев же дьявола, очевидно, наказать было невозможно. Негативное отношение к террористам можно было выразить и с помощью целого ряда эмоционально окрашенных определений, в большом количестве встречающихся в самых разных документах эпохи. Среди прочего можно назвать такие, как «изверги»[967], «подонки»[968], «негодяи»[969], «варвары рода человеческого»[970], «нравственные уроды»[971], «сволочи»[972] и «злодеи»[973].2. «Как они сами себя называют»
Существовал принципиально иной путь понимания того, кто такой террорист. Он заключался в попытке выяснить, каким образом организаторы покушений на монарха понимают себя сами и во имя чего они действуют. Мысль о том, что террор есть порождение «мира идей», неоднократно высказанная в информационном поле, владела умами представителей общества. Для большинства характерно пристальное внимание к учениям, теориям, идеям революционеров. Вместе с тем стоит отметить, что это было — или подавалось так — вниманием свысока, безусловно отвергающим хотя бы частичную истинность или правомерность «лжеучений». Представители общества писали о «крайних», «фантастических», «утопических», «вредных», «тлетворных», «превратных» учениях[974], «сумасбродных» и «смутных» идеях[975], «безобразных» теориях[976]. Можно выделить целый ряд терминов, обозначавших как учение, которому следуют террористы, так и — более широко — некое явление, суть которого заключается в эскалации революционной борьбы. К ним относятся как традиционные и часто встречающиеся «нигилизм», «социализм», «анархизм»[977], «коммунизм»[978], «радикализм»[979], так и редкие — «карбонаризм»[980], «антимонархизм»[981]. В документах эпохи можно найти самые разные сочетания этих понятий, использовавшихся в качестве синонимов. «Массы заражены нигилизмом, коммунизмом, социализмом», — писал 28 февраля 1880 года помещик Ковенской губернии А.П. Парчевский М.Т. Лорис-Меликову[982]; «Нигилисты-социалисты в нашем обществе имеют все права гражданственности», — сообщал ему же «истинный доброжелатель»[983]. Такая нерасчлененность терминов может свидетельствовать о том, что, по крайней мере для части общества, различия между социалистами, анархистами и коммунистами были неясны. Если туманные высказывания журналистов о сущности социалистического учения еще можно списать на цензурные запреты, то подобные характеристики в частных письмах заставляют предполагать, что у многих членов общества представления о революционных учениях были смутными. Следовательно, они не понимали, или понимали превратно, те цели, которые ставила перед собой «Народная воля». Суть народнических лозунгов передавалась представителями общества довольно иронически. Корреспонденты представителей бюрократической элиты насмешливо писали о «непрошеных ходатаях русского народа»[984] и «непризнанных спасителях Отечества»[985]. Н.И. Пирогов в день двадцатипятилетия царствования Александра II рассуждал об охватившей цивилизованный мир «Weltschmerz» («мирской печали»), добавляя: «…наши мирские печальники, еще решительнее западных, не задумались прибегнуть тотчас к самым печальным мерам для излечения своей болезни»[986]. Ирония не могла скрыть опасения: успех террора среди молодежи объясняли тем, что тот предстает в образе «народолюбивого подвижничества»[987]. Образ революционера-«мученика», любовно создаваемый подпольной литературой, не оставался безвестным. Представители общества, выступая против мер строгости, аргументировали необходимость отказа от них тем, что казни позволяют террористу «представляться»[988] в глазах общества «мучеником, погибающим за идею правды»[989]. В некоторых кругах бытовало мнение, что власть сама спровоцировала «месть» революционеров, излишне жестоко подавляя «невинные» увлечения молодежи социальными идеями. Земский деятель, по взглядам близкий к славянофилам, Д.И. Воейков в брошюре «Земство и призыв правительства к борьбе с революционною пропагандою», опубликованной в Лейпциге после покушения 19 ноября 1879 года, писал, что все меры правительства, направленные против революции, привели лишь к тому, что «вместо небольшого числа сумасбродов 1866 года, из которых один против воли и желания товарищей решил покуситься на цареубийство, мы имеем теперь тысячу убийц, безнаказанно занимающихся своим позорным ремеслом по всему пространству России»[990]. Г.А. де Воллан, признавая, что учения русских революционеров «грешат нелогичностью», полагал, что правительство должно было относиться к ним как к мормонам, пока они «не угрожали ни целости государства, ни всеобщему спокойствию». Вместо этого оно мерами строгости «подняло протестующие элементы на высоту, окружая имена этих мучеников еще большим ореолом и обаянием»[991]. Среди многочисленных определений террориста как приверженца каких-то идей наиболее популярными были два термина: «нигилист» и «социалист». Первый из них, не признаваемый народовольцами, был широко распространен как в обществе[992], так и за его пределами. Изобретенное литераторами слово «нигилист» использовалось не только петербургскими гранд-дамами и генералами[993], но и малограмотными анонимными корреспондентами московского генерал-губернатора В.А. Долгорукова («крысы агилисты»[994]). Полиция порой получала записки следующего содержания: «Что вы смотрите? Во вверенном вам квартале проживает нигилист Петров, который вредит государству»[995]. Документы фиксируют два варианта осмысления термина «нигилист» в тех случаях, когда его использовали в рассуждениях о террористах. Первый вариант предполагал хронологическое рассмотрение революционного движения в России. При таком видении «нигилизмом» называли учение 1860-х годов, отделяя его от современной «крамолы». Помощник воспитателя великих князей Александра Александровича и Владимира Александровича генерал Н.П. Литвинов, размышляя о взрывах, писал в дневнике в феврале 1880 года, что современные деятели имеют мало общего с нигилистами прежнего времени[996]. Статский советник Н. Коковцов в записке 1880 года выделил три периода в революционном движении: «нигилисты» — «народники» — «социалисты-революционеры» (т. е. народовольцы)[997]. Во втором случае термин «нигилизм» использовали для того, чтобы указать на специфические черты этого явления и прежде всего отделить его от западноевропейского социализма. Такого мнения придерживался, например, славянофил А.И. Кошелев[998]. «Нигилизм» понимался как «общее революционное стремление», как «отрицание всех религиозных, нравственных и гражданских оснований общества», и в этом смысле противопоставлялся социализму[999]. В юридической и делопроизводственной практике в это время закрепилось употребление терминов «сообщество, именующее себя русской социально-революционной партией»[1000], «социально-революционные учения»[1001] и т. п. Народовольцы также называли себя «социалистами». Представители общества использовали этот термин в тех случаях, когда необходимо было охарактеризовать сущность народовольческих идей, а также указать на их близость к европейскому революционному движению. Необходимо разобраться, что именно понимало общество под «социалистическими учениями», на которые возлагалась ответственность за появление в России террора. Учитель гимназии А. Клеваев начал свой труд «Опровержение лжеучений современных социалистов» с утверждения: «Что такое социализм? Весьма немногие даже из людей, получивших образование, могут дать себе ясный отчет в этом понятии»[1002]. Мнение его во многом справедливо. Представителям общества гораздо проще было назвать социализм «сумасбродной галлюцинацией»[1003] или «пропагандой самого злого качества»[1004], чем объяснить его сущность. Впрочем, некоторые из них считали, что члены революционной партии, называющие себя «социалистами», сами не знают «ни одной социалистической доктрины, не знакомы ни с политическою экономией, ни с историей и философией и усваивают только кличку социалиста, как модную заманчивую вывеску, под которой гнездится чушь и глупость»[1005]. Анонимный корреспондент М.Т. Лорис-Меликова, скрывшийся под псевдонимом Заезжий тулуп, писал, что русская «крамола» есть акт «сумасбродства и варварства»: «…сонмища личностей из совершенно темной массы нахватались идей мира просвещенного — приняли из них только самые крайние и нелепые […] и стремятся осуществить эти идеи на деле»[1006]. В обществе порой считали, что конечная цель «социалистов» — уничтожение частной собственности и «разрушение тех начал, которыми поддерживаются права на эту собственность»[1007], «полная демократизация», «всеобщее уравнение в отношении имущественном и общественном»[1008] и т. п. Встречались и совсем фантастические мнения: «социалисты» желают, «набив себе карманы», сделать переворот в государстве[1009], «уничтожить […] такие предметы, как религия, семья, поэзия, нравственность, философия и прочие достояния цивилизации»[1010]. В одном из анонимных писем, полученных В.А. Долгоруковым, было сказано, что террористы «добиваются сделать революцию и потом республику и президента ее Константина Николаевича [вел. кн., брата Александра II. — Ю.С.]»[1011]. Сложным для представителей общества был вопрос о конституции. «Народная воля», стремясь заручиться поддержкой интеллигенции и молодежи, неоднократно заявляла, что прекратит террор в случае введения в стране представительной формы правления. Общество стремилось понять, насколько искренними были подобные заявления. В частной беседе министр юстиции Д.Н. Набоков убеждал книгоиздателя М.О. Вольфа: «…революционерам даже конституции было бы мало»[1012]. Г.А. де Воллан шел в своем недоверии еще дальше, уверяя читателей, что революционеры боятся введения конституции, которая положит конец их существованию, и потому специально толкают власть к реакции с помощью убийств в те моменты, когда та начинает делать шаги в сторону реформы[1013]. Требование конституции можно было толковать и в ином ключе, как это делал статский советник Т.Т. Кириллов, писавший в январе 1881 года, что революционеры «примирились» с конституционализмом, так как рассматривают его в качестве «переходной ступени к социалистической революции», которая позволит им создать легальную социалистическую партию и добиться «низвержения Династии и государства»[1014]. Таким образом, в разных по политическим убеждениям слоях русского общества зачастую бытовали туманные представления о том, во имя каких идей действуют «социалисты». Эти представления в большинстве своем совпадали с теми, которые встречались на страницах печати. Превратное понимание социалистических идей могло оказать серьезное влияние на формирование мнения о терроре. Стремление разрушить существующий общественный порядок едва ли могло вызвать сочувствие среди тех, чье благополучие основывалось на нем. Откровенно о своей личной заинтересованности в борьбе с террором написал лишь один корреспондент М.Т. Лорис-Меликова 19 февраля 1880 года: «…удар, направленный на Царя, не может не быть ударом и на всех имущественных собственников. Имея хорошие материальные средства, я страшусь за будущее если не для меня, то для моих детей»[1015].3. Дискуссия о «школьном вопросе»
Поиск первопричин террора приводил представителей общества к размышлениям о реалиях российской жизни. Дискуссия о «школьном вопросе», обострившаяся в связи с покушениями 1879–1881 годов, породила образ террориста-«недоучки». В силу цензурных запретов он редко появлялся на страницах газет. Обращение к частным документам позволяет понять всю важность «школьного вопроса» для осмысления обществом народовольческих покушений. Следует также подчеркнуть, что именно при обсуждении «школьного вопроса» как никогда четко разделялись взгляды тех, кто относил себя к либералам, и тех, кто предпочитал «охранительное» направление. Возникновение террора общество зачастую связывало с неудачным воспитанием молодого поколения. Существовало убеждение, что «большинство заговорщиков — молодые, и даже очень молодые люди»[1016]. Его распространенность можно подтвердить не только частотой использования, но и тем, что противоположное мнение необходимо было специально оговаривать. Например, автор анонимного доноса на служащего железной дороги Жемчужникова, человека немолодого, вынужден был оговориться: «Видно, не все социалисты молодые, а бывают и такие, которые имеют седые волосы и положение в свете»[1017]. В 1880 году В.П. Мещерский издал брошюру «Неклевещите на молодежь». В ней публицист, ссылаясь на общее убеждение, что виновниками беспорядков является молодежь, призывал не верить «клевете», которая пущена «настоящими врагами России», чтобы возбудить ненависть к «детям и к науке»[1018]. Участие молодого поколения в революционном движении было для общества чрезвычайно болезненной проблемой, так как могло затронуть практически любую семью, где подрастали дети. Автор записки «О мерах борьбы с революционным движением» утверждал: «…родители со страхом отдают в них [гимназии. — Ю.С.] своих детей, […] опасаясь за их будущность вследствие получаемого ими в учебных заведениях направления»[1019]. Отец девятерых детей Яков Постоев, описав порядки, царящие в высших учебных заведениях, растерянно спрашивал А.А. Сабурова, что делать: запретить сыновьям поступить в университет он не может, отдать же их «на пагубу и развращение» не желает[1020]. В письме к В.М. Бондаренко, перлюстрированном в канцелярии харьковского генерал-губернатора в декабре 1879 года, Е. Бондаренко жаловалась: «Сашиных трех товарищей арестовали […]. Я, несчастная, нахожусь каждый день в ужасной тревоге, пока Саша не придет с училища, увижу его и успокоюсь, на другой день до 3 часов опять мучусь»[1021]. Автор анонимного письма М.Т. Лорис-Меликову писал, что Главный Начальник — единственный человек, которому родители могут высказать «гнетущие чувства» по поводу «крамолы» и «бесконтрольного обращения с юношеством» в учебных заведениях[1022]. Если родители терзались страхом, не выйдут ли их дети из стен школы «нигилистами», учащиеся были недовольны, даже «обижены» тем, что являлись для учителей не воспитанниками, а «поднадзорными». «Как будто нарочно наши воспитатели готовили из нас будущих подпольщиков», — вспоминал о своем обучении в иркутской гимназии в 1872–1881 годах революционер П.А. Аргунов[1023]. Среди многочисленных анонимных писем, полученных М.Т. Лорис-Меликовым в 1880 году, особой эмоциональностью выделяется письмо выпускницы Петербургского сиротского института. Перечислив все злоупотребления институтского начальства, она заканчивала послание заявлением: на участие в революционном движении «нас наталкивает наше воспитание»[1024]. В действительности речь шла не только о благополучии каждой конкретной семьи, но и о будущем всей страны. Как верно заметил автор анонимной записки «О мерах борьбы с революционным движением», смена поколений приведет к тому, что общество будет состоять из той самой молодежи, которая сейчас заподозрена в неблагонадежности. «Наша будущность зависит от получаемого ею [молодежью. — Ю.С.] направления»[1025]. Восприятие террориста в качестве «недоучившегося юноши» было тесно связано с острым вопросом реформирования системы образования, в котором, в свою очередь, выделялись две взаимосвязанные проблемы: «классическая система» в среднем образовании и университетская реформа. Главную проблему среднего образования представители общества видели во введенной при министре народного просвещения Д.А. Толстом «классической системе», задуманной в качестве меры противодействия распространению «крамолы»[1026]. Она вызывала ожесточенную критику как либеральных, так и правых кругов. Анонимный автор писал М.Т. Лорис-Меликову: в то время как правительство всеми силами борется с революционерами, учебное ведомство «поддерживает вредную пропаганду, выпуская в свет ежегодно тысячи людей, озлобленных на правительство»[1027]. Недовольство общества системой образования отмечали и представители администрации. Вновь назначенный в Харьковскую губернию исполняющим должность генерал-губернатора А.М. Дондуков-Корсаков указывал М.Т. Лорис-Меликову в марте 1880 года на учебную систему как на «один из главных факторов, уже в течение 10 лет порождающих постоянное, все растущее неудовольствие. Все зрелое, вполне благонамеренное и преданное правительству поколение сходится на этой почве с учащейся молодежью. Родители и дети одинаково враждебны ей»[1028]. Критика «классической системы» «охранителями» и либералами значительно разнилась. Критики справа сосредотачивались на том, что в целом важный и необходимый проект пресечения распространения нигилистических идей в умах молодежи оказался провальным из-за неверно выбранной стратегии. Как писал М.Т. Лорис-Меликову 16 марта 1880 года И. Васильев, «преобразовывая школу на немецкий лад, граф Толстой предполагал принести большую пользу России и спасти общество от вредных идей. Вышло наоборот»[1029]. Критикуя «классическую систему», консервативно настроенные представители общества предлагали собственные проекты охранения школы от «нигилистической язвы»: изменение учебной программы («…дать детям благонадежное в физическом и религиозно-нравственном отношении воспитание», учредить при женских учебных заведениях классы домоводства и практических знаний, воспитать любовь к Родине и царю путем «практического развития боевых качеств человеческой души» и т. п.[1030]) и ужесточение дисциплины. Автор анонимного послания министру народного просвещения А.А. Сабурову в апреле 1881 года от имени «русских отцов» просил возобновить телесные наказания в школах, видя в этом «дивно действующую и спасительную меру», способную уничтожить «заблуждение идей ложного учения»[1031]. Особенно остро стоял вопрос о религиозном воспитании молодежи, которое считалось лучшим противоядием от «крамолы». Обращаясь к проблеме веры, «охранители» констатировали: причина появления социализма заключается в «ослаблении повсюду, преимущественно же в среде учащейся молодежи, и притом в особенности в наших открытых заведениях, Религии и Нравственности»[1032], где Закон Божий преподается не для воспитания души и сердца, а для приобретения познаний достаточных, чтобы «при случае насмеяться над обрядами Церкви»[1033]. Автор записки «О мерах борьбы с революционным движением» даже утверждал, что в гимназиях «ученики, воспитанные дома в страхе Божием, должны часто скрывать свои религиозные убеждения, чтобы не сделаться предметом насмешек и презрения своих товарищей»[1034]. Особенное беспокойство родителей, разделявших правые убеждения, вызывали учителя, внушающие детям «не те» идеи. 26 февраля 1880 года служащий Главного управления по делам печати Н.В. Вара-динов в записке М.Т. Лорис-Меликову высказал убеждение, что именно «школа или педагоги ее приготовляют неутомимо и беспрепятственно, прямо или посредственно, материалистов, атеистов и врагов существующего у нас государственного и общественного порядка»[1035]. Анонимный автор «Записки о мерах борьбы с революционным движением» подробно остановился на этом вопросе: учителя и профессора — выходцы из беднейших слоев, за годы обучения «натерпевшиеся нужды» и заразившиеся «социалистическими софизмами», которым и учат теперь новое поколение учеников[1036]. Либеральные и консервативные критики «классической системы» сходились в осуждении излишней сложности учебной программы, «грозящей ученикам идиотизмом или чахоткой»[1037]. Выпускники гимназий оканчивают курс «с взглядом ребенка или гражданина древней Эллады времен Сократа», — писал С. Неклюдов 18 марта 1880 года[1038]. Выписанные — из-за недостатка подготовленных кадров — из славянских провинций Австро-Венгрии плохо говорившие по-русски учителя греческого и латыни, по общему мнению, являли собой «образец сухости и зверства» и были способны воспитать учеников только себе под стать[1039]. Сложность учебной программы критиковалась прежде всего потому, что именно она была причиной массовых исключений из средних учебных заведений. По статистике, за 1874–1880 годы полный курс в гимназиях окончило 6511 человек, а вышло из гимназий, не окончив курса, 51 406 человек[1040]. Определение террориста как «недоучки» было столь популярным именно вследствие убеждения, что всем исключенным из гимназий остается одна дорога — пополнять ряды «умственного пролетариата». Под этим термином понимали людей, которые, получив какое-то образование, уже не могут вернуться в среду, из которой вышли, но в то же время, не имея аттестата, не могут найти работы, становясь «одной из главных обуз государства»[1041]. Многочисленные корреспонденты М.Т. Лорис-Меликова настаивали на том, что именно из этой среды выходят террористы. За воротами гимназии юношей, потерпевших неудачу с классическими языками, поджидают и вербуют «злоумышленники»[1042]. Не устроенному в жизни «недоучке» нечего терять: он очертя голову поступает в социалисты, надеясь при перевороте в государстве улучшить свое материальное и общественное положение[1043]. В основе протеста либералов против преподавания латыни и греческого, кроме всего вышеперечисленного, лежала одна главная причина, верно отмеченная А.М. Дондуковым-Корсаковым: в решении вопроса об образовании представители общества видели «пробный камень, дающий ему [обществу. — Ю.С.] понятие о той малой доле внимания, которое уделяет правительство его заявлениям, его самым насущным потребностям»[1044]. Н. Соковнин писал 2 марта 1880 года начальнику Верховной распорядительной комиссии: «Россия не забудет того позорного quasi-плебисцита, путем которого Министерство народного просвещения внесло смерть, позор и отраву в русскую семью под видом классической системы»[1045]. Для либерально настроенных представителей общества важны были не только последствия системы Д.А. Толстого, но и сама ситуация, в которой родители не имеют права принимать решение о будущем своих детей. Либералы настаивали: необходимо «радикально изменить систему воспитания, в смысле удовлетворения всех жаждущих образования»[1046], «прекратить систему выгоняний»[1047], разрешить преподавание естествознания, социальных наук и права, чтобы оградить молодежь от «лжеучений»[1048]. Не менее острым для представителей общества при решении проблемы о корнях терроризма был вопрос об университетской реформе. Активное участие студенческой молодежи в революционном движении привело к тому, что в 70-х годах XIX века слово «студент» было практически синонимом «революционера»[1049]. Внешний вид студента наводил пугливых обывателей на мысли о том, что перед ними несомненный «крамольник», по карманам которого разложены бомбы[1050]. Бытовало убеждение, что любой студент является потенциальным революционером, так что, когда в начале 1880 года в Казани появились первые печатные прокламации Исполнительного комитета «Народной воли», губернатор Н.Я. Скарятин настаивал на вскрытии вообще всей частной корреспонденции, поскольку воззвания «не могут не подействовать вредно на умы многочисленной учащейся молодежи, большинство которой можно назвать бездомной и разнохарактерной»[1051]. В отличие от обсуждения «школьного вопроса», когда главную проблему видели именно в системе образования, причиной студенческого протеста называли бедственное материальное положение. Организация и содержание занятий вызывали нарекания немногих «охранителей»[1052]. Решения первой проблемы предлагались разные. Некоторые представители общества советовали требовать с желающих получить образование в университете справку о доходах, с тем чтобы и не допускать к слушанию лекций тех, кто не обеспечен средствами[1053]. Менее радикальными были многочисленные предложения по восстановлению института интернов и казенных студентов, выплате стипендии по результатам экзаменов и т. п. при ужесточении контроля за частной жизнью студентов или даже полном переселении всех в общежития при университетах[1054]. В марте 1881 года, когда факт оказания Н. Рысакову материальной помощи показал, что университетское начальство не знало о пропуске им занятий, умы составителей записок занял вопрос о посещении студентами лекций. Для того чтобы молодежь не «шаталась по трущобам», они предлагали «настолько усилить обязательные занятия и посещения лекций и практических работ, чтобы просто не оставить времени для революционной деятельности» и оставлять в университетах лишь тех, кто действительно учится[1055]. Среди составителей записок о борьбе с терроризмом было немало людей, настаивавших на возвращении студентам формы, упразднении последних элементов университетской автономии и строгом надзоре за профессорами, «чтобы они в своих аудиториях не преподавали того, что не входит в круг их обязанностей»[1056]. Сетовали они и на то, что университет дает лишь «фальшивое образование», но совершенно устранятся от «воспитательных начал»[1057]. Вместо этого профессора прививают ученикам лишь «чувство сомнения, чувство презрения к “темному” народу, неразвитому “обществу” и Правительству, которые почтительно преподносят этим высокоумным мужам миллионы, чтобы дать им средства “погружаться в науки и искусства”»[1058]. Либералы, конечно, не считали ограничение доступа в университеты неимущим или отмену Устава 1863 года панацеей. Выход они видели в устройстве столовых, общежитий и увеличении стипендий и т. п.[1059] В либеральных кругах бытовало убеждение, что борьбе с распространением крамолы, равно как и с бедственным положением учащихся, может помочь дальнейшее расширение прав студентов на самоорганизацию. Вынужденные нелегально основывать различные общества взаимопомощи, студенты волей-неволей встают на путь преступлений. Если разрешить официально кассы взаимопомощи, землячества, сходки, то «благоразумные» студенты смогут подавить «дурную часть» и повлиять на настроения всех учащихся[1060]. Таким образом, «школьный вопрос» в 1879–1881 годах как никогда остро стоял на повестке дня. Вследствие цензурных запретов на страницы печати попадали лишь слабые отголоски критики справа и слева, которой подвергалась «классическая система» и организация университетов. Проблема системы образования, важная для общества сама по себе, так как от ее решения в конечном итоге зависело будущее страны, в это время была тесно связана с вопросом о происхождении террористов. Появление «умственного пролетариата» было едва ли не главным аргументом в пользу упразднения «классической системы». Модель террориста — «недоучившегося юноши», «недоучки» — это модель террориста, хотя бы отчасти оправдываемого безысходностью положения. В сочувствии к «заблудшей молодежи» сходились «охранители» и либералы. Первые негодовали на неверно выбранную систему ограждения молодых умов от «социалистической язвы» и дурных учителей. Вторые — на систему административного произвола, позволяющую Д.А. Толстому губить молодое поколение. Либералы настаивали: «увлечения свойственны юности», правительство же, запрещая вполне невинные действия, заставляет молодежь думать о нем как о «бесчинствующем самодуре»[1061]. Пострадавшие от несправедливых действий власти «заблудшие юноши» «усиливают контингент негодяев, непрошеных ходатаев русского народа, незваных провозвестников революции и убийств»[1062]. Потенциал оправдания террориста, заложенный в представлении о нем как о «недоучке» и «заблудшем юноше», был чрезвычайно велик. Эта модель куда вернее, чем созданная революционерами модель террориста-«мученика», привлекала симпатии людей различных политических убеждений. Она была сконструирована именно представителями общества, пытавшимися найти объяснение такому явлению, как терроризм, связав его с кризисом системы образования. Всю опасность модели террориста-«недоучки» для правительства понимал, пожалуй, только М.Н. Катков. Полемический запал его высказываний о «недоучках» остается неясным, если принимать во внимание только газетные и журнальные статьи. Критика московского публициста была направлена именно на обсуждение проблемы в обществе, отголоски которого попадали в печать. Все проанализированные образы террориста представляют собой альтернативу образу террориста-«мученика», создававшемуся на страницах подпольной печати. Конечно, находилось немало людей, преимущественно из молодежи, вдохновленных проповедью радикальных идей и готовых провозглашать вечную память «печальникам русского народа Ковальскому, Осинскому, Антонову, Чубарову, Соловьеву и др., за свободу живот свой положившим»[1063] и «мечтать о виселице». Записки о борьбе с терроризмом позволяют утверждать, что представители общества знали об образе террориста-«мученика» и прекрасно понимали исходящую от него угрозу. Требование не создавать из революционеров мучеников регулярно повторялось противниками смертной казни. С другой стороны, в использовании этого образа сами народовольцы неизбежно сталкивались с проблемой, порожденной техническими усовершенствованиями в деле «охоты на царя». Если Вера Засулич или Александр Соловьев являли собой террористов-героев, вступивших в противоборство с системой лицом к лицу, то динамит осуждался не только за случайные жертвы, но и за нарушение традиционной модели тираноубийства. Убийца деспота был чист, если, убивая, погибал сам. Подкопы и взрывы осуждались именно за то, что давали исполнителю террористического акта шанс спастись от кары правосудия, примерами чему служили скрывшийся за границей Лев Гартман или Степан Халтурин, в котором уже после казни за другое преступление опознали «столяра» из Зимнего дворца. Р.А. Фадеев в одном из своих писем «О современном состоянии России» писал, что деятельность террористов находит «снисхождение» в обществе «не к своей безобразной теории, а к преступным личностям и к их увлечению»[1064]. Даже если террорист осуждался как «преступник», требовал изоляции как «фанатик» или вызывал недоумение или насмешку как «социалист», сам не знающий, во имя чего борется, он одновременно вызывал сочувствие и жалость как «заблудший юноша». Поиск причин появления в России террористов так или иначе приводил к рассмотрению внешних, материальных обстоятельств, шла ли речь о системе образования, социальном неблагополучии студенчества или излишне жестоких мерах борьбы с «увлечениями молодости». Все это приводило к тому, что ответственность за террор прямо или косвенно возлагалась на правительство и его ошибочную внутреннюю политику. Это мнение бытовало как в либеральных, так и в «охранительных» кругах, хотя, в чем именно власть «ошибается», их представители понимали по-разному. Таким образом, в различных кругах русского общества было распространено представление о том, что политические убийства являются реакцией на внешние обстоятельства, изменение которых (в ту или иную сторону, в зависимости от взглядов рассуждавшего) может способствовать прекращению либо усилению террора. Подобное убеждение создавало еще одну закономерность: отношение к террору во многом определялось отношением к тем обстоятельствам, которые, как считалось, его спровоцировали. Автор анонимной записки 7 декабря 1879 года утверждал, что покушения производятся «недовольными». Конечно, недовольством нельзя оправдывать их «разбойничьи средства», «нельзя, однако, не сознаться, что собственно к неудовольствию имеются бесчисленные поводы»[1065]. Такой подход к проблеме не исключал поиска других виновников. Две метафоры, позволявшие журналистам успешно выявлять связь между «крамолой» и русским обществом, — метафоры «болезни» и «почвы» — активно использовались представителями последнего при рассуждениях о покушениях. Если для журналистов использование метафор было необходимо в силу цензурных запретов, то в частных высказываниях ими пользовались как штампами, позволяющими усилить эмоциональность и образность рассуждений о терроре. Смысл всех высказываний о «болезненном явлении», «нравственном недуге», «язве», «заразе»[1066] и т. п. обобщен в словах одной из анонимных записок: «…червивый плод растет не на здоровом дереве, причина порчи не одни внешние черви, но и внутренние гнилые соки»[1067].ГЛАВА III ИМПЕРАТОР АЛЕКСАНДР II КАК «МИШЕНЬ» ДЛЯ ТЕРРОРИСТОВ
Народовольческие покушения имели одно важное отличие как от событий предыдущих лет, так и от последующих всплесков терроризма (например, эсеровского). Несмотря на несколько террористических актов «внутреннего назначения», несмотря на планы покушений на жизнь некоторых сановников, обсуждавшиеся на Липецком съезде (показания Г. Гольденберга[1068]), события 1879–1881 годов были, в первую очередь, «охотой на царя». Эта особенность стала дополнительным фактором, значительно осложнившим складывание мнения о терроризме у представителей общества. Эпоха дворцовых переворотов не могла служить ориентиром для решения проблемы возможного цареубийства. Отличие народовольческих покушений от имевшегося исторического опыта было верно схвачено одной фразой И.Д. Делянова: «…но это на улице», язвительно прокомментированной А.С. Сувориным в его дневнике: «…в комнатах душить можно, а на улице нельзя»[1069]. В то же время покушения на жизнь императора революционеров, не обладавших «легитимностью» аристократии или военной элиты и не поддерживавших «более законного» претендента на престол, невозможно было в полной мере сопоставить с террористическими актами, направленными на должностных лиц. Слишком чувствовалось отличие убийства шефа корпуса жандармов или харьковского прокурора от покушения на Священную Особу Государя Императора. Выражая «общее мнение», один из анонимных корреспондентов М.Т. Лорис-Меликова писал: «…цареубийство поставлено на первом плане крамольной деятельности»[1070]. Формально для самих народовольцев это было не так: покушения, направленные на представителей администрации, и террористические акты «внутреннего назначения» играли большую роль, были закреплены в программе партии, сообщения о «казни» шпионов появлялись на страницах их органа. Общество обращало на них минимум внимания. Во всех известных мне дневниках и переписке зафиксирован только один случай упоминания об убийстве дворника в отместку за раскрытие подпольной типографии — в дневнике А.В. Богданович[1071]. В воспоминаниях эти случаи фигурируют в преувеличенном и несколько туманном виде, сообщения о них подробностями не дополняются[1072]. Для полноты понимания формировавшегося в обществе мнения по поводу революционного террора необходимо учитывать восприятие Александра II как мишени террористов. Несомненно, на отношение представителей общества к царю оказывало влияние огромное количество самых разных обстоятельств: полученное воспитание, их личные неудачи или, напротив, успехи, которые можно было связать с его царствованием[1073], слухи о «недостойном» поведении императора и членов царской фамилии и, разумеется, отношение человека к внутриполитическому курсу и политические взгляды. В этой связи в центре внимания исследователя неизбежно оказываются два сюжета. Первый — это отношение общества к монархии и монарху в лице Александра И. При таком подходе покушения на цареубийство, предпринимавшиеся «Народной волей», становятся дополнительным фактором, своеобразной «лакмусовой бумажкой», позволяющей выявить и оценить разные модели восприятия государя. Чтобы верно понять эти процессы, необходимо обращение как к событиям всего царствования Александра И, так и к более ранним эпохам. Подробный анализ далеко увел бы меня от непосредственного предмета исследования. Я попытаюсь здесь лишь наметить основные модели восприятия монарха. Отношение к императору, а следовательно, и к покушениям на него разнилось в зависимости от того, что именно выходило на первый план: идея монархии сама по себе, политический курс именно этого правителя или его личные качества. Второй сюжет, в отличие от первого, строго локализован во времени (ноябрь 1879 — март 1881 года). Меня интересует непосредственная реакция на народовольческие покушения: не только рациональные суждения, но и эмоциональное переживание происходящего. Очевидно, что от покушения к покушению восприятие императора как мишени террористов изменялось. Переломным моментом стало убийство Александра II 1 марта 1881 года. После него за короткий отрезок времени жизнь и в особенности смерть императора стали объектом мифотворчества, в дальнейшем только усиливавшегося. С этого момента осмысление народовольческого террора происходит сквозь призму навязчивого вопроса: как случилось, что «царствование доброго Государя, успевшего уже в двадцать пять лет сделать свое имя бессмертным в истории развития России»[1074], закончилось катастрофой на Екатерининском канале?1. Покушения на монарха
В официальной пропаганде русский царь представал как «помазанник Божий», всякое злоумышление против которого есть не только преступление, но и тягчайший грех. Эта аксиома, повторявшаяся в проповедях и официальных обращениях правительства и лежавшая в основе законодательства о государственных преступлениях, не была мертвой формулой. Именно она жестко определяла отношение к покушениям на жизнь императора, выражавшееся на страницах печати и с церковных кафедр и демонстрировавшееся юстицией. Многие частные лица осознанно или нет связывали свои размышления о терроре с этим представлением о монархе. Анонимный корреспондент М.Т. Лорис-Меликова, уверявший Главного Начальника, что он «средний человек», «масса», а потому может говорить от лица всего общества, писал: «…социалистические покушения задевают меня, по-видимому, не прямо, а в лице моего Царя, но я ведь без него обойтись не могу. Если не станет Александра II, Александра III, если бы, наконец, не стало бы всех, то я непременно создам Царя, потому что не могу жить без него, как без Бога»[1075]. Это письмо — квинтэссенция такой модели восприятия монарха, когда значение имеет не конкретный сидящий на троне человек (можно убить Александра И, Александра III и всех прочих), а тот факт, что на троне кто-то сидит: верноподданный не может жить без государя. Вероятно, уверения дворян Петербургской губернии, что они «с давних пор привыкли и с детства привычны к безграничной преданности Царствующему Государю» именно потому, что «в течение стольких веков» видели в нем «точку опоры и своего главу»[1076], равно как любые другие аналогичные высказывания в верноподданнических адресах, можно было бы рассматривать как риторическую традицию, а не выражение искренних чувств. Дневник гимназиста VII класса В.В. Половцова, не предназначенный для чужих глаз, может отчасти опровергнуть подозрения в неискренности подобных заявлений. 27 марта 1881 года, узнав об убийстве императора (эту новость родители скрывали от юноши из-за его продолжительной болезни), он анализировал в дневнике «странность» своих чувств. Ни разу не видев государя лично, не будучи ему ничем обязанным, а, напротив, идентифицируя себя с дворянами, которым покойный «даже, пожалуй, вообще […] не сделал особенных благоволений», Валериан Половцов признавался, что «все-таки чувствовал к Государю особенную привязанность, так что с радостью умер бы за него»[1077]. Корреспонденты высших сановников порой ссылались в своих письмах не на право представителя общества, озабоченного политическими неурядицами, но на более священное право: «…в настоящее время, когда каждый честный верноподданный должен стремиться, чтобы спасти своего обожаемого Государя», — писал 5 марта 1880 года капитан А. Андреев М.Т. Лорис-Меликову[1078]. Тот же долг верноподданного побуждал свидетельствовать императору «чувство искреннейшей и глубочайшей верноподданнической преданности к возлюбленному Монарху»[1079]. Отставной коллежский асессор Ф.И. Закрицкий писал государю о «душевных страданиях», вызванных известиями о покушениях, которые не дают ему «покойно ни съесть куска хлеба, ни уснуть»[1080]. В качестве способа борьбы с террористами он предлагал опубликовать сочиненное им «Воззвание русского к своим соотечественникам», которое заканчивалось словами: «…наш Возлюбленный Царь нам нужен, и мы Его любим, а вы [террористы. — Ю.С.] не нужны и вас мы ненавидим»[1081]. При таком взгляде на монарха верноподданнические чувства должны были быть сильнее любых других, даже родительских. Примером последнего может служить письмо болховского уездного предводителя дворянства В. Филатова, который обещал министру внутренних дел отказаться от своего сына, если выяснится, что тот замешан в каком-либо политическом деле, мотивируя это «беспредельной преданностью» государям и Отечеству[1082]. Даже если не верить обещаниям отца, который таким образом, вероятно, пытался выгородить своего сына, арестованного 3 марта в Петербурге по подозрению в принадлежности к «противозаконному сообществу», это письмо нельзя сбрасывать со счетов. Оно демонстрирует если не то, как чувствует верноподданный, то, во всяком случае, как ему должно чувствовать. Случай семьи Филатовых не был единственным или крайним. С.И. Мережковский, чиновник дворцового ведомства, услышав 1 марта 1881 года от старшего сына Константина речь в защиту «извергов», «закричал, затопал ногами, чуть не проклял сына и тут же выгнал его из дому»[1083]. Отдельные случаи семейных неурядиц легко было перенести на отношения общества к террористам: даже если они «дети» русских «отцов», это обстоятельство не должно служить для смягчения их участи, потому что они смеют посягать на царя. Штабс-капитан И.И. Астапов, корреспондент московского генерал-губернатора, «старый кавказец», обещал сделать «военный суд и расправу» над своими сыновьями-студентами, если те «не будут меня почитать». Своим отношением к детям он хотел явить пример для подражания: так же надлежит поступать правительству с бунтующей молодежью[1084]. Безусловное осуждение любых покушений на монарха как «помазанника Божьего» влияло и на рассмотрение других вопросов, поднятых событиями 1879–1881 годов. Допустимо было осознавать несовершенство системы образования, видимый упадок религии, произвол администрации и т. д., но ни одно из этих обстоятельств не могло послужить для оправдания действий террористов в глазах тех представителей общества, которые считали, что государь должен быть неприкосновенен[1085]. Представление о русском монархе как о «помазаннике Божьем» существовало во многом отдельно от личности правителя, находящегося в тот или иной момент у власти. И.Д. Делянов, проговорившийся, что цареубийство в принципе возможно, лишь бы оно совершалось с соблюдением «приличий», т. е., устраняя конкретную личность, не наносило бы удар по идее неприкосновенности Священной Особы Государя Императора, в своих взглядах не был одинок. С.Ю. Витте в воспоминаниях утверждал, что некоторые из «самых близких к покойному государю» людей в ответ на его расспросы о гипотетическом продлении царствования Александра II еще на десять лет высказывали мнение, что в этом случае «главное влияние утвердилось бы в совершенно невозможных руках». При этом они добавляли: «…об этом не надо говорить, чтобы не ослабить силу сокрушающего впечатления, которое может в будущем укрепить и нравственно объединить Россию»[1086].2. Покушения на человека
Размышлявшие о цареубийстве представители русского общества редко поднимались до такого уровня абстракции, чтобы не замечать, что террористы покушаются именно на императора Александра II. Отношение к личности монарха явно или неявно присутствует в большинстве рассуждений о террористических актах «Народной воли». Оно то становится решающим аргументом при формировании мнения о терроре, то отступает на второй план. Р. Уортман пишет о том, что все правление Александра II было основано на «сценарии любви». Официальная пропаганда подчеркивала такие черты личности императора, как любовь к подданным, доброту, жертвенность[1087]. Обращаясь к власти, подданные апеллировали к образам Царя-Освободителя, предлагавшимся в информационном поле официальной пропагандой, поддерживавшимся церковью и легальной печатью. В письмах и стихотворениях, адресованных Александру II и Александру III, упоминались «великие и достославные благодеяния светлого и радостного для России Царствования»[1088]. Императору приписывалось желание «освобождать людей, чтобы все назывались людьми без различия и чтобы никто не сделал зла ближнему»[1089]. Речь шла не только об отмене крепостного права («Который среди всех невзгод / Из рабства вывел свой народ»[1090])», но и об освобождении братьев-славян («И за скалистыми горами / Мильонам Ты свободу дал»[1091]). При этом, казалось, подданным, рассуждавшим о личных качествах государя, куда важнее были черты христианина («Во всем мире не было и нет из царей, подобных на земле Ангельской душе Твоей от начала мира, чтобы из царствующих особ кто бы так сердобольно ходил по баракам на войне за больными»[1092]), чем политика. Упоминания о даровании «нового суда»[1093] терялись среди рассказов о спасении «убогих» от «нужд и лишений», о любви к детям и т. п.[1094] Особенный интерес представляет мотив милосердия «Царя-Ангела» к покушавшимся на него «злодеям», практически не встречающийся в информационном поле. Сюда относится не только помилование части преступников, осужденных на казнь по процессу «Шестнадцати»[1095], но и приписанные Александру II Я. Постоевым в письме А.А. Сабурову слова резолюции на делах преступников-гимназистов: «Это не преступники, а дети. Оставьте их без третьего блюда»[1096]. Наиболее полно отношение монарха к террористам было описано в стихотворении Б. Гроссмана:3. Покушения на политика
1879–1881 годы были для Российской империи временем общего «недовольства» существующим порядком вещей. Годами копившееся раздражение достигло апогея к концу 1870-х годов. Русско-турецкая война 1877–1878 годов продемонстрировала обычные неурядицы российской государственной машины. Возможно, реакция на открывшиеся злоупотребления интендантского ведомства, несогласованные действия военного командования, неудачные штурмы Плевны и т. п. не была бы столь острой, если бы эта война не начиналась с таких надежд, если бы после мира в Сан-Стефано не было Берлинского трактата, если бы за болгарской конституцией последовали домашние реформы… На праздничном обеде, последовавшем за молебном по поводу «чудесного спасения» 19 ноября 1879 года, счетовод Главного общества российских железных дорог Чайковский назвал ходивших за Дунай «дураками». На замечание, что за Дунаем командовали вел. кн. Николай Николаевич, цесаревич Александр Александрович и другие великие князья, «даже сам Государь Император находился во время войны за Дунаем», Чайковский сказал: «Такие же дураки, как и вы. И все правительство не умнее»[1128]. Кроме всего прочего, война ощутимо отразилась на финансовом положении населения. 26 декабря 1879 года в трактире отставной унтер-офицер Талечинский возмущался тем, что «хлеб и продукты с каждым днем делаются все дороже, а Государь Император не обращает внимания», потому «хорошо делают, что хотят его убить, да стрелять не умеют»[1129]. Забыв о том, по чьей инициативе в действительности война была начата, общество стало обвинять правительство в развязывании бессмысленного, дорогостоящего («мильярд [так! — Ю.С.] рублей нашли на освобождение каких-то братьев»[1130]) и кровавого внешнеполитического конфликта. Списки со стихотворения присяжного поверенного А.А. Ольхина «У гроба» сотнями экземпляров расходились по стране, молодежь распевала на сходках:4. Цареубийство 1 марта 1881 года
Параллельно с устойчивыми моделями восприятия императора существовала динамика мнений о нем как о мишени террористов, провоцировавшаяся чередой народовольческих покушений. Взрыв поезда 19 ноября 1879 года прогремел на всю Россию, заставив общество заговорить о террористах. В этих разговорах поразительно мало уделялось внимания непосредственно мишени, разве только случайности с изменением расписания поездов. Можно предположить, что на такое восприятие отчасти повлиял тот факт, что царь не был участником этой катастрофы. Резонанс был бы куда больше, находись он в одном из вагонов, сошедших с рельсов. Наблюдая за окружающими, вел. кн. Константин Константинович записывал в дневнике 20 ноября: «Меня поразило, что это известие не произвело слишком потрясающего впечатления у нас в Экипаже и было принято довольно холодно. В семье у нас было то же. Происходит ли это от привычки к покушениям, от всеобщего ли неудовольствия ходом текущих дел и полного равнодушия — не знаю»[1179]. Впрочем, не следует судить по этой записи об отношении всего общества к взрыву[1180]. Покушение в Зимнем дворце произвело впечатление и масштабом замысла, и многочисленностью случайных жертв, но об императоре по-прежнему говорили удивительно мало. Произошло двойное замещение: с одной стороны, 5 февраля под угрозой оказалась жизнь почти всех членов императорской фамилии, так что личность основной мишени отошла на второй план. С другой стороны, куда больше внимания и сочувствия привлекли случайные жертвы — нижние чины л. — гв. Финляндского полка. 1 марта 1881 года император Александр II погиб. Ситуация цареубийства нарушила устоявшиеся за многие годы традиции оплакивания усопшего монарха, принуждая подданных решать, каким образом им следует воспринимать не смерть, но убийство государя. Первые дни после цареубийства были временем господства эмоций; попытки рационально осмыслить произошедшее стали предприниматься лишь спустя какое-то время. 1 марта 1881 года петербуржцы, ставшие очевидцами взрывов, услышавшие «глухие звуки» или узнавшие новость от взволнованной прислуги, собирались на площади перед Зимним дворцом. Современники фиксировали разнообразные проявления скорби: собравшиеся перед Салтыковским подъездом люди, близкие ко двору, «снимают шляпы. Плачут. Крестятся. У всех на глазах слезы»[1181]. Проникший во дворец вслед за генералом Н.И. Бобриковым В.В. Воейков увидел там «угрюмые и печальные лица». У генерала Н.О. Розенбаха, начальника штаба войск гвардии и Петербургского военного округа, «по щекам катились слезы», а генерал Родионов при известии о смерти императора «громко зарыдал, прислонившись к притолоке так, что пришлось его поддержать»[1182]. Государственный секретарь Е.А. Перетц видел, как «почти все плакали. Горе было неподдельное»[1183]. Юрист И.С. Леонтьевич 15 марта 1881 года писал жене в Одессу, что статс-секретарь К.А. Скальковский, чиновник горного департамента, к которому он зашел с визитом, «плачет, как ребенок, по случаю смерти Государя». О себе же Леонтьевич сообщал, что он «до сих пор не может освоиться с этой ужасной новостью»[1184]. Земский деятель Н.Ф. Фандер-Флит день за днем фиксировал в своем дневнике: «Невыразимо тяжело […]. Бьет лихорадка, нервы натянуты» (1 марта), «голова тяжела, а на душе еще хуже» (2 марта), «заехал к Хитрово поделиться с этим хорошим человеком тяжелыми впечатлениями» (4 марта)[1185]. Наблюдавший за настроениями населения Варшавы обер-полицмейстер Н.Н. Бутурлин зафиксировал следующую динамику: в первые часы после получения известия о цареубийстве «разговоры и комментарии» вращались «более в отвлеченной сфере психологических созерцаний, чем в сфере политики и практических взглядов». Только спустя какое-то время «заговорил ум и рассудок»: общество стало задаваться вопросами: «Что выйдет из этого? Каковы будут непосредственные для государства последствия от перемены Царя, какие последуют и последуют ли от этого перевороты в внутренней и внешней политике Правительства? Улучшится ли при новом Императоре положение польских интересов в крае?»[1186] Начало марта во всех городах империи было схожим: телеграф приносил известие о смерти императора, узнав о которой люди стекались в церкви: услышать новости, отстоять панихиду, принести присягу. В Рязани кафедральный собор «половины не мог вместить желающих помолиться за упокой души погибшего Царя»[1187]. В Петрозаводске 2 марта «с семи часов вечера и до глубокой ночи собор был переполнен народом»[1188]. С 3 марта (2 марта была присяга Александру III) страна погрузилась в траур. В Петербурге «фасады зданий, фонари, мосты, придворные экипажи и лица высших чинов, даже частных лиц, все было одето в черное с белым. На Думской каланче и повсюду развевались черные с белым флаги»[1189]. В.В. Воейков писал в воспоминаниях: «Публика и та потемнела, ни на ком не было видно ярких цветов и пестрых материй, все были в черном. Многие дамы с флером, а статские с трауром на рукавах и цилиндрах. Военные надели глубокий траур»[1190]. Чрезвычайную важность произошедшего цареубийства для общества почувствовали дельцы, спешившие удовлетворить спрос не только на атрибуты траура (черный креп, банты, бумагу с траурной каймой и «экстренно выписанные из Парижа» траурные платья «изящнейших и удобнейших покроев»[1191]), но и на любые предметы, связанные с покойным государем. Особый ажиотаж вызывали изображения в Бозе почившего Государя Императора на смертном одре. 2 марта придворный фотограф В.С. Левицкий сделал снимок усопшего, а художник К.Е. Маковский написал посмертный портрет. Эти два изображения стали основой для последующих гравюр и олеографий. С картины К.Е. Маковского были сняты фотографии, продававшиеся в художественных магазинах Фельтена, Дициаро, Беггрова, на передвижной выставке и у фотографа Левина[1192]. Если в текстах газетных сообщений главным в этих изображениях было «поразительное сходство» («Художник с большим искусством сумел объединить в нем величие и всю доброту Царя-Освободителя»[1193]), то в рекламных объявлениях упор делался на отчетливо различимые «следы адского снаряда» и, разумеется, адреса, где товар можно было приобрести[1194]. Некоторые журналисты возмущались стоимостью посмертных фотографий: «…неужели г. Левицкий назначил цену маленького снимка, в величину фотографической карточки, 2 рубля»[1195]? Посмертный портрет государя с картины К.Е. Маковского продавался еще дороже — по 3, 6, 12 рублей, в зависимости от материалов, на которых был исполнен. Последний прижизненный фотопортрет «во всех магазинах» стоил: «Лакированный кабинетный» — 1 рубль, «большой роскошный портрет с художественною отделкой» — 10 рублей[1196]. Газеты сообщали, что в магазинах «плакали многие дамы, глядя на все нам знакомые, но увы! На пораженные смертью дорогие черты лица со следами мученических ран»[1197]. А.Н. Бенуа в воспоминаниях писал, что фотографии «лежавшего в гробу, одетого в форму государя, до пояса закрытого покровом (жутко было подумать, что там, где должны быть ноги, были лишь какие-то “клочки”), висели затем годами в папином кабинете и у Ольги Ивановны [Ходеневой, горничной. — Ю.С.] в ее каморке»[1198]. Решения увековечить память Александра II приобретением икон и установкой лампад, во множестве принимавшиеся в течение марта на собраниях различных корпораций и учебных заведений, привели к тому, что резко взрос спрос на образ св. благоверного князя Александра Невского. Изображение на бумаге можно было приобрести за 75 копеек, на дереве — за 2 рубля 50 копеек[1199]. Кроме изображений печатались брошюры «Венок на гроб Государя-Освободителя», «Скорбь всея Руси по в Бозе почившему Государю-Освободителю Александру И», «Скорбь народа. Подробности ужасного преступления 1-го марта 1881 года. (С планом местности, где оно совершено)» и т. п., содержавшие официальные сообщения правительства, выдержки из газет и стихотворения. Они также продавались «во всех магазинах» и стоили от 15 до 75 копеек[1200]. Издатели, зная медлительность канцелярии Министерства императорского двора, дававшей разрешения на такие издания, торопили ее служащих: «…не найдете ли Вы в возможно скором времени исходатайствовать о разрешении о напечатании его [стихотворения. — Ю.С.] отдельно, чтобы оно могло поступить в продажу в день погребения в Бозе почившего Императора, так как, по моему мнению, появление стихотворения произвело бы наибольшее впечатление на публику именно в этот скорбный для всей России день»[1201]. Особенно предприимчивые люди, желая эксплуатировать чувство скорби, прибегали к уловкам: издатель Лейброк напечатал траурный марш А. Бадабанова на смерть императрицы Марии Александровны как новое сочинение, посвященное гибели Александра II[1202]. С.И. Григорьев в книге «Придворная цензура и образ верховной власти» поднимает вопрос об обнаружении «монархического сознания» посредством анализа потребления товаров, содержащих упоминания о носителях верховной власти. С его точки зрения, таким образом российские подданные на практике подтверждали свои монархические чувства[1203]. Американская исследовательница К. Верховен на примере коммерческого успеха портретов Осипа Комисарова, спасшего Александра II от выстрела Д.В. Каракозова, убедительно показывает отрицательное отношение населения Российской империи к покушению 1866 года[1204]. О чем говорит масса товаров, связанных с цареубийством? О том, что на них существовал спрос, а высокая цена свидетельствует, что рассчитаны они были на богатую публику. Если ношение траура для военных и служащих было обязательным, если приобретение посмертных изображений убитого императора хотя бы отчасти можно объяснить любопытством к его ранам, то все остальные товары являются свидетельством монархического чувства, жившего в том числе в русском обществе в целом. Представители общества могли критически высказываться об Александре II при его жизни. Его смерть напомнила им о верноподданнических чувствах, о существовании которых в собственной душе некоторые могли и не подозревать. За реакцией на цареубийство всех слоев населения пристально следила власть. В разосланном начальникам губерний 27 марта циркуляре Министерства внутренних дел утверждалось, что 1 марта повергло страну в «ужас», вызвало «всеобщее рыдание по в Бозе почившему Царю и выражения искренних верноподданнических чувств к Его Царственному Преемнику»[1205]. С мест губернаторы и начальники губернских жандармских управлений подтверждали: «…все сословия приняли эту ужасную весть о кончине Обожаемого Монарха с подавляющею тяжкою скорбью. Чувства эти особенно выразились при совершении панихиды, слезы присутствующих были явным доказательством непритворной, глубокой грусти каждого»[1206]. Сообщения о реакции населения отличались однотипностью: «все население», «все граждане города», «все жители без исключения» чувствуют «скорбь и негодование»[1207]. Особенно это видно на примере годовых отчетов губернаторов. Московский губернатор в отчете за 1881 год писал, что он в течение года объехал всю губернию и может свидетельствовать о «глубоком потрясении населения Московской губернии страшным событием 1 марта»[1208]. Подобные отчеты вызывают сомнения, особенно если речь в них идет о скорби «всего населения» Варшавы. Более того, они противоречат параллельно поступавшим с мест сообщениям о студенческих волнениях, «неприличном» поведении ссыльных или произведшем «скандал» профессоре Демидовского лицея в Ярославле Н.Д. Сергиевском, который явился в собор на панихиду по Александру II в «крайне неприличной формы пиджачке»[1209]. «Общую скорбь», о которой доносили представители администрации с мест, стремились подтвердить и сами подданные, посредством телеграмм и адресов выражавшие Александру III «верноподданнические чувства», а также «скорбь», «ужас» и «негодование»[1210]. Органы самоуправления, корпорации, учебные заведения отправляли депутации с венками к месту убийства императора и в Петропавловский собор. Также они желали увековечить память погибшего императора. Кроме выделения средств на два общероссийских проекта — храма на Екатерининском канале в Санкт-Петербурге и памятника в Москве — деньги шли в основном на местную благотворительность. Приведу три примера, которые можно считать типичными. 1. В Самарской губернии Бугульжанская городская дума решила приобрести тысячу десятин земли для раздачи безземельным крестьянам, а образованный таким образом поселок решено было назвать «Александровским». 2. Воронежская городская дума ассигновала 10 тысяч рублей на 3 стипендии имени Александра II при местном реальном училище. 3. Одесская городская дума постановила построить дом призрения на сто человек, при котором воздвигнуть церковь во имя святого благоверного Александра Невского[1211]. Эти примеры хорошо показывают целевую направленность благотворительных акций, призванных прежде всего увековечить память о благих деяниях Царя-Освободителя: освобождении крестьян, заботе о просвещении и призрении обездоленных. Общую тенденцию подтверждают объяснения самих участников собраний. Так, гласный Самарской городской думы Федоров подчеркивал: следует сохранить память о царе как о правителе «любвеобильном», «всю жизнь свою неустанно и щедрою рукою изливавшем благодеяния Богом врученному ему народу», что может быть сделано только с помощью какой-либо благотворительной инициативы[1212]. Память о трагической гибели императора увековечивалась главным образом с помощью постройки часовен, приделов Св. Благоверного князя Александра Невского, приобретения икон, установки неугасимых лампад и учреждения ежегодных вселенских панихид или постов 1 марта. Цель подобных инициатив была определена гласным Самарской думы Л.Н. Ященко: «…желательно, чтобы потомство умилялось перед иконою и возносило молитвы Всевышнему за Царя-Мученика»[1213]. В противоречие с донесениями местных властей и свидетельствами различных собраний и обществ входят многочисленные известия о том, что скорбь по поводу цареубийства не была «всеобщей». Источники фиксируют безразличное отношение к цареубийству. Отправившийся 1 марта на прогулку генерал А.Н. Винтмер не заметил «никакой горести, никакого массового проявления сожаления […]. Люди шли равнодушные, говорили о своих делах, о мелких интересах»[1214]. В.И. Дмитриева услышала в толпе сожаление о том, что закроют театры[1215]. В петербургском сельскохозяйственном клубе Е.М. Феоктистов увидел «странное зрелище»: «.. как будто не случилось ничего особенного, большая часть гостей сидели за карточными столами, погруженные в игру; обращался я и к тому, и к другому, мне отвечали наскоро и несколькими словами и затем опять: “Два без козырей”, “Три в червях” и т. д.»[1216]. Такое же равнодушие встретил в варшавском клубе Н.И. Кареев: люди, уже знавшие о цареубийстве, по-прежнему играли в карты, одна компания — «больше люди военные, пожилые» — пила шампанское. «Спорили, но без всякого увлечения, в какой мундир оденут тело покойного, и о том, от каких частей какое будет дежурство у гроба»[1217]. Особенно на отсутствие «надлежащих» эмоций обращали внимание участники погребальных церемоний. М.И. Семевскому при перенесении тела в церковь Зимнего дворца «бросилось в глаза», что «хотя лица у всех были вполне серьезные, но ни одной слезинки ни на одном глазу, у этой десятитысячной толпы»[1218]. Н.Ф. Фандер-Флит не только отмечал в дневнике «болтовню», отсутствие «сановитости» и даже «печали» («караулы стояли небрежно, церемониймейстер суетился без толку»[1219]), но также делал из этих фактов для себя вполне определенные выводы: «Эта равнодушная и густая толпа равнодушных и пустоголовых государственных] людей и царедворцев предвещает мало доброго и отчасти объясняет, к[ак] могло случиться такое беспримерное преступление среди белого дня!!!»[1220] К сообщениям о равнодушии людей следует подходить с большой долей осторожности. Скорее они показывают реакцию авторов сообщений, которые, по контрасту с собственными сильными переживаниями, оценили менее бурные выражения эмоций как безразличие. Успех «Народной воли» на Екатерининском канале вызвал ликование среди радикально настроенной части общества. Брат С.Л. Перовской В.Л. Перовский в воспоминаниях писал: когда он 3 марта узнал о смерти императора, «радость в душе чувствовалась сильно»[1221]. Интересный эпизод описан в воспоминаниях Н.А. Виташевского: политические заключенные в мценской тюрьме, узнав о смертиимператора, устроили по нему «тризну» («царило необычное оживление, и на лицах всех была написана радость»)[1222]. С большим размахом отметили смерть Александра II ссыльные города Киренска Иркутской губернии. По свидетельству местного исправника, они «в красных рубахах пьянствовали, пели запрещенные песни и при выезде в ту же ночь врача [одного из участников «праздника». — Ю.С.] из города в округ провожали его выстрелами из револьвера»[1223]. В Соловецком монастыре ссыльный участник казанской демонстрации Яков Потапов 10 марта, после окончания заупокойной литургии по императору, подошел к настоятелю и ударил его в висок со словами «теперь свобода»[1224]. 1 марта 1881 года вызвало производство большого количества дел о «выражении преступной радости» в связи со смертью императора, а также о произнесении «неприличных слов» в его адрес, что попадало под статью 246 Уложения о наказаниях[1225]. Необходимо уточнить, что в большинстве своем обвиняемые по 246-й ст. принадлежали к низшим слоям населения. Тайный советник П. Марков на основании данных за 1875–1880 годы указывал, что из 1020 обвиняемых среднее образование имели 85 человек, высшее 17, неграмотных было 494; дворян было 72 человека, представителей духовенства 22, купцов 13, в то время как крестьян 489[1226]. При внимательном рассмотрении оказывается, что даже в тех делах, обвиняемыми по которым проходили дворяне-землевладельцы, учителя, студенты и т. д., доносителями также были крестьяне и мещане, порой преследовавшие личные цели. Например, крестьяне-арендаторы донесли на управляющего имением кн. Юсупова поляка А.С. Войчулевского, что тот, узнав о цареубийстве, сказал: «…если б Царь был хороший, то в него бы столько раз не стреляли бы, и стало быть, так и надо, нечего его жалеть»[1227]. 3 апреля, в день казни цареубийц, банщица Федорова, обиженная скупостью клиентки дворянки С.Ю. Жонголович, донесла в полицию, будто та, выразив сочувствие казненным, говорила, что «ни один из Государей Русских не умер своей смертью и что если ныне царствующий Государь не сделает того, что требует народ, то не проживет более трех месяцев»[1228]. Таким образом, в большинстве своем эти дела позволяют говорить о том, какие именно слова доносители могли приписать лицам, стоящим выше их на социальной лестнице, а не о действительном мнении членов общества. Представители власти не относили «оскорбление величества» к категории политических преступлений. Воспринимая его как исключительно «простонародное», они предполагали, что совершается оно исключительно из-за необразованности преступника: «…невежественный простолюдин […] произносил то или иное бранное слово, которое характеризовало только лишь крайнее его невежество, не заключая в себе ничего более»[1229]. Более того, общим местом было мнение, что совершается оно «в пьяном виде». В том случае, если под следствием оказывался образованный человек, полиция прежде всего стремилась установить степень его опьянения, полагая, что верноподданный не может сознательно оскорблять монарха и членов императорской фамилии. Так, например, прекращено было дознание в отношении бывшего студента Казанского университета Овсянникова, позволившего себе высказать, что он «не признает Государя, а признает только партию социалистов», — едва лишь были выяснены «опьяненное состояние» и «политическая благонадежность» обвиняемого[1230]. Обращу внимание лишь на те дела, обвиняемые по которым признали свою вину. 1 марта 1881 года при известии о цареубийстве служащая в воспитательном доме девица Климашевская в присутствии воспитанников «выразила сочувствие к виновникам катастрофы»[1231]. Впрочем, полиция признала, что слова были сказаны обвиняемою «по необдуманности и ветрености и без всякой мысли оскорбить Государя Императора»[1232]. Смоленская землевладелица О. Шершова «сочувственно отнеслась к злодейскому покушению и иронически смеялась кончине Его Величества»[1233], а бывший санитарный врач дворянин Л. Кулишов после известия о смерти Александра II говорил: «…зачем жалеть о том, что Государя убили, по другим государствам совсем нет царей»[1234]. Учитель Горенской мануфактуры товарищества Третьяковых Н.И. Тихомиров на предложение подписать присяжный лист ответил отказом, прибавив: «…если его извести, то и без нас изведут»[1235]. Наконец, дворянин К.А. Чайковский сказал в корчме 9 марта: «О пустяках жалеете, убили одного, как сукина сына, убьют и этого. Если бы мой сын был там, то не от того бы… Собаке собачья честь»[1236]. Единственный из всех он был приговорен к шести месяцам тюремного заключения ввиду «крайней дерзости» преступления[1237]. В связи с событием 1 марта «дерзко» повели себя некоторые представители учащейся молодежи. П.А. Аргунов вспоминал, как он, ученик 8-го класса иркутской гимназии, вечером того дня, когда было получено известие о цареубийстве, вместе с товарищами, пансионерами гимназии, в столовой «нарочито громко говорили, хохотали, пробовали петь», наигрывали на гитаре «веселые мотивы». Свое поведение в этот день пятьдесят лет спустя автор попытался объяснить протестом против «общего, столь лицемерного, похоронного уныния»[1238]. В Житомире гимназисты решили отпраздновать убийство императора выпивкой: 2 марта несколько учеников принесли в ранцах из ближайшего шинка три полуштофа водки и «распили со своими единомышленниками»[1239]. В Ярославле кто-то из учащихся Демидовского лицея навязал двум бродячим собакам траурные банты и пустил по главной улице города[1240]. В Петербурге в первых числах марта было арестовано несколько студентов университета за расклеивание прокламаций, сбор денег для «преступников», поздравления с «победой», беседу о 1 марта «в неудобных выражениях»[1241]. Стоит уточнить, что «неудобным» санкт-петербургский градоначальник назвал высказывание студента А. Машковца «Слава Богу, избавились от Романова»[1242]. Студенческие волнения охватили университеты страны[1243]. По наблюдениям Министерства народного просвещения, в Петербургском университете «вместо правильных занятий и разрешения научных вопросов студенты занимались сходками, петициями, судами, скандалами и балами, так что весьма затруднительно решить, как студенты будут сдавать экзамены»[1244]. Самый большой скандал разразился в Московском университете во время обсуждения посылки траурного венка от лица студенчества. 5–6 марта на сходках в университете студенты Зайончковский и Уваров предложили провести поименную подписку на венок Александру И, «чтобы смыть пятно неблагонадежности, которым общество клеймит их [студентов. — Ю.С.]». Многие студенты возражали против такой формулировки, доказывая, что «они ни в чем себя виноватыми не считают, что обвиняет студентов только грубая чернь и что они поэтому не считают нужным оправдываться и в подписке на венок видят не свое оправдание, а желают лишь выразить глубокое сочувствие в Бозе почившему Государю Императору»[1245]. Так как случаи отказа от подписки стали преобладать, Уваров и Зайончковский завели отдельный список отказавшихся. Подписной лист попал к студенту Смирнову, который увидел в этом полицейский сыск и порвал лист, за что позднее был арестован[1246]. На сходке историко-филологического факультета 10 марта прошел товарищеский суд над Зайончковским, которого лишили права участвовать в студенческих собраниях. 12 марта состоялось собрание около 700 студентов Московского университета с целью выбора депутатов для возложения венка на гроб императора. Перед выборами депутатов студент-медик П.П. Кащенко, избранный председателем, высказался о неудобности подписки на венок, так как она велась с принуждениями. Далее он высказал мнение, что «не стоит брать пример в этом со студентов новороссийского университета, которые заявили себя холопами»[1247]. Явившийся на сходку проректор С.А. Муромцев был освистан. Сходка приняла решение: венок не посылать[1248]. В московских волнениях можно увидеть отношение части студенчества к монарху: для демонстрации независимости и подтверждения свободы они воспользовались не самым удобным поводом. Понятно, что в ситуации начала марта 1881 года студентов вряд ли могли остановить вероятные санкции, могущие последовать за их решением. Важно, как мне кажется, то, что их не остановили общечеловеческие соображения: уважение к покойному, погибшему мучительной смертью. Таким образом, очевидно, участники сходки видели в мартовских событиях прежде всего политическую сторону. Впрочем, остепени зрелости политического протеста молодежи можно размышлять. Многие студенческие «истории», за участие в которых могли последовать вполне реальные наказания, были данью моде или превратно понимаемой корпоративной этике. Ученики четвертой классической московской гимназии, отправившие адрес Александру II после взрыва 19 ноября 1879 года, получили анонимное письмо с обвинениями в том, что они запятнали честь гимназического мундира. В пример им приводились студенты, которые отвергли предложение послать адрес «со смехом и презрением»[1249]. После юбилейного адреса 1880 года одному из учащихся московской учительской семинарии в лавке возле Сухаревской башни подбросили письмо уже с угрозами, адресованными «центральным комитетом» «всем семинаристам»: «Если повторится подобное 19 февраля, вам несдобровать со всеми вашими потрохами»[1250]. В 1881 году в Варшаве был зафиксирован случай публичного оскорбления действием одного из студентов-участников делегации, возлагавшей венок на гробницу Александра II от Варшавского университета[1251]. То, каким образом виделось поведение настоящих студентов, наглядно демонстрирует курьезная история, случившаяся в Казани. В декабре 1879 года казанские жандармы пытались разыскать подпольную революционную организацию «Труд и Оргия», о которой стало известно из перлюстрированного в Тобольске письма студента первого курса университета М.Л. Орлика. Адресант был арестован и сознался, что сам придумал тайное общество, чтобы не ударить в грязь лицом. В представлении провинциальной молодежи все студенты «“пьянствуют, буйствуют” и непременно “участвуют в каком-либо политическом обществе”». Поскольку за первый семестр никакого тайного общества первокурсник не нашел, а друзья настойчиво добивались подробностей студенческой жизни, ему пришлось выдумать таковое и дать ему громкое название, точно отражающее ожидания корреспондентов[1252]. Не следует считать, вслед за неудачливым казанским «заговорщиком», что в массе своей студенчество было крайне революционно. Скандал в Московском университете особенно ярко продемонстрировал разделение студентов на «красных» и «благонамеренных». Последние возмущались не только действиями участников сходки, но также университетского начальства, «симпатизировавшего радикалам». А.И. Новиков, бывший в 1881 году студентом 3-го курса физико-математического факультета, с возмущением писал о сходке 12 марта, что С.А. Муромцев все время давал П.П. Кащенко говорить[1253]. В итоге несогласные с решением сходки студенты отделились и сами выбрали депутатов для посылки венка. По свидетельству А.И. Новикова, в депутацию вошли представители всех факультетов: филологов, юристов, физиков и медиков[1254]. Этот факт свидетельствует о том, что даже на традиционно считавшемся «красным» медицинском факультете были студенты, полагавшие своим долгом отдать дань памяти убитому монарху. Член революционного студенческого кружка в Ярославле А.В. Гедеоновский в воспоминаниях с осуждением писал, что студенты старших курсов Демидовского лицея, в отличие от первокурсников, «ходили с унылой физиономией, с крепом на руках»[1255]. «Благонамеренные» студенты Петербургского университета, по свидетельству петербургского градоначальника, в первых числах марта обратились к участвовавшим в беспорядках товарищам, «упрекая их, что на них лежит вина, что правительство относится к ним в настоящее время с недоверием. От спора чуть не дошло до драки»[1256]. Градоначальник оценил количество «благонамеренных» как большинство[1257]. Казанские студенты, сами себя охарактеризовавшие термином «благонамеренные», в марте 1881 года обратились с письмом к попечителю учебного округа с просьбой «устранить из стен университета беспорядки», положить конец «гадким выходкам некоторых товарищей» и тем «дать возможность заниматься своим делом»[1258]. Среди оппозиционно настроенных студентов также отнюдь не все разделяли безусловно отрицательное отношение к Александру II. Во всяком случае, некоторых из них гибель императора заставила взглянуть на него по-другому. В качестве примера может послужить студент Московского университета Д.И. Шаховской. В автобиографии, написанной в 1913 году, он утверждал, что еще во время обучения в варшавской гимназии стал «конституционалистом», поступив же в 1880 году в университет, принял активное участие в «кружках, сходках, столкновениях с полицией, спорах и мечтах», которыми в то время жило студенчество[1259].0 том, как студент-первокурсник отнесся к гибели императора, можно узнать по косвенному свидетельству — письму его отца, И.Ф. Шаховского, в котором последний возмущался высказываниями сына: «Не безумен ли ты — всего студент Московского университета — ставить на скамью подсудимых императора Александра И, потому что как я иначе могу понять твои слова, что ввиду страшной его кончины можно многое ему простить»[1260]. Разумеется, у отца, которого «смущали» «бесцеремонные» суждения сына о государственном строе[1261], решение студента «простить» императору «многое», вызывало негодование. Для меня этот случай — свидетельство того, что и в радикальной среде были примеры, когда событие 1 марта 1881 года вызвало изменения в восприятии Александра И. Кроме собственно революционной среды и части учащейся молодежи, и без того заподозренной обществом и правительством в «неблагонадежности», одобрение по поводу убийства императора высказывалось в среде оппозиционно настроенной интеллигенции, непосредственно связанной с деятелями «Народной воли». Одним из центров, где радикальные литераторы журналов «Отечественные записки», «Дело», «Слово» пересекались с народовольцами, была библиотека Эр-теля, которую посещали, по свидетельству Н.С. Русанова, члены редакции «Народной воли» А.П. Корба, А.И. Иванчич-Писарев, Л.А. Тихомиров, а также племянник К.М. Станюковича М.Н. Тригони[1262]. Архив «Народной воли» хранился в месте, унаследованном от землевольческого периода, — квартире секретаря редакции газеты «Голос» В.Р. Зотова, и регулярно пополнялся, как минимум, до конца февраля 1880 года[1263]. 1 марта вечером фрондирующие литераторы собрались в редакции журнала «Дело». Как вспоминал один из участников этого собрания, «большинство литературной братии отдавалось, напротив [в отличие от Н.В Шелгунова, который «был сдержан, но, очевидно, внутренне доволен». — Ю.С.], всецело чувству радости и строило самые радужные планы. Старик Плещеев и соредактор Николая Васильевича по “Делу” Станюкович особенно врезались мне своим оптимизмом в память»[1264]. Ольга Любатович в воспоминаниях дополняет эту сцену, ссылаясь на К.М. Станюковича. Предупрежденные о готовящемся покушении, некоторые литераторы загодя написали воззвания, наметили состав «временного правительства» и ждали в редакции «Дела» «событий». Так и не дождавшись народного восстания, они решили «не губить» лучшие газеты и журналы и «порешили выразить свой протест молчанием. Так и промолчали они замечательный акт новейшей русской истории», — иронически заключает она[1265]. К.Ф. Головин в воспоминаниях, ссылаясь на рассказ профессора А.И. Воейкова, писал о коллеге последнего, «одном известном ученом», произнесшем 1 марта вечером «тысячу раз позорные слова, выражавшие полную солидарность с случившимся»[1266]. Свидетельств того, что представители общества «сочувственно» или же с радостью отнеслись к цареубийству 1 марта 1881 года, осталось немного. Вполне вероятно, что осторожные люди старались подобные чувства не афишировать. П.П. Шувалов в записке утверждал, что в обществе есть довольно много людей, которые «редко и лишь в задушевных разговорах высказывают свои крайние убеждения; вообще же они располагают умением прикрывать их самыми благонамеренными побуждениями»[1267]. Мне более вероятным кажется другое объяснение. Малочисленность подобных высказываний на фоне выражаемых публично и приватно скорби и негодования в связи с событием 1 марта 1881 года свидетельствует о коренном переломе в общественном мнении после убийства императора. Экспертами в этом вопросе могут выступить лица, принадлежавшие к революционному лагерю и разочарованные в своих надеждах на поддержку общества. Н.С. Русанов писал: Как только Александр II был повержен, симпатии этих [либеральных и демократических. — Ю.С.] слоев к террористам сначала приостановились на одном уровне, а потом, словно отливная волна после точки прилива, неудержимо пошли на убыль […] Надо было читать все эти изъявления преданности, которые полетели к подножью престола […] от городских и земских учреждений, адвокатских, профессорских и иных корпораций! Как мало было во всем этом верноподданническом хаосе соболезнований, поздравлений, благословений, проклятий, лести за страх и лести за совесть — как бесконечно мало было в них выражения гражданских чувств, политических мыслей, дум о России, а не только о ее царе[1268]. Итак, сложность задачи, поставленной перед русским обществом всем ходом развития революционного движения, задачи, заключавшейся, собственно, в познании такого явления, как терроризм, возрастала многократно вследствие избранной народовольцами мишени для покушений. Подданные самодержавного государя — а на какой бы ступени социальной лестницы ни стояли эти люди и какого бы мнения ни придерживались они о своей роли в государстве, они оставались в глазах монарха, да и в своих собственных, верноподданными — должны были решать, каким образом следует относиться к попыткам его убийства, предпринимаемым другими подданными, «молодыми и очень молодыми людьми» во имя каких-то идеалов. Даже если исключить из этой задачи такой важный множитель, как образ террориста, окажется, что у нее могли быть разные решения, приводившие в итоге к очень разным ответам на вопрос, как действовать обществу перед лицом террора. Основополагающее значение имел при этом опыт отношения к монархии вообще и к конкретному ее представителю в лице Александра И. В государе можно было видеть «помазанника Божия», чей сакральный и символический статус не позволяет помыслить о каком-либо злоумышлении. Он же был человеком, совершающим как благие дела, так и ошибки, даже грешником. Наконец, он был политиком, ответственным перед страной и ее народом за общее благополучие. В действительности эти точки зрения не существовали отдельно друг от друга. Их переплетение приводило подчас к формированию сложных и противоречивых мнений. Презирая человеческие слабости и осуждая политику Александра И, вполне возможно было с негодованием относиться к любым покушениям на него, видя в царе воплощение монархического принципа. Прямо противоположной была точка зрения многих радикалов: сам по себе император мог оцениваться как неплохой человек, но его следовало убить именно как главу режима, с которым следует бороться любыми методами[1269]. Все же чаще отношение к монарху складывалось под влиянием целого комплекса факторов, на первое место среди которых выходила оценка его политики. Не только действия императора, но также все меры высшей и местной администрации, все промахи полиции в конечном счете можно было возложить на главу государства, ответственного за них хотя бы в силу того, что именно им делаются назначения на те или иные посты. Вплоть до 1 марта 1881 года большая часть общества отрицательно относилась к курсу внутренней политики. Либералы находили его реакционным. Царивший в их среде подъем, связанный с назначением М.Т. Лорис-Меликова, к январю 1881 года постепенно стал сменяться разочарованием. «Охранители», напротив, видели в «бархатном диктаторе» угрозу и без того расшатанному государственному порядку. 1 марта 1881 года было поворотной точкой описываемых событий. Несмотря на череду покушений, а может быть, как раз благодаря ей, цареубийство стало неожиданностью для общества. Годы «охоты на царя» создали иллюзию, что император не может быть убит. Реакция большей части общества на смерть Александра И, воспринятая народовольцами и сочувствовавшими им радикалами как «предательство», «трусость», отсутствие «гражданской позиции»[1270], на самом деле нелогичной была только для них. На фоне единичных смелых статей газет «Страна» и «Голос», написанных, как впоследствии выяснилось, отнюдь не представителями либерального лагеря, на фоне немногочисленных попыток заявить в адресах Александру III политические требования вместо верноподданнических чувств, телеграммы, венки, благотворительные инициативы для увековечивания памяти «Царя-Мученика» представляли собой массовое явление. Даже признанная обществом и правительством «неблагонадежной» учащаяся молодежь оказалась после 1 марта расколотой на «красных» и тех, кто, как гимназист В.В. Половцов, считал, что может, не колеблясь, отдать за государя жизнь.ГЛАВА IV «И ВЛЮБИТЬСЯ И ВОЗНЕНАВИДЕТЬ»: ПОЛИТИЧЕСКОЕ УБИЙСТВО В ГЛАЗАХ РУССКОГО ОБЩЕСТВА
Слова, вынесенные в подзаголовок, были написаны В.В. Розановым в 1912 году, когда, кроме опыта осмысления цареубийства 1 марта 1881 года, у русского общества появился новый опыт. Эта фраза из «Уединенного» кажется мне удивительно верной, потому что схватывает главное: «В террор можно и влюбиться и возненавидеть до глубины души, — и притом с оттенком “на неделе семь пятниц”, без всякой неискренности. Есть вещи, в себе диалектические, высвечивающие (сами) и одним светом и другим, кажущиеся с одной стороны — так, а с другой — иначе. Мы, люди, страшно несчастны в своих суждениях перед этими диалектическими вещами, ибо страшно бессильны»[1271]. Процесс формирования мнения русского общества о терроре не может быть понят, если, кроме политического измерения событий 1879–1881 годов, не видеть в них также нравственного аспекта. Каким бы образом ни оценивались причины покушений, для тех представителей общества, кто считал любое убийство «в высшей степени безнравственным»[1272], терроризм был абсолютно недопустимым способом политической борьбы. Среди лиц, настаивавших на безусловном соблюдении заповеди «не убий», были люди, придерживавшиеся самых разных взглядов на политику. «Охранители» объединялись в этом убеждении с либералами, сочувствовавшими политическим целям революционеров. Подобным образом относился к политическим убийствам, например, известный лингвист Д.Н. Овсянико-Куликовский, бывший в 1881 году студентом Новороссийского университета. Он отрицал любое убийство, испытывал «ужас» перед ним и «психологическое отвращение ко всякому террору»[1273]. При этом в воспоминаниях он признавался, что его «неудержимо тянуло к “протестующим”, к “радикалам”, к “левым”»[1274]. Последовательно придерживаться такой точки зрения было далеко не так легко, как может показаться на первый взгляд. Противоположный случай, когда моральный аспект из рассуждений о терроре исключался полностью, выводил на первый план вопрос об эффективности этого метода борьбы. В кругах радикальной молодежи были лица, не только с одобрением смотревшие на террористические акты, но и готовые на практике применять методы партии. В ночь на 7 мая 1881 года в квартире ректора Воронежской духовной семинарии протоиерея Д.Ф. Певницкого произошел взрыв подложенного в печку динамита. На следующий день в семинарии были расклеены прокламации, содержавшие угрозы продолжить подобный образ действий, пока не будут изменены семинарские порядки[1275]. Инспектор семинарии не смог указать причину, которая могла бы побудить кого-либо из учеников совершить покушение на жизнь ректора[1276]. Начальник Воронежского губернского жандармского управления высказал предположение, что взрыв является прямым последствием «общего нравственного упадка и предосудительного направления учащихся»[1277]. События в Воронеже в уменьшенном масштабе повторяли действия «Народной воли». Воронежские «террористы» совершили покушение на главу семинарии, пользуясь тем же методом, что народовольцы. После взрыва они, как и партия, объясняли свои действия прокламациями и, как и партия, обещали продолжать покушения до изменения существующих порядков. Интересно, что объяснения действий семинаристов инспектором и начальником жандармского управления полностью укладывались в рамки объяснений, дававшихся действиям «крамольников» вообще. Никаких дополнительных факторов, порожденных именно воронежскими условиями или обстановкой в семинарии, они не принимали в расчет. Все же даже в радикальной среде не все с одобрением относились к политическим убийствам. Народоволка В.И. Дмитриева в воспоминаниях свидетельствует, что в 1880 году на вечеринках «там и сям вспыхивали споры между сторонниками террора и мирной пропаганды»[1278]. Противники террора считали этот метод неразумным из-за его бесцельности. Полную противоположность Д.Н. Овсянико-Куликовскому представлял собой революционер Н.С. Русанов: не имея «нравственного возмущения» перед убийством «насильников», он в то же время отвергал террор «политически». «Убить царя с целью изменить ход общественного развития казалось мне столь же малоцелесообразным, как снять ту фигуру, которую древние ставили на нос своих кораблей с целью повернуть, вопреки течению и всем ветрам, направление судна», — писал он[1279]. В информационном поле в основном усилиями журналистов было создано представление о терроре как об «умозрительном» преступлении. Исключая вопрос о морали, такое восприятие политического убийства также приводило к его осуждению, поскольку оно совершалось только ради самого акта и не имело связи с действительностью. Более того, «теоретическое убийство» не могло найти оправдания в чувстве. Оно шло «от головы», а не от сердца, преисполненного любовью к родине или гневом на тирана. Философ и публицист Н.Н. Страхов после 1 марта 1881 года писал Л.Н. Толстому о том, что он «не находит места» после цареубийства «не по злобе, не по реальной надобности [курсив мой — Ю.С.], а потому, что в идее это очень хорошо»[1280]. Взгляды представителей общества на террор никогда не существовали в виде застывшей догмы. В течение 1879–1881 годов не только увеличивался объем информации о террористах и выкристаллизовывалась интерпретация покушений, но также — от события к событию — менялось отношение к политическому убийству. Ключевыми моментами, каждый раз вносившими что-то новое в восприятие террора и террористов, были взрывы и судебные процессы. Не следует забывать и о таком важном моменте, как личные связи внутри общества. Симпатии или антипатии по отношению к народовольцам и революционерам вообще могли возникать в связи с обстоятельствами, каким-то образом лично задевавшими того или иного человека. Действительная или мнимая угроза жизни, утрата надежды на реформы, вспыхнувшей было во время «диктатуры сердца», страх перед предполагаемым народным бунтом, сознание, что террористы «вооружаются не только против главных лиц общественного строя, но против каждого из нас, против семьи, против честного труда, против всего, чем красится жизнь человека»[1281], могли стать основой для неприязни к террористам и осуждения политических убийств. С другой стороны, арест знакомого студента, «по слухам занимавшегося распространением запрещенной литературы»[1282], административная высылка курсистки за «тост в честь коммуны» на студенческом вечере[1283] и другие подобные случаи усиливали неприязнь к правительству и сочувствие к тем, кто с ним борется. Были и совсем крайние эпизоды. Отец студента университета Св. Владимира К.В. Поликарпова, застрелившегося после неудачного покушения на агента Киевского жандармского управления, будучи, по отзыву жандармерии, «сильно ожесточен на тех, кого считал ее [смерти сына. — Ю.С.] виновниками […], говорил, что прежде он жил для своего сына, а теперь будет жить для мести за него: себя и свои средства он предлагает отдать революционному делу»[1284]. Деньги бывшего правителя канцелярии таврического губернатора В.Е. Поликарпова, образовавшие так называемое «крымское наследство», несмотря на усилия М.Ф. Гортынского, не достались «Народной воле» и были переданы либералу К.А. Маслову, планировавшему создание нелегального конституционного органа «Политическая свобода». Можно выделить два полюса, между которыми колебалось отношение к террору на протяжении осени 1879-го — весны 1881 года. Резкое осуждение любых действий террористов, отказ от попытки понять, почему и во имя чего они действуют, с одной стороны. С другой — сочувствие, проявлявшееся различным образом: от отказа осудить до получения корреспонденции, материальной помощи, предоставления укрытия и т. д. При этом отношение зависело не столько от социального или материального положения, сколько от личных взглядов и политических убеждений того или иного человека. Пожалуй, типичным можно назвать случай семьи Бенуа, где, как вспоминал А.Н. Бенуа, за домашними обедами шли острые споры между братьями его матери, «консерватором и дипломатом» «дядей Костей» (К.А. Кавос), чиновником Министерства иностранных дел, требовавшим жестокой расправы с террористами, и служившим в петербургской земской управе «дядей Мишей» (М.А. Кавос), до того «скомпрометировавшим себя» сочувствием Вере Засулич: «дядя Миша» пытался поступки террористов «объяснить»[1285]. К моменту первого покушения «Народной воли» на императора Александра II в обществе сохранялась инерция сочувствия или снисхождения если не к целям революционного движения, то к личностям «государственных преступников», фигурировавших в процессах «Ста девяноста трех» и Веры Засулич[1286]. Эти процессы стали основой представлений о революционерах как о «жертвах» системы, которые не смогли поколебать даже воспоследовавшие убийства и покушения на убийства должностных лиц в Харькове, Киеве и Петербурге[1287]. Взрыв 19 ноября 1879 года, как справедливо отметил в воспоминаниях, изданных в 1905 году, в разгар первой русской революции, банкир, председатель Московского биржевого комитета Н.А. Найденов, продемонстрировал обществу «отсутствие всякой гарантии против действий революционной партии»[1288]. 27 ноября И.Д. Делянов, тогда директор Императорской публичной библиотеки, сбивчиво писал своему помощнику А.Ф. Бычкову: «Только что совершилось у нас, не могу и говорить, даже подумать страшно!»[1289] Все же, если судить по воспоминаниям, покушение под Москвой либо не произвело такого уж сильного впечатления, либо, что более вероятно, последующие события заслонили его[1290]. Переломным моментом в восприятии террора следует считать взрыв в Зимнем дворце 5 февраля 1880 года. «Невинно пролитая кровь мучеников», вышедших невредимыми из кровопролитных боев в Болгарии и погибших от «своих»[1291], поколебала симпатии к террористам у тех, кто их испытывал. Это отмечали в воспоминаниях и те, кто относился к революционерам отрицательно, и те, кто сочувствовал им[1292]. С.Ф. Платонов, в тот момент студент Петербургского университета, писал матери 7 февраля: «Ужасные вещи, гнусные и грустные факты. […] Неужели угрызений совести у наших революционеров и здесь не проснулось? Какая подлость!»[1293] Сопереживание пострадавшим солдатам и семьям убитых вместе с возмущением террористическим актом захватило самые различные круги общества. Князь Н.Б. Юсупов, желая оказать помощь «семействам доблестных воинов, страдальчески погибших на страже нашего Обожаемого Императора», пожертвовал в их пользу 1000 рублей[1294]. Сбор денег шел не только по тысячам, но и по копейкам. К августу 1880 года общая сумма пожертвований составила 88 325 рублей 61,5 копейки[1295]. Паника накануне 19 февраля 1880 года, когда общество остро почувствовало опасность для жизни и угрозу привычному порядку вещей, также способствовала уменьшению количества лиц, симпатизировавших террористам, и понижению «градуса сочувствия». Можно говорить о том, что две недели, прошедшие между взрывом во дворце и праздником, повлияли на отношение общества к террору едва ли не больше, чем статьи журналистов, проповеди священников и прокламации, вместе взятые. Чем масштабнее виделась грядущая катастрофа, которую предсказывала молва, тем более личностным становилось переживание происходящего. На дальнейшее изменение отношения к деятелям революционного подполья в период «диктатуры сердца», как мне кажется, повлияли действия самой власти. Принятое М.Т. Лорис-Меликовым решение о пересмотре дел административноссыльных и возвращении их на родину актуализировало образ революционера-«заблудшего юноши», слишком жестоко наказанного за то, что он «случайно» сбился с пути. На смягчение участи в это время могли рассчитывать все, кроме террористов[1296]. Изменение отношения в это время и власти и публики чувствовали сами революционеры, которым повезло судиться за политические преступления летом 1880 года[1297]. В это же время в связи с отставкой Д.А. Толстого накалялись страсти вокруг «школьного вопроса»: «недоучки» вызывали почти всеобщее сочувствие как без вины виноватые. Эти тенденции не могли не повлиять на отношение к судившимся на «Процессе Шестнадцати» народовольцам. Публикация отчетов по нему позволила обществу, незнакомому с нелегальными изданиями «Народной воли», впервые услышать голос самих террористов. К этому времени многие либерально настроенные лица стали ощущать разочарование в «новых веяниях», бесплодность обещаний М.Т. Лорис-Меликова. Казнь А.А. Квятковского и А.К. Преснякова актуализировала образ террориста-«мученика». 7 ноября в дневнике Е.А. Штакеншнейдер писала: «…тяжелое и нехорошее впечатление производит казнь даже на нелибералов. Не в нашем духе такие вещи. Оно и вообще процесс этот возбудил, конечно, оживленные толки в обществе, уснувшем было…»[1298] А.В. Богданович, которую никак нельзя заподозрить в сочувствии к революционерам, «не могла без ужаса слушать подробности» этой казни[1299]. Впечатление могло быть еще ужаснее, если бы по настоянию М.Т. Лорис-Меликова не были помилованы трое других приговоренных к казни. Александр II в этом случае делал красивый жест: помилованы были те, кто участвовал в покушениях на него самого. Казнь Квятковского и Преснякова объяснялась тем, что из-за их действий пострадали невинные люди: монарх мог простить покушения на себя и не мог — убийства подданных. Цареубийство 1 марта 1881 года еще раз изменило общее отношение к террористам. С одной стороны, оно «сильно подняло настроение»[1300] среди радикалов, с другой — оттолкнуло от террористов умеренные круги, раньше проявлявшие к ним симпатию. А.Н. Бенуа описывал общее настроение как «ужас перед совершившимся и абсолютное осуждение преступников-террористов, тогда как до того “нигилисты” были “почти в моде”»[1301]. Ситуацию марта 1881 года во многом можно сравнить с ситуацией накануне 19 февраля 1880 года. Случайные жертвы при взрывах на Екатерининском канале и в особенности возможность еще больших жертв, если бы сработала мина на Малой Садовой, вновь напомнили: пострадать может любой. Снова, как в феврале 1880 года, Петербург, а с ним вся Россия жили слухами, обещавшими новые катастрофы, убийства, крестьянские восстания и революцию. Важнейшими событиями после цареубийства 1 марта 1881 года, также оказавшими значительное влияние на отношение общества к террористам, стали судебный процесс над цареубийцами и смертная казнь на Семеновском плацу 3 апреля 1881 года. Судебный процесс вызвал огромное любопытство, газеты с отчетами выходили дополнительными тиражами, но их все равно было трудно достать. Впервые перед публикой предстали действительные исполнители террористических актов. Пожалуй, среди всех подсудимых Н.И. Рысаков более всего подходил под понятие «заблудшего юноши». Государственный секретарь Е.А. Перетц записал в дневнике свое впечатление: «…слепое орудие. Это несчастный юноша, имевший прекрасные задатки, сбитый совершенно с толку и с прямого пути социалистами»[1302]. Хотя газеты делали упор как раз на том, что Рысаков был лучшим выпускником реального училища, и подчеркивали его крайнюю бедность во время студенчества, т. е. находили для него оправдания в модели террориста-«недоучки», он не вызывал симпатий. Очевидно, причина заключалась в откровенных показаниях, данных им на следствии. 5 марта 1881 года Елизавета Шмидт сделала заявление о том, что ее знакомый студент Спиридон, которого она подозревала в принадлежности к «партии террористов», говорил ей, что «партия считает Рысакова трусом, что партия попытается всевозможными способами его освободить, с тем чтобы убить его за трусость»[1303]. Среди всех подсудимых процесса по делу 1 марта наибольший интерес вызывали Андрей Желябов и Софья Перовская. В воспоминаниях Р. фон Пфейля Желябов представал как «кумир заговорщиков», «главный руководитель всего дела»[1304]; Д.А. Милютин признал в нем «личность выдающуюся»[1305]. Но еще больше, чем Желябов, публику интересовала Софья Перовская, женщина-террористка. В своих воспоминаниях Р. фон Пфейль даже утверждал: не будь Перовской, организовавшей покушение 1 марта, Александр II остался бы жив[1306]. Д.А. Милютин в дневнике писал: «Перовская тоже [как Желябов. — Ю.С.] выставляла себя с цинизмом деятельною участницей в целом ряде действий, настойчивость и жестокосердие, с которыми она действовала, поражали противоположностью с ее тщедушным и почти скромным видом»[1307]. Князь В.П. Мещерский в дневнике сделал еще больший упор на неженственное поведение Перовской: «…цинизму, энергии и фанатизма в этом маленьком теле и в этой злой душе — без конца. Она не знала в эти годы, что такое усталость, для общего дела, ими производившегося, злая воля, ум, воображение, ноги, руки — все у нее работало как огонь и не останавливалось ни перед какими препятствиями»[1308]. Очень характерно отношение к революционерке Л.Н. Толстого. Уже после революции 1905 года он расспрашивал одну из своих посетительниц, правда ли, что Перовская действовала из-за любви к Желябову: «…прежде говорили, что именно она была душой заговора. Представлялась она какой-то идейной Жанной Д’Арк, а теперь вдруг… любовь к Желябову. Это уже совсем не то»[1309]. Остальных народовольцев публика знала разве что по именам. Не все были довольны ходом процесса и его результатами. Бывшая фрейлина, жена И.С. Аксакова А.Ф. Тютчева, записала в дневнике: «…я с возмущением слежу за процессом убийц государя. Все это показное соблюдение юридических норм […], проявленное по отношению к этим висельникам, имеет в себе что-то искусственное, фальшивое, карикатурное»[1310]. Неизвестный в письме К.П. Победоносцеву возмущался «юродивой и уродливой комедией, которую ломали с ними [ «первомартовцами». — Ю.С.] на суде […]. Знаете, что я Вам доложу: народ — Россия — за все это спасибо не скажут, судьи чуть ли не три часа рассуждали […], как будто менее повешения можно было что-нибудь сказать; да мы и этой казнью недовольны, измучить их следовало»[1311]. Сенатор Э.Я. Фукс, на которого как на первоприсутствующего обрушились все упреки в неправильном ведении процесса, в воспоминаниях утверждал, что проявления гнева были неискренними. Публика («разные генералы») выказывала недовольство судебным процессом, чтобы «дешевым для себя образом являть свое верноподданническое усердие». Э.Я. Фукс, на которого во время процесса оказывали давление министр юстиции Д.Н. Набоков и сам император Александр III, и через двадцать лет не мог вспоминать о процессе «первомартовцев» бесстрастно. Он с осуждением писал о людях, которые «в минуту опасности не бросились бы спасать государя», но «являли злобу и недовольство на суд, желавший соблюсти возможноебеспристрастие и справедливость»[1312]. Параллельно с требованиями жестоких истязаний для цареубийц в марте 1881 года шла кампания против смертной казни. Самыми известными заявлениями по этому поводу были письмо Л.Н. Толстого Александру III[1313] и публичная лекция философа В.С. Соловьева в зале Кредитного общества. Если о первом публике стало известно гораздо позднее, то лекция В.С. Соловьева вызвала огромный резонанс. 28 марта 1881 года при большом стечении публики философ, рассуждая о религиозном идеале русского народа и личности царя как воплощении этого идеала, сделал следующий вывод: если Александр III действительно чувствует свою связь с народом, он должен простить убийц своего отца[1314]. Один из очевидцев лекции, студент В.С. Соловьева Н. Никифоров, описывал реакцию публики так: Вдруг, словно дикий неистовый ураган ворвался в зал. Раздались не крики, а прямо вопли остервенения, безумной ярости: «Изменник, Негодяй! Террорист! Вон его! Растерзать его!» Публика первых рядов бросилась к эстраде, размахивая руками, стуча стульями и неистово крича вслед уходящему лектору. […] В то же время раздавались неистовые аплодисменты и крики «браво» среди студентов[1315]. Другой свидетель этой лекции, Л.З. Слонимский, утверждал, что никаких угроз или восторженных криков не было, овации лектору были устроены «взволнованной публикой» после лекции[1316]. Эпизод с лекцией В.С. Соловьева ставит перед исследователем трудноразрешимую проблему: следует ли видеть в высказываниях против смертной казни «первомартовцам» свидетельство сочувствия террористам или их всецело можно отнести к основанному на гуманистическом идеале движению против смертной казни вообще? Если с самим В.С. Соловьевым ситуация ясна, — он был убежден, что смертная казнь «непростительна» в христианском государстве[1317], то как быть с теми, кто аплодировал ему и присылал ему на следующий день букеты? На фоне сочинений народовольцев, пытавшихся объяснить, в первую очередь самим себе, сущность используемого ими метода, даже на фоне рассуждений легальных журналистов отчетливо видно восприятие русским обществом терроризма не как некоего абстрактного явления, о котором можно теоретизировать, а как череды событий, тесно связанных с повседневной жизнью. Переживание террора и понимание его были очень личностными и в то же время «очеловеченными»: они не существовали отдельно от людей — исполнителей террористических актов и их жертвы. Два представления, которые оказывали влияние на решение проблемы терроризма, — представление о безнравственности убийства и представление о его бесполезности — все время заслонялись в глазах рассуждавших о нем членов общества образами «фанатиков», «социалистов», «недоучек» и т. д., с одной стороны, и образом монарха, обагрившего своей кровью камни мостовой, — с другой. Именно связь террора с судьбами конкретных людей порождала «бессилие» перед ним как перед политическим феноменом, верно выхваченное В.В. Розановым: невозможно было решить или сказать о нем что-то раз и навсегда. Наблюдение за тем, как именно члены общества воспринимали народовольцев, с одной стороны, и императора Александра И, с другой, дает возможность обозначить две важные проблемы. Во-первых, оно позволяет констатировать заведомую неполноту информационного поля в условиях цензурного контроля. Русское общество, в течение 1879–1881 годов обсуждавшее оба обозначенных вопроса, выработало в том числе и такие интерпретации, которые из-за цензурных ограничений были представлены в информационном поле фрагментарно, в виде туманных намеков и иносказаний. Во-вторых, в текстах различных информационных потоков ответы на вопросы о том, кто такой террорист и как относиться к покушениям на главу государства, зачастую давались по отдельности. Если отбросить в сторону риторику рассуждений о терроре, то можно с уверенностью утверждать, что они носили почти исключительно рациональный характер. Образ же монарха как жертвы покушений, сформированный в рамках провиденциального истолкования сущего, добавлялся к ним искусственно, что, в свою очередь, приводило к совмещению в легальной части информационного поля двух несовместимых логик. Нелегальная литература не могла изменить эту ситуацию. В разговорах о терроре представителей общества такого разрыва не наблюдается. Отношение к монарху и к революционерам формировало сплав эмоций, под влиянием которых выносилось в тот или иной момент времени суждение о терроризме, никогда не бывшее окончательным, раз и навсегда утвердившимся. Русское общество было расколото на множество отдельных групп, по-разному понимавших происходящее, причем провести границы между ними, между тончайшими оттенками в отношении к политическому убийству очень сложно. Речь не шла о традиционном делении на «охранителей», «либералов» и «радикалов», потому что «сочувствующий» революционерам студент мог быть принципиальным противником террора, а близкий к императорскому дому сановник втайне радоваться убийству Александра И, видя в этом чуть ли не спасение России. Уловить отношение общества к террору можно, только охватив все события 1879–1881 годов: не только три взрыва, два судебных процесса, перестрелку в Саперном переулке, отставку Д.А. Толстого, морганатический брак императора, но и более мелкие происшествия и даже то, что существовало лишь в воображении напуганной публики, подтверждавшей известную мудрость «у страха глаза велики». Восприятие террора, формировавшееся под влиянием отношений к тем условиям, из которых, по мнению представителей общества, он рождался, колебалось параллельно с любыми изменениями этих внешних обстоятельств. Переход «Народной воли» к использованию динамита превратил террор из конфликта между «крамолой» и правительством, позволявшего населению в целом оставаться в стороне или вмешиваться в него в соответствии с собственными убеждениями, в личное дело каждого человека, чья жизнь могла оказаться в опасности во время очередного покушения. Максимального осуждения действия террористов подверглись именно после покушений, повлекших за собой случайные жертвы. Паника февраля 1880-го и марта 1881 года повлияла на отношение к террористам так, как не могли повлиять никакие заявления правительства и проповедников. В то же время в периоды затишья, позволявшие обществу сконцентрироваться на внутренних проблемах империи, сочувствие к террористам возрастало, и их существование было, наряду с прочим, весомым аргументом в пользу необходимости вмешательства общества в не устраивающий его ход дел.ГЛАВА V ПРОЕКТЫ БОРЬБЫ С РЕВОЛЮЦИОННЫМ ТЕРРОРОМ
Размышления представителей общества об исполнителях террористических актов, о причинах, подтолкнувших их к использованию динамита, об ответственности, лежащей на правительстве и монархе, служили основой для выдвижения разнообразных способов борьбы с революционным террором. Составление записок, посвященных этому вопросу, описывалось их авторами как «нравственная обязанность», «долг», «забота всякого верноподданного»[1318]. Можно было бы отнести эти высказывания к необходимым фигурам речи при обращении к высочайшим лицам, если бы они не встречались также в записях, для сторонних глаз не предназначенных[1319]. Напротив, молчание могло оцениваться как предательство: «…молчать считаю преступлением и перед самим собой, и перед Отчизною»[1320]; «…всякий истинный патриот, чувствуя затруднительное и тяжелое положение своего Отечества, не может и не должен молчать [выделено автором. — Ю.С.]»[1321]. Метафоры «болезни» и «почвы», часто употреблявшиеся в информационном поле, в полной мере использовались представителями общества. Связь общества и «крамолы» — вот что волновало умы. Революционное брожение появилось не на пустом месте: оно нашло «восприимчивую, вполне себе подготовленную почву» (К.Д. Кавелин), «удобную для произрастания крамольного семени» (Д.К. Глинка, гласный Смоленского губернского земства), «благоприятствующую развитию вредной пропаганды» (Е.В. Богданович)[1322]. Доказательства этого утверждения были разные. Первым и главным аргументом был сам факт возникновения и усиления революционного движения. Публицист-консерватор А.П. Мальшинский в работе «Обзор социально-революционного движения», выполненной по заказу III отделения, утверждал, что при «цельности общества, при непоколебимости его консервативных элементов, явления, подобные переживаемым нами в последнее десятилетие [революционное движение. — Ю.С.], никогда не имели бы места»[1323]. Еще дальше пошли двадцать пять земских деятелей Московской губернии во главе с известными либералами В.Ю. Скалоном, А.И. Чупровым и С.А. Муромцевым, подавшие в марте 1880 года М.Т. Лорис-Меликову записку, в которой утверждали, что при существующих общественных условиях проявление недовольства в «насильственных формах» неизбежно[1324]. В качестве второго аргумента выдвигалась видимая легкость, с которой пополняются ряды «крамольников», причем между ними попадаются люди всяких состояний и общественных положений, и число их быстро увеличивается[1325]. Наконец, наличие связи между обществом и развитием террора подтверждалось отсутствием «должной» реакции на покушения. Вместо помощи правительству наблюдалось «апатичное, безучастное, уныло-бездеятельное, отчасти злорадное» отношение[1326]. Вывод из этого тезиса следовал один: проблему террора можно и должно решать только путем объединения усилий общества и правительства. Мысль эта повторяется в записках рефреном: «необходимо сблизиться с общественными силами», «организовать деятельность» общества, «закрыть промежуток» между правительством и населением «взаимным сближением»[1327]. Б.Н. Чичерин в «Задачах нового царствования» высказывал убеждение: «…правительство неизбежно должно будет обратиться к обществу и искать в нем опоры»[1328]. Годы спустя в воспоминаниях он попытался объяснить, каким образом родилась эта мысль: еще в царствование Александра II он пришел к убеждению о необходимости «союза между правительством и обществом». Катастрофа 1 марта усилила его, так как «указывала на глубокое общественное расстройство […]. Приходилось взывать к общественным силам, чтобы в союзе с ними дать отпор торжествующему нигилизму»[1329]. Обращения к императору и лицам, облеченным властью, опубликованные за границей брошюры, письма читателей в газеты, выступления в ряде земских и иных собраний содержали в себе различные проекты решения проблемы терроризма. Предложения эти охватывали довольно большой круг внутриполитических проблем, среди которых можно выделить несколько основных направлений: 1. Предложения по обнаружению, преследованию и наказанию террористов, куда входили проекты реформирования полиции и, более узко, политического сыска, включение в эту систему представителей общества, реформа административной ссылки и в целом системы наказаний за политические преступления. 2. Воздействие на молодое поколение как на основной «ресурс» террористов — реформирование системы образования, церковные реформы, направленные на укрепление веры, идеологическое воздействие на молодежь. 3. Устранение экономических и социальных неурядиц, борьба с административными нестроениями. 4. Включение представителей общества в процесс принятия политических решений. По каждому из этих направлений существовали как предложения, выполнение которых целиком зависело от правительства, так и те, что могли быть осуществлены только при деятельном участии общества. Советов первого рода было немного, так как требование «поддержки общества», исходившее от власти, предполагало все же более активное участие, чем просто предложения упразднить высшие женские курсы[1330], ввести институт «разъездных проповедников», уменьшить число питейных домов[1331] и т. п. Как правило, это были единичные советы, в то время как у каждой идеи по борьбе с терроризмом при помощи общества было множество сторонников. Единственная мера, целиком зависевшая от правительства и, казалось, витавшая в воздухе, была связана с изменением паспортной системы. Ссылаясь на почерпнутые в опубликованных стенограммах судебных процессов сведения о проживании террористов по фальшивым видам на жительство, авторы записок предлагали делать паспорта с водяными знаками и фотографиями[1332], даже в виде «книжечек из гербовой бумаги и с штемпелем, и чтобы в паспорте таком кроме примет предъявителя подробно было объяснено все его семейство, род его занятий и какое есть у него имение, постоянное его место жительства и время и причина отлучки из оного»[1333]. Характерно, что такого рода идеи высказывали по большей части канцелярские служащие в невысоких чинах: чертежник Калужского губернского правления Г.И. Киселев, титулярный советник Ю.К. Ангелов, отставной коллежский асессор И.И. Сердюков и т. п. В свою очередь, меры против террора, которые можно было осуществить с помощью общества, делились в зависимости от объекта приложения сил на: 1. Меры, направленные непосредственно на террористов; 2. Воздействие на причины, порождающие, по мнению того или иного автора, террор; 3. Учреждение представительных органов власти.1. Проекты мер, направленных на террористов
Большинство проектов, предполагавших непосредственное воздействие на террористов, было связано с участием общества в охране государственного порядка. Ряд авторов предполагал усилить уже существующую полицию «добровольческим элементом»[1334], «учредить полицейских общественных агентов»[1335]. Причина подобных предложений заключалась в общем убеждении в некомпетентности полиции, неспособной справиться с «крамольниками». Для решения этой проблемы староконстантиновский уездный исправник, например, предлагал «господам гвардейским офицерам» акт самопожертвования — временно усилить собой полицию. Эта мера должна была, с его точки зрения, не только способствовать уничтожению террора, но и «возвысить» значение полиции в глазах общества, обеспечив первой «соединение сил» со вторым[1336]. Некоторые представители общества шли еще дальше, советуя использовать добровольцев на ниве не полицейского, но политического сыска. Капитан А. Андреев 5 марта 1880 года предлагал М.Т. Лорис-Меликову создать тайное общество, члены которого были должны «втираться в разные подозрительные и даже неподозрительные дома в качестве прислуги и даже дворников», чтобы вовремя раскрывать готовящиеся заговоры[1337]. Капитан Иван Павлов в марте того же года придумал еще более сложный план: сформировать несколько групп по пять человек, «известных своей верностью, преданностью Государю и Правительству, энергичных, сметливых и преимущественно из холостых или вдовых и бездетных», и объявить их вне закона, с тем чтобы тайные руководители русской крамолы (а может быть, даже английские агенты!) вышли на связь с ними. Добровольцам следовало «сблизиться с ними, вызвать их доверие и затем тайно указать на них Правительству»[1338]. Членам общества также предлагалось взять на себя ответственность по охране безопасности императора[1339]. Очевидно, С.Ю. Витте напрасно приписывал себе идею создания «Священной дружины»[1340]: схожие проекты выдвигались представителями общества за год до его письма к дяде. Значительное число предложений против террора было связано с идеей учреждения для домовладельцев обязательного надзора за жильцами. «Кому лучше знать обстановку, занятия, условия жизни обитателей известного дома, как не его хозяину», — писал статс-секретарь Государственного совета тайный советник Н.М. Ремблинский[1341]. Ряд авторов предлагал просто ввести репрессивные меры для тех домовладельцев, чьи квартиранты окажутся «нигилистами». Наказания изобретались разные: «жестокая кара по карману»[1342], «до 14 дней арест при полиции»[1343]. Также предлагалось «ужесточить закон о недоносителях»[1344] и даже ввести законы, по которым домохозяин, не донесший на совершающиеся в его доме действия по «подрыву государственного порядка», признается соучастником «преступного замысла или действия»[1345], а за нарушение правила о прописке жильцов судится военно-полевым судом[1346]. Для большей эффективности член Верховной распорядительной комиссии генерал-майор М.И. Батьянов предлагал ввести для домовладельцев принцип круговой поруки, с тем чтобы они «контролировали бдительность друг друга»[1347]. Интересно, насколько широк был круг людей, одобрявших подобные меры. Среди них и петербургские купцы, и профессор Харьковского университета И.В. Платонов, и даже высшие сановники, такие как П.А. Валуев и А.В. Адлерберг[1348]. Ряд проектов предполагал не только введение ответственности для домовладельцев, но и предоставление им особых прав для контроля за проживающими в их домах нанимателями квартир. Так, Н.М. Ремблинский предлагал предоставить домовладельцам право не чаще раза в неделю проводить произвольные обыски у своих жильцов[1349]. Он же советовал разделить столицу на участки и в каждом из них создать особую структуру — «комитет охранения порядка» — из домовладельцев, чинов полиции и «благонадежных» квартирантов[1350]. Купец И.Ф. Карпович также с целью поимки террористов выдвинул проект учреждения в каждом доме домового управления из хозяина дома и выборного от каждых 20 квартир. Членам управления предоставлялось право делать внезапные осмотры квартир, производить перекличку обывателей, выдавать въезжающему в дом на жительство домовой билет, в котором прописываются приметы проживающего[1351]. Петербургский купец Фартес предлагал создать институт околоточных обывателей из волонтеров, пользующихся «хорошим положением в обществе», также имевших право внезапных посещений квартир, обысков, донесений непосредственно министру внутренних дел или градоначальнику[1352]. Подобные проекты относились в основном к Петербургу. Среди записок встречаются и более масштабные предложения. 10 марта 1880 года полковник А. Пожаров написал обширный проект учреждения «комитетов общественного спокойствия» из «честных и благомыслящих граждан». По сути, он предлагал установить систему тотального контроля: в столице учреждался новый государственный орган Распорядительный комитет, которому подчинялись на местах комитеты, состоящие из председателя и неограниченного числа членов, не получающих за свою деятельность никакой платы. Комитеты должны были следить не столько за «социалистами», сколько за обществом, поскольку «служба, награды и движение по службе возможны только для лиц, пользующихся доверием комитета общественного спокойствия, равно как и в общественных клубах, разного рода собраниях, обществах, компаниях, подрядах, торговых оборотах и т. п. допускаются к участию только эти лица». Заподозренные комитетами в «социалистическом» образе мыслей отдаются под суд, их имущество конфискуется «для образования капитала для развития женских учебных заведений»[1353]. Вероятно, полковник Пожаров предполагал, что общество в большинстве своем все же «благонадежно», иначе не предназначил бы конфискованное имущество для такой узкой цели. Вообразим на минуту, что предложенный проект был бы реализован: сложно себе представить количество новых школ, но наверняка они бы обеспечили тотальную женскую грамотность на всей территории Российской империи. В свою очередь, харьковский нотариус Сущев также предлагал создать в каждой губернии комитеты, имеющие право всех «социалистов» «вешать или расстреливать, и при этом без особых церемоний или расходов»[1354]. Созвучность названия проектируемого полковником Пожаровым комитета известному якобинскому Комитету общественного спасения символична, так как отражает суть такого рода предложений. Некоторые представители общества были готовы ответить на революционный террор «общественной диктатурой». Опасность такого пути осознавалась другими членами общества. М.И. Семевский, разбирая в дневнике предложения Карповича и Фартеса, справедливо заметил, что они свидетельствуют о «низком» уровне понимания прав личности «во многих представителях русского общества»[1355]. В ответ на опубликованное в «Петербургском листке» письмо Преображенского, предлагавшего ввести новые правила проживания, другой читатель, А. Сазонов, с возмущением писал: «…усердных проповедников повального обыска и конфискаций домов следует считать в одном ряду с “террористами”, идеи которых они разделяют, сами того не сознавая […], система безразборчивых доносов ведет только к деморализации и больше ни к чему»[1356]. Сами авторы проектов отнюдь не считали, что эти меры каким-то образом нарушат права граждан. Н.М. Ремблинский писал, что правительству следует лишь объявить, что «обыски эти ни для кого не должны быть оскорбительными в настоящее время»[1357]. Он же считал, что население столицы увидит в предоставлении особых прав домовладельцам «доверие к местному населению со стороны правительства»[1358]. Поборники подобных «гражданских инициатив» ссылались на российский положительный опыт «охранения Петербурга в санитарном отношении»[1359]и борьбу с ирландскими экстремистами-фенианами в Лондоне[1360]. Испытать свои силы в деле охранения «общественного спокойствия» петербуржцы смогли накануне 7 марта 1881 года, когда М.Т. Лорис-Меликов обратился к городской думе с просьбой о содействии во время траурной процессии и указал городскому голове на возможность новых подкопов и «покушений посредством выстрелов и других метательных снарядов из окон, чердаков и с крыш»[1361]. В результате гласные думы потребовали от домовладельцев осмотреть подвалы, закрыть на время процессии ворота и черные лестницы и не впускать посторонних в квартиры. Разделившись, гласные лично осмотрели сады, пустыри, а также 101 дом по ходу следования траурной процессии[1362]. 11 марта городской голова барон П.Л. Корф с удовлетворением сообщил о том, что 8 марта в Петропавловской крепости множество людей говорило ему: «.. какое счастье, что дума приняла участие в надзоре, теперь можно надеяться, что процессия дойдет благополучно»[1363]. Представители общества выдвигали и принципиально иные идеи воздействия на террористов: не репрессивно-полицейскими мерами, аморальными увещеваниями и пропагандой, как предлагал П.А. Валуеву отставной генерал-лейтенант И.Г. Чекмарев, бывший в течение десяти лет редактором «Журнала для солдат»[1364]. В 1880 году в Берлине К.Д. Кавелин опубликовал статью «Разговор с социалистом-революционером», написанную как обращение к сыну своего знакомого, который «сделался заговорщиком». С одной стороны, указывая на то, что насилие «позорит» саму идею социализма («Насильственно освобождать кого бы то ни было значит убивать свободу в самом ее источнике, обращать людей в рабов свободы, т. е. в нравственных уродов»), а с другой, называя конституцию «пленом царя и разорением народа в пользу ничтожнейшего и развратнейшего меньшинства», он предлагал тем, кто считает себя социалистами, «всем юношеством и перед лицом всей России» отречься от революции, начать прилежно учиться, а затем «примирить» общество со своими убеждениями[1365]. Отставной коллежский советник Ф.И. Закрицкий в прошении Александру II предлагал опубликовать свое сочинение «Воззвание русского к своим соотечественникам», в котором требовал у террористов: «Одумайтесь, вразумитесь, покайтесь, просите пощады»[1366]. Очень характерна реакция А.В. Богданович на проект Е.В. Богдановича, предлагавшего опубликовать обращение к «нигилистам» с обещанием укрыть всех раскаявшихся от прежних товарищей. Заметив, что это «мысль добрая, но вряд ли принесет добрый плод», она сразу же записала предложение спирита Риди-гера бороться с «нигилистами» спиритизмом, добавив: «Тоже мечта!»[1367]2. Устранение причин, породивших террор
Проекты, которые условно отнесены к этой группе, на порядок сложнее предыдущих. Так или иначе они связаны с попытками осознать сущность террора и причины, его вызвавшие. Даже если автор проекта прямо не высказывал своего мнения о явлениях, породивших покушения на императора, суть его предложения позволяет судить о том, от каких идей он отталкивался. Здесь на помощь могут прийти те толкования террора, которые предлагались обществу в информационном поле, а также бытовавшие в этот момент образы террориста. Проекты школьной и университетской реформ как способа покончить с «разложением умственного пролетариата» были рассмотрены ранее. Поиски первопричины нередко приводили представителей общества и к размышлениям о социальных корнях террора. «Социологию крамолы» возможно было рассматривать под разными углами зрения. В одном варианте вопрос о социальном происхождении террористов перекликался со «школьным вопросом». В основе протеста видели тяжелое материальное положение чиновничества[1368], разорившегося дворянства[1369], беднейшего клира[1370]. Логика авторов записок была проста: недовольство отцов передается детям, воспитывающимся в нищете. В этом случае общество едва ли было в состоянии оказать какую-либо помощь, кроме совета экономически поддержать нуждающихся[1371] или, напротив, вывести их из рядов дворянства, отправить в колонисты и т. п[1372]. Исключение составляет проект частной эмиритуры, предложенной Ф. Мите в июне 1880 года как «радикальное средство» против распространения «преступных учений»[1373]. Другой возможный вариант «социологии крамолы» был результатом «охранительной» мысли. Это была критика «развращенной» либеральными идеями «интеллигенции», из которой и выходят террористы[1374]. Параллельно с проповедниками, призывавшими к покаянию и возвращению к вере, некоторые авторы писали о потребности русского общества в нравственном очищении, поскольку «всякому известно, что религия — спокойствие»[1375]. А.А. Киреев в записке «Избавимся ли мы от нигилизма?» описывал состояние общественной нравственности: «…многие из нас, забыв идеалы божественные, поклоняются дьявольским»[1376]. Описывая «нигилизм» как болезнь духа, приверженность преступным теориям, он полагал, что в борьбе с ним главной помощницей общества должна быть церковь: «…нашему обществу следовало бы искать опоры в Церкви; а между тем оно действует как будто наперекор этой простой, очевидной истине»[1377]. После взрыва 19 ноября 1879 года воспитанник Феодосийского учительского института обратился к соученикам с речью, в которой призывал их как педагогов, т. е. «людей, играющих немаловажную роль в обществе», питать сердца юношества религиозно-нравственным влиянием[1378]. «Нравственному совершенствованию общества», укреплению религиозности могли служить, сточки зрения члена Общества христианской помощи генерал-майора Н.И. Чепелевского, чтения с показом картин из русской церковной и гражданской истории[1379]. Если одни корреспонденты сановников предлагали воздействовать на террористов устным словом, то другие настаивали на публикации своих сочинений для воспитания общества. Так, «труженик науки» Нова-ковский, писавший М.Т. Лорис-Меликову, А.П. Николаи, Н.П. Игнатьеву, рекомендовал напечатать свое сочинение «Программа в окне»: «…как вносить Бога в самую глубину души, чтобы Он оставался в ней на всю жизнь человека»[1380]. Критика общественной нравственности могла носить и исключительно светский характер. Как для газетных статей, так и для текстов, не предназначавшихся к публикации, характерны обличения образованного слоя, но не «русского народа». Критика общества шла по двум направлениям, связанным с политическими взглядами обличителей. «Охранители», как правило, писали о «крайней впечатлительности, легкой восприимчивости ко всякой искусно приправленной новизне и общем недостатке стойкости и самостоятельности в суждениях»[1381]. Процитированная записка П.П. Шувалова позволяет сделать вывод, что для правых неприемлемы были в русском обществе те черты, которые, по их мнению, способствовали возникновению и распространению «нигилистических» идей, вылившихся в итоге в террор. Более определенно по этому поводу высказывался А.А. Киреев, критиковавший «высшие классы» за то, что они «принимают под свое покровительство» многое из теорий нигилистов[1382]. После цареубийства 1 марта 1881 года В.П. Мещерский писал о вине «мыслящего и образованного общества»: «Мы увлеклись роковым заблуждением, что чтить свободу значит не чтить своего долга […]. Нас увлекали лукавые образы, лукавые чувства, лукавые нужды, лукавые стремления, и мы сотворили царство лжи и погибели»[1383]. «Нравственная ассенизация общества» должна была начаться с «русской семьи» («строгий взгляд на исполнение семейных обязанностей», преследование незаконного сожительства, недопущение разводов и т. д.), затронуть общественный быт («устранение всякой ненужной роскоши и пагубной расточительности») и привести к отказу от «либеральничания»[1384]. Для людей с либеральными взглядами в центре внимания оказывались «нестроения», свидетельствовавшие об отсутствии у образованных слоев гражданской позиции. В записке, поданной М.Т. Лорис-Меликову весной 1880 года земскими деятелями, русское общество было разделено на три части. Первые — это «более нервные люди», которые под впечатлением общих неурядиц вступают на «такой путь, от которого при спокойном состоянии он [такой человек. — Ю.С.] отвернулся бы». Очевидно, имелись в виду революционеры. Вторые погружаются «в состояние душевной апатии, вследствие которой они становятся равнодушны даже к явным нарушениям общественного порядка». Наконец, третья группа, «заглушив в себе общественные идеалы и гражданские чувства», находит удовлетворение в «деятельном преследовании эгоистических выгод»[1385]. Последние и подвергались критике, причем, в отличие от земских деятелей, прочие критики российских порядков считали, что «эгоистические выгоды» преследует все общество, что служило основным признаком его «разложения». Славянофил А.И. Кошелев с сожалением констатировал «эгоизм, страсть к наживе, надувательство, отсутствие правды и любви к ближнему»[1386]. Гласный Смоленского губернского земства Д.К. Глинка в записке, которую собрание отказалось рассматривать, утверждал, что единственной «реальной силой» современной жизни остались деньги. В погоне за ними честный труд был отвергнут, остались только «ловкость и беззастенчивость». Результатом для «взрослых» стал разлад в семье и обществе, для «детей» — «фанатическое искание выхода»[1387]. Анонимный автор «Краткого очерка мер и средств борьбы с распространением в России противоправительственных и противообщественных учений и теорий» на двух страницах перечислял «болезни» русского общества, провоцирующие развитие «крамолы». Среди них названы лень, слабость воли, подозрительность, «сплетничество», внутренняя вражда, местничество, зависть, жадность, хищничество, паразитизм, протекция, взяточничество, казнокрадство, лицемерие, фарисейство, безверие, изуверство, беспринципность, безнравственность, мотовство, разврат, «буйное самоуправство»[1388]. Вслед за критикой общества у либералов всегда находились оправдания для него, отчасти смягчавшие обличительный запал. Извечный конфликт отцов и детей, о котором постоянно вспоминали при обсуждении революционного террора, мог послужить и моделью для обсуждения взаимоотношений общества и власти. В истории России сильная власть многие века соответствовала потребностям государства и находящегося в «детском» возрасте общества. Великие реформы стали, по мнению многих, временем, когда общество выросло и стало тяготиться своим бесправным положением: взрослый не может жить так же и питаться тем же, что и ребенок. Не имея никаких прав, доросшее до «самодеятельности» общество вынуждено наблюдать за недостатками и ошибками управления, не имея права вмешиваться. «Общество, лишенное всякого значения и трактуемое как общество детей, — это общество недовольно сплошь», — писал аноним И.С.[1389]Аноним, подписавшийся «Средний человек», видел причину в «приниженности и задавленности волею правительства общественного мнения»[1390]. Еще дальше шел К.Д. Кавелин, писавший, что под влиянием государственного произвола русское общество «не выдержало и развратилось до мозга костей, обратилось в смрадное болото, в котором расплодились всякого рода гады»[1391]. В марте 1881 года в газете «Русский курьер» было опубликовано присланное из Калуги письмо Н.П. Колюпанова, предводителя ветлужского дворянства. Перечисляя все те же недостатки русского общества — «апатичного, лишенного инициативы, привыкшего трудиться только под страхом угрозы», он называл в качестве первопричины отсутствие стимула к активной деятельности[1392]. Такого рода суждения были основой проектов, так или иначе предполагавших «увенчание здания», т. е. введение представительных органов правления.3. Террор и «увенчание здания»
Обсуждение возможного участия представителей общества в решении вопросов общегосударственного значения происходило в самых разных кругах. Выдвижение подобных мер в качестве панацеи от революционной «заразы» основывалось, во-первых, на убеждении, что общество «потакает» террористам от «недостатка деятельности». «Все в один голос говорят: призовите нас и дайте нам распорядиться русской землей, тогда никаких покушений не будет; нигилизм исчезнет, когда общество будет призвано к нормальной здоровой деятельности», — писал Г.А. де Воллан[1393]. Во-вторых, авторы проектов указывали, что правительство страдает от неосведомленности или превратного понимания того или иного вопроса. Представители общества сумеют открыть ему глаза, помочь «своим советом и раздумьем»[1394]. Следует подчеркнуть, что такого рода проекты выходили из-под пера не одних только деятелей либерального движения. В разных формах они обсуждались в славянофильских и умеренноконсервативных кругах. Противники таких идей также считали долгом высказать свой протест против требований каких-либо изменений в государственном строе. Конституционные проекты 1870-1880-х годов неоднократно становились предметом пристального внимания историков. Принято разделять «правительственный конституционализм» как элемент политики правительства и общественное движение за конституцию. В первом случае исследуется обсуждение в 1879 году Особым совещанием под председательством вел. кн. Константина Николаевича «конституционных» проектов, а также знаменитая «конституция М.Т. Лорис-Меликова»[1395]. Отдельно рассматриваются проекты Земского собора, созданные в начале царствования Александра III[1396]. Во втором случае исследователи обращаются к проектам введения представительных учреждений, создававшимся в разных кругах российского общества[1397]. Необходимо отметить, что проекты, вырабатывавшиеся в правительственной среде, и те, что обсуждались русским обществом, часто не имели серьезных отличий. Как пишут В.Г. Чернуха, Б.В. Ананьич и Р.Ш. Ганелин, «во многих случаях грань между давлением общественности, т. е. одним лагерем, и инициативой высшей бюрократии, т. е. другим, ей противостоящим, оказывается довольно зыбкой»[1398]. Следует подчеркнуть, что конституционные проекты в строгом смысле этого слова были не столь многочисленны, как другие возможные варианты соучастия общества в управлении государством. Целесообразность введения в России конституции «на западный лад» подвергалась сомнению и авторами в целом либеральных записок[1399]. Вместе с тем представители разных политических течений предлагали всевозможные формы участия общества в обсуждении тех проблем Русского государства, которые, по их мнению, спровоцировали террор. Умеренные проекты предполагали расширение прав уже существующих учреждений: дворянских собраний[1400], земств[1401], сената[1402], Государственного совета[1403]. После создания Верховной распорядительной комиссии ее Главный Начальник стал получать советы ввести в ее состав «из всякой губернии представителей от общества»[1404], «волонтеров, посвятивших всю жизнь и деятельность свои на благо отечества»[1405] и т. д. Как альтернативу «европейским» нововведениям в славянофильских и отчасти «охранительных» кругах обсуждали очень разные проекты, объединенные идеей Земского собора — учреждения, соответствующего «характеру и привычкам нашего народа»[1406]. В различных записках эта идея высказывалась то как абстрактный совет «обратиться к чернозему»[1407], то в виде проектов созыва Земского собора[1408]. Как писал П.Д. Голохвастов, «лучше бы, конечно, призвать Землю вовремя, […] покончить прежде всего с этой бедой, со смутой и со смутьянами. Миром да собором и черта поборем»[1409]. При этом аргументы за Земский собор зачастую не отличались от аргументов конституционалистов. Обсуждение вопроса о введении в России именно «европейской» конституции происходило на протяжении всего царствования Александра И. Катализатором очередного витка стала Русско-турецкая война, на протяжении и после которой общество находилось в состоянии ожидания/опасения конституционной реформы. В течение второй половины 70-х — начала 80-х годов XIX века разговоры о конституции то затихали, то возобновлялись с новой силой[1410]. Деятельность «Народной воли» способствовала возбуждению этого вопроса на новом уровне. С одной стороны, в своих обращениях народовольцы указывали, что прекратят террор, если в стране установится представительная власть. С другой стороны, именно в ответ на покушения состоялось назначение М.Т. Лорис-Меликова, на фигуре которого сосредоточились ожидания либеральной части русского общества. Вскоре после назначения Главного Начальника, 15 марта 1880 года, А.А. Бобринский записал ходившие в обществе «разговоры» о том, что будто бы Лорис-Меликов говорил мадам Дурново: «…если моя власть продолжится, то не пройдет трех месяцев, как в России заговорят о конституции[1411]». Г.А. де Воллан в заметках в это же время писал: «…я уповаю на Лорис-Меликова. Он, говорят, предлагал конституционные учреждения как самое действенное средство»[1412]. «Охота на царя» давала сторонникам конституционной реформы новые аргументы в свою пользу. Кратко смысл подобных заключений был изложен в анонимной записке противника конституционных мер: «…большинство наших публицистов если не выражают прямо, то внушают мысль, что социализм оттого делает у нас такие быстрые и грандиозные успехи, что мы не имеем конституционной формы правления»[1413]. По мысли сторонников введения представительства, реформа должна была служить сразу нескольким целям. Во-первых, общество получало возможность «принять участие в борьбе с врагами русского народа» (адрес Новгородского губернского земства)[1414], поскольку было бы призвано «для борьбы с цареубийцами» и решения задачи отмщения «за позор и посрамление 1 марта» (записка А.А. Бобринского)[1415].8 марта 1881 года гласный Самарского губернского земства Нудатов в речи, встреченной «громом рукоплесканий», заявил: «Смута, вот уже два года терзающая русскую землю, может быть устранена только общими усилиями всех свободно выбранных представителей народа»[1416]. Во-вторых, конституционная реформа должна была способствовать «оздоровлению» общества: представительные учреждения «создадут почву и поприще для общественной деятельности. Общество непременно отрезвится, если познакомится с подробностями дела»[1417]. Антиконституционные заявления порой делались в весьма эмоциональной форме: «…да будет проклят всяк,мечтающий конституционной уступкой увековечить крамолу и вместе с тем уничтожить могущество России»[1418]. Аргументы против конституции выдвигались разные. Во-первых, конституция не предохранила от покушений правителей Германии, Италии и Испании, следовательно, она не станет панацеей и в России[1419]. Во-вторых, террористы требуют конституции, конечно, не без корысти для себя. Как писал статский советник Т.Т. Кириллов, добившись конституции, революционеры «заберут в свои руки народную школу» и примутся воспитывать молодежь в духе «революционного культа»[1420]. Соответственно, этот новый аргумент в пользу конституции совершенно несостоятелен. Выступали они и против расширения прав органов местного самоуправления, считая их бесполезными: «…эти люди не только не в силах решать вопросы общегосударственной политики, но не в силах даже у себя под носом дыры на мостах забить, чтобы не ломать на них своих же собственных шей»[1421]. С другой стороны, некоторые авторы выступали против «европейской» конституции, однако в целом одобряли иные формы участия общества в управлении государством. Конституция виделась несвоевременной[1422] или несвойственной «духу» русского народа[1423]. Покушения террористов на главу государства и цареубийство 1 марта 1881 года не только активизировали обсуждение введения представительства (в любой возможной форме), но и проблемати-зировали его. Требование «Народной воли» созвать представителей как условие прекращения террора поставило очень серьезную проблему: следует ли идти на уступки террористам. Мнения резко разделились. С одной стороны, как заклинание звучало: «…преобразований [либеральных. — Ю.С.] и улучшений делать невозможно, ибо всякое подобное действие правительства сочтено будет не только социалистами, но и всем народом за вынужденное»[1424], «входить в компромисс с революционным террором значит не только признать его победу над государственной властью, но и дать полную уверенность в будущие победы»[1425]. С другой стороны, сторонники реформ убеждали: реформы не станут «уступками» и «послаблениями» «злодеям»: .. мы не виновны в том, что злодеи прикрывают свои деяния чистым плащом прогрессивного, исторического развития страны. […] По течению реки плывет гниющее тело, рассеивая ядовитое зловоние. Примите меры: уничтожьте зловонное тело, но из-за того, что плывет оно по течению, не останавливайте течения, не запруживайте всей реки[1426]. Проекты борьбы с терроризмом гораздо больше говорят о понимании их авторами общества, его роли во внутренней политике и способности отдельного человека влиять на политическую ситуацию, чем о восприятии террора. Избранное для анализа разделение всех проектов на три основных типа не должно вводить в заблуждение. Оно было использовано как инструмент, позволяющий наиболее четко обозначить все возможные варианты мер против террористов. В действительности мало кто из корреспондентов высочайших особ считал себя вправе беспокоить адресата лишь одной конкретной идеей. Для борьбы с покушениями выдвигались комплексные меры, направленные на разрешение многих проблем. Тем не менее деление предложений на две категории («прижигать язву» или «дезинфицировать зараженный район»), которое демонстрировала печать, в целом сохранялось, но оно не было столь четко обусловлено политическими взглядами. Предлагавший вменить домовладельцам в обязанность производить обыски у квартирантов статс-секретарь Государственного совета Н.М. Ремблинский вполне «либерально» обосновывал свою мысль тем, что подобная мера «оживит и успокоит» столичное население[1427]. В то же время идеи морального воздействия на общество как на «почву» для произрастания «крамольного семени», а также идеи бороться «миром да собором» выдвигались последовательными приверженцами «охранительных» мер. В целом предложения авторов записок отличаются, с одной стороны, большим многообразием, и, с другой, менее явной привязанностью к политическим убеждениям, чем та, какую демонстрировала в информационном поле периодическая печать. На протяжении 1879–1881 годов русское общество довольно часто обвинялось в бездействии. Обвинение это во многом несправедливо. Создание проектов по борьбе с террором уже было политическим действием, причем действием, инициированным и одобренным властью, в отличие от политических заявлений земств и дворянских собраний в верноподданнических адресах. Проблема заключалась в том, что эта коммуникация общества и власти, за редким исключением, когда записки публиковались в газетах или за границей, велась вне публичного политического пространства. Русское общество знало о многочисленных адресах с выражениями верноподданнических чувств, но знало также и цену этим заявлениям. Письма во власть были скрыты от глаз. Сами их авторы, кроме случаев организованного давления на власть, таких как заявление двадцати пяти московских земцев, вряд ли подозревали, что они не одиноки в своих убеждениях. Потенциал действия русского общества был гораздо больше, чем просто советы власти. Предложения включить представителей общества в непосредственную борьбу с террористами и надзор за населением показывают, на каком поприще готовы были реализовывать себя некоторые верноподданные. Впрочем, если смотреть внимательнее, выяснится, что примерно половина из авторов проектов прямо заявляла или хотя бы намекала на возможность личного участия в предлагаемых комитетах и обществах. В остальных случаях, особенно когда предлагалось обязать домовладельцев надзирать за проживающими под страхом наказания, создателей проектов, таких как генерал-майор М.И. Батьянов, выдвигаемые ими меры не затрагивали. Гораздо больше энтузиазма вызывало возможное участие в решении политических вопросов, независимо от того, в какой форме это участие могло реализовываться. Проекты введения представительства, направленные во власть, имели те же особенности, что аналогичные осторожные предложения, появлявшиеся на страницах печати. Обоснованием необходимости соучастия общества в управлении государством служили метафоры «болезни» и «почвы», определявшие отношения между «крамолой» и состоянием общества. Казалось достаточным «излечить» общество, чтобы террор исчез сам собой; и «раз нужды по возможности будут удовлетворены, социалисты мало-помалу сами уничтожаться, увидя, что сам довольный народ их будет преследовать»[1428]. Если участники журналистской полемики на страницах газет и журналов обращали внимание на эту сторону предложений решения проблемы терроризма, то в записках даже противники конституционных мер писали об их вреде для государства, и редко — об их бесполезности в деле подавления «крамолы». Терроризм не воспринимался как самостоятельная проблема. Более того, зачастую он служил лишь внешним поводом для создания проектов по изменению государственного строя. Покушения на императора позволяли не только писать высочайшим лицам о представительстве, но и надеяться, что такие предложения будут наконец прочитаны и приведут к желаемым изменениям. У всех проектов борьбы общества с террором была еще одна общая особенность: их реализация целиком зависела от решения правительства. Отчасти это можно объяснить стремлением авторов проектов действовать в рамках законности, получив одобрение и поддержку сверху. Объединения граждан в комитеты и общества в стране, где такого рода деятельность не поощрялась, нуждались даже не в разрешении, а в прямом приказе. Во всех остальных случаях, возложив на власть ответственность за реализацию того или иного способа борьбы с террором, авторы проектов таким образом снимали ответственность с общества. Оно ничего не предпринимает, поскольку никто из его членов «не знает, что от него требуется и что вправе он предпринять»[1429]. Логику дальнейших рассуждений легко проследить: общество откликается на призыв правительства о помощи, но до тех пор, пока у него не будет возможности действовать на законных основаниях, бессмысленно упрекать его в бездействии.ГЛАВА VI РУССКОЕ ОБЩЕСТВО В ЗЕРКАЛЕ ТЕРРОРА
1879–1881 годы были временем широкого распространения убежденности в том, что в Российской империи существует общество как особый слой людей, имеющих свои интересы, способных действовать сообща и тем самым оказывать влияние на текущий политический процесс. Это убеждение служило основанием для всех действий, направленных на то, чтобы на общество повлиять: как со стороны «Народной воли», так и со стороны власти. Тем не менее любая попытка обнаружить русское общество как реально существовавший «организм» или единый агент действия оказывается обреченной на провал. Сама власть, взывавшая к помощи общества, кажется, не слишком ясно представляла себе, чего именно она добивается. Обращения императоров Александра II и Александра III к подданным, выдержанные в рамках провиденциального истолкования покушений как неисповедимой воли Господа, предполагали в ответ не столько политическое действие, сколько сплочение вокруг престола в молитве. Русская православная церковь настаивала на покаянии и нравственном очищении паствы. Исходя из логики обращений и проповедей, подданные должны были заняться нравственным самосовершенствованием и тем самым уничтожить революционный террор. В рамках этой логики предложения представителей общества по борьбе с покушениями при помощи публикации разнообразных сочинений морализаторского характера или показа «туманных картин» на религиозные темы теряют неизбежный оттенок абсурдности, но лишь отчасти. После 1 марта 1881 года статский советник Александр Никулин решил помочь обществу покаяться, для чего написал сочинение «Мысли о покаянии и Св. Причащении по случаю мученической смерти Государя Александра Николаевича», в котором перечислял все возможные прегрешения, так или иначе способные привести к цареубийству. Санкт-Петербургский комитет духовной цензуры не разрешил печатать рукопись, опираясь как на канонические установления о покаянии, так и на здравый смысл: «…как ни много предложено автором вопросов, они не могут объять всю сферу человеческой деятельности»[1430]. Обращаясь к обществу за помощью, власть, вероятно, рассчитывала не только на покаяние и молитвы[1431], но единственным видимым ответом на эти призывы стали верноподданнические адреса. Последние действительно позволяют обнаружить едва ли не все общество Российской империи и даже какую-то часть ее «народа». Как представитель дворянства, купечества, губернского или уездного земства, органов городского самоуправления, чиновничества, преподавательского состава и т. д. почти каждый член общества принимал участие в составлении и подписании адреса, а то и нескольких. Перечисляя в «Правительственном вестнике» все выражения верноподданнических чувств и пытаясь тем самым создать иллюзию неизменно преданного правительству общественного мнения, власть, по меткому выражению В.М. Жемчужникова, заботилась о «казании». Ритуальность этого вида коммуникации правительства и общества приводила к тому, что самые массовые из всех обращений во власть ни она сама, ни, позднее, исследователи не брали в расчет. Внимания и тех и других заслуживали лишь те адреса, в которых, нарушая законный порядок, представители общества пытались выдвигать политические требования. Об этих попытках чуть ниже. Здесь же стоит подчеркнуть тот факт, что, кроме верноподданнических адресов, у русского общества не было законных способов коммуницировать с властью по политическим вопросам от лица сколь-нибудь значительного количества людей. Политика государства, во время великих реформ дозволившего наконец не только собрания, основанные на сословном принципе, но и земства и городские думы как всесословные органы местного самоуправления, была направлена на установление жестких территориальных границ между ними и не менее жестких политических рамок, определявших сферу их компетенции. По сути, обращаясь ко всему обществу, власть разговаривала с фантомом, которому она сама всячески препятствовала обрести плоть. Ответить ей, выражая действительно какое-то мнение, а не жонглируя набором известных фраз, мог лишь отдельный представитель общества, взявший на себя смелость говорить от лица всех остальных и тем самым неизбежно узурпировавший их права. Попытки представителей общества, чаще всего объединенных земскими или дворянскими организациями, оказать адресное давление на правительство не раз становились предметом пристального внимания исследователей. По подсчетам Ф.А. Петрова, с августа 1878-го по июнь 1882 года губернскими уездными земскими собраниями были поданы 51 адрес и 101 ходатайство, содержавшие политические требования либерального характера[1432]. Эти и другие послания позволяют историкам говорить о «земско-либеральном движении»[1433]или о либеральном движении в целом[1434]. Рассмотренные сквозь увеличительное стекло на фоне кажущегося безмолвия остальных, они создают впечатление масштабной либеральной оппозиции, подкрепляемое многочисленными свидетельствами современников. Посмотрим на коллективные политические заявления пристальнее, приняв в расчет не только конечный результат, но и самый процесс обсуждения. В январе 1880 года начальник Владимирского губернского жандармского управления сообщил министру внутренних дел о скандальной сессии губернского земства, в журнал заседания которого попали слова о том, что «общество получит свою силу в борьбе с крамолой только тогда, когда каждый русский будет свободно мыслящим и обладающим правами, давшими возможность содействовать правительству»[1435]. В отношении министру внутренних дел были указаны не только зачинщики обсуждения расширения политических прав земства, их связь с московской либеральной профессурой и московским земством в лице С.А. Муромцева, но и те, кто говорил о «неуместном поднятии неподходящих прений»[1436]. В заключение начальник жандармского управления утверждал, что земцы убедили губернатора И.М. Судиенко напечатать журнал заседания со всеми прениями, «сытными обедами и приличными угощениями», после чего известия о сессии попали в столичные газеты[1437]. Противоречия существовали даже внутри земств, фрондировавших более прочих, так как не все их члены были приверженцами либеральной программы. В опубликованную в 1883 году в Берлине брошюру «Мнения земских собраний о современном положении России», составленную из наиболее радикальных высказываний земских деятелей на сессиях 1881 года, попали слова Н.В. Щербанова: «…неуместно адресное давление, когда Правительство занято ориентированием в борьбе с подпольною крамолой, когда Глава его удручен сыновнею скорбью»[1438]. Еще больше о политической жизни, но уже не земцев, а судебных деятелей позволяет узнать дело «О неблаговидных действиях председателя Елизаветградского Окружного Суда Анастасьева». 2 марта, получив известия о произошедшем накануне цареубийстве, председатель суда Анастасьев после панихиды предложил членам окружного суда высказаться, «кто каких убеждений держится». По мнению одного из свидетелей, кстати крестника Александра И, председатель хотел выяснить, «кто стоит за конституцию и кто держится старого образа правления». Остальные свидетели показывали разное: что председатель хотел подать «мотивированный» адрес, написать, что «не всем довольны и чего-то желают», и даже что предложенный адрес «тенденциозного характера не имел»[1439]. Сопоставляя довольно противоречивые показания всех участников, можно обозначить следующий расклад сил: Анастасьева прямо поддержали два человека, еще один держался «уклончиво»: он принял участие в редактировании адреса, а затем отказался его подписать. Против них активно действовали два человека, пытавшиеся послать императору телеграмму с соболезнованиями, и еще четыре человека старались не вмешиваться в эту историю. Крестник Александра II член суда Альбрехт утверждал, что один из двух защитников председателя, член суда Денискевич, цинично заявил: «То правительство будет и лучшее, которое будет лучше платить. Если новое вместо двух тысяч будет давать четыре, то будет и лучше»[1440]. Товарищ прокурора Меллер истолковал эти слова как колкость, направленную на Альбрехта, в продолжение какого-то личного конфликта[1441]. Не получив поддержки суда, Анастасьев объявил, что все произошедшее 2 марта было не общим собранием суда (хотя изначально он вызвал несколько отсутствовавших членов суда как раз для этого), но «один чисто товарищеский разговор»[1442]. На этом председатель суда, однако, не остановился, а решил искать поддержки у съезда мировых судей[1443], к председателю которого он обратился 3 марта с предложением отправить адрес «тенденциозного характера», в котором «должны быть указаны такие пути, благодаря которым каждый мог бы свободно и бестрепетно высказывать свои мысли и желания»[1444]. Съезд предложение председателя окружного суда не поддержал. Очевидно, Анастасьев заранее готовил себе пути отступления, так как «забыл» письменный вариант своего адреса дома, поэтому никто из мировых судей текста не видел. История получила огласку, Анастасьева вынудили уйти в отставку. Елизаветградские прения прекрасно показывают общий расклад сил в русском обществе: в них участвовали как люди, пожелавшие воспользоваться ситуацией цареубийства и добиться уступок от правительства, так и другие, прямо заявлявшие о своих монархических симпатиях («Член Суда Альбрехт объяснил мне [старшему председателю Одесской судебной палаты. — Ю.С.], что помимо уважения к памяти покойного Государя в качестве верноподданного он уважал его как человека и питает к нему и поныне личные чувства глубокой благодарности»[1445]). Наконец, в этой истории есть не определившееся большинство, не желавшее быть каким бы то ни было образом задетым, а потому пытающееся выгородить Анастасьева, чтобы не выглядеть в глазах закона недоносителями. Обращает на себя внимание мнение члена суда Доберта: «…если надо было выражать неудовольствие, то тогда, когда были недовольны, а не теперь, когда уже было “нехорошо”»[1446]. Надо полагать, что причины для «недовольства», сего точки зрения, все-таки были. Эта и подобные ей истории конфликтов в разнообразных собраниях, желавших говорить с правительством, показывают, насколько велика была рознь по поводу политических вопросов даже в тех территориальных и политических границах «местного общества», которые ставил перед ними закон. Либеральные земцы большинством голосов смогли провести несколько адресов с политическими требованиями. Московские земцы в количестве 25 человек подписали обращение к М.Т. Лорис-Меликову. Других, более масштабных коллективных заявлений по поводу проблемы террора в эти годы не было. Внимательный анализ индивидуальных записок, отправленных представителям власти, позволяет найти среди их авторов однокашников по Училищу правоведения или Школе гвардейских прапорщиков, сослуживцев по полку, коллег по университетской кафедре, соседей по имениям, однако ни в одной из них нет упоминаний, что автор действует не только от своего имени, но по поручению других. Очевидно, что не может не быть связи между двумя записками земских деятелей Сызранского уезда Симбирской губернии Д.И. Воейкова (корреспондента «Руси» и «Московских ведомостей», сотрудника Н.П. Игнатьева, автора брошюры «Земство и призыв правительства к объединению», в которой он выступал против жестких мер как против «Иродова избиения младенцев»[1447]) и Ф.М. Дмитриева (бывшего профессора Московского университета, коллеги А.Д. Градовского, близкого по взглядам к тогда уже покойному Ю.Ф. Самарину). Из этого же уезда прислал записку Петр Викторов, тосковавший по «суровой школе» Н.Н. Муравьева и советовавший Н.П. Игнатьеву привезти с Афона Святой Миротворящий Крест Господень для победы над террором[1448]. Связь его послания и двух предыдущих едва ли удастся установить. От разнообразных собраний представителей общества, действовавших в дозволенных законом рамках, спустимся на ступеньку ниже, в сферу частных разговоров в клубах и салонах. Стоит сразу уточнить, что и здесь свобода собраний была относительной. Когда летом 1879 года пять землевладельцев Смоленского уезда стали регулярно собираться для обсуждения сельскохозяйственных вопросов и вести протоколы заседаний, не получив предварительно разрешения «на открытие отдельного общества или съездов для обсуждения предметов по сельскому хозяйству в установленном порядке», смоленский губернатор потребовал от прокурора начать производство дознания о создании противозаконного сообщества. Хотя прокурор не нашел в этих собраниях преступной цели, губернатор в административном порядке обязал членов кружка «не производить съездов»[1449]. Конечно, этот случай носит исключительный характер: по нему не стоит судить о полном контроле власти над частной жизнью. С другой стороны, он служит симптомом того, что сфера приватного не была гарантирована от вмешательства государства, готового «в административном порядке» регламентировать темы разговоров и обстоятельства их ведения в частных домах. В столицах и крупных городах империи, где общество было значительным в численном отношении явлением, разговоры о политике во множестве разных мест объединяли единомышленников в одном физическом пространстве[1450]. Чем дальше от центра, тем малочисленное становилось общество, тем меньше было мест для обмена мнениями о политической ситуации. В марте 1881 года могилевский губернатор писал о скандале в обществе этого губернского и далеко не самого маленького города. В члены местного клуба, «единственного общественного учреждения города», «центра общественной жизни», решил баллотироваться только что вернувшийся из ссылки за распространение революционных изданий дворянин Езерский. Он и его единомышленники, «учителя гимназии и семинарии, адвокаты, члены [клуба. — Ю.С.] польского и еврейского происхождения» смогли выиграть два голосования у «занимающих наивысшее положение» лиц, тем более что, по свидетельству губернатора, большинство общества находилось «под удручающим впечатлением» от цареубийства и распространяло «свое негодование» «не только на непосредственных участников злодеяния, но на всех лиц, усилия коих тем или другим путем направлены к противодействию установленному правительственному порядку». Проигравшие решили выйти из клуба, так как «не считают соответственным быть в обществе Езерского»[1451]. В могилевском конфликте ярко высвечена совершенно иная ипостась русского общества как собрания относительно небольшого кружка людей, для которых быть в обществе и быть обществом означает одно и то же. В губернском Могилеве, где люди с противоположными политическими взглядами и, видимо, неравным социальным положением не смогли разойтись физически в тесном пространстве местного общества, накал страстей, подогретых недавно произошедшим цареубийством, достиг такого уровня, что губернатор вынужден был доносить о нем министру внутренних дел. В совсем уже глухой провинции, как в рязанском Скопине, меланхолично описанном в воспоминаниях народовольцем С.Я. Елпа-тьевским, «“общества” в собственном смысле слова не было, не было даже места, где могли б собираться городские люди — клуба, общественного собрания, — и трактир Ульяна Ивановича был местом, где изредка по зимам устраивались вечера с танцами»[1452]. Если верить этому пристрастному бытописателю, когда в город приходили известия об очередном террористическом акте, «нехотя, ругаясь, разыскивали чиновники треуголки и шпаги, облекались в парадные мундиры, шли в собор на обязательное благодарственное молебствие и расходились оттуда, рассуждая, ловко или неловко произведено покушение»[1453]. Обширная география записок о борьбе с терроризмом (от Дерпта до Томска, от Вятки до Пятигорска и т. д.) вызывает известного рода сомнения по поводу общего равнодушия[1454] провинциалов к покушениям, хотя и в этом случае речь идет о мыслях и поступках отдельного человека. У представителя общества, действующего по своей инициативе, кроме составления записок имелся и другой способ откликнуться на призыв правительства о помощи. На него указал автор анонимного письма М.Т. Лорис-Меликову, подписавшийся «Петр Патриотов»: «Честные благомыслящие люди предполагают, что помощь с их стороны может быть двоякая — первое советом, а второе — указанием на лиц политически неблагонадежных»[1455]. 1879–1881 годы были не только временем общей паники, но и временем массовых доносов на заподозренных в «крамоле». В этом вопросе, как ни в каком другом, ясно видна сущность русского общества, слабо уловимая любыми формальными критериями: представители общества, как правило, доносов не писали. В обширной коллекции, собранной за три года московским генерал-губернатором[1456], на несколько сотен доносов, написанных крестьянами, купцами, священниками, отставными солдатами, приказчиками, горничными и половыми, приходится одно письмо, автор которого подписался как «Серпуховской земец». В нем высказываются опасения перед возможным крестьянским бунтом вследствие распространения в уезде слухов о причастности дворян к цареубийству[1457]. Очевидно, оно попало в это собрание только из-за анонимности. Представители общества могли обобщенно писать о «безурядицах» в правительстве, в той или иной губернии, в Государственном банке, но на 215 проанализированных записок о борьбе с террором, кроме послания «Петра Патриотова», приходится два откровенных доноса: на директора Коммерческого училища и на тверского благочинного[1458]. В связи с этим нельзя не вспомнить широко известную запись А.С. Суворина о разговоре с Ф.М. Достоевским после взрыва в Зимнем дворце о том, что ни один из них, даже зная о готовящемся преступлении, не пошел бы в полицию предупредить из-за «боязни прослыть доносчиком». «Я представлял себе, как я приду, как на меня посмотрят, как меня станут допрашивать […], напечатают: Достоевский указал на преступников […]. Мне бы либералы не простили. Они измучили бы меня, довели бы до отчаяния» — так, по свидетельству А.С. Суворина, объяснял свои мотивы Ф.М. Достоевский[1459]. Хотя известный писатель говорил о давлении общественного мнения, на самом деле писание доносов противоречило представлению о чести человека из общества. В этом вопросе, как и при решении вопроса о допустимости политического убийства, действия — вернее, бездействие общества определялось не политическими, а этическими соображениями. По сути, этот второй путь помощи правительству был для людей, полагавших себя принадлежащими к обществу, закрыт. Наконец, у представителя общества была еще одна возможность высказать свое мнение о покушениях, причем она позволяла воздействовать не только на власть, но и на общество. Речь идет о заявлениях в периодической печати и публикации брошюр за границей. Если исключить из этого круга постоянных сотрудников и редакторов журналов и газет, писателей и привычных к перу общественных деятелей, придется констатировать, что к этому способу заявить о своей позиции прибегало совсем небольшое число лиц. Публикация писем читателей вообще была распространенным явлением, однако все они имели отношение к каким-то местным происшествиям и помещались в рубриках «Нам пишут из…» и т. п. Заметки, касавшиеся общеполитических вопросов, как правило, принадлежали постоянным сотрудникам газет или заметным общественным фигурам, например, университетским профессорам или известным юристам. Публикация писем «простых» читателей зависела от политики редакции: она не была характерным явлением для «Голоса» или «Московских ведомостей», в то время как «Петербургский листок» имел даже специальную рубрику «Письма читателей». Исключением в этом отношении, как и во всем остальном, стал март 1881 года, но мнения читателей, опубликованные тогда на страницах газет, служили лишь для подкрепления позиции самих редакций. Они содержали ту же критику полиции, те же предложения мер борьбы с террором, те же «скорбь и негодование» по поводу покушений[1460]. В портфелях редакций скапливались и послания, которые невозможно было опубликовать по цензурным соображениям, но в которых, как и в записках во власть, содержались критические замечания в адрес правительства («Расскажите, чем Лорис-Меликов занимался в то время, когда делали подкоп на Садовой и снаряжали бомбы для 1 марта: успокаивал Государя, льстил Юрьевской, любезничал со всеми?»[1461]) и мнения о возможной конституции. Порой желание высказать свое мнение и тем самым помочь решить проблему террора побуждало обращаться с одними и теми же словами и к обществу, и к власти. Ветлужский предводитель дворянства Н.П. Колюпанов писал как М.Т. Лорис-Меликову, так и в газету «Русский курьер»[1462]. Существовала, однако, большая категория представителей общества, для которых этот способ был неприемлем в первую очередь из-за критического отношения к самой печати, в коей многие видели чуть ли не главную причину появления «крамолы»[1463]. Бытовало также недоверие к объективности газет («Трудно стоять за правду тому, кто, по своему положению, должен гоняться за популярностью») и к осмысленности публичных дискуссий. Анонимный автор «Записки о мерах борьбы с революционным движением» полагал, что открытая публикация его сочинения об интеллигентном классе как о почве, где зарождаются революционные идеи, стала бы поводом к «страстной и вредной полемике». Кроме того, он опасался и за свою личную репутацию, не желая прослыть «благонамеренным мечтателем» или «самонадеянным и назойливым прожектером»[1464]. Опасение анонимного автора может быть распространено на других представителей общества, молчавших в салонах и клубах, но все же достаточно остро переживавших проблему террора, чтобы обращаться с письмами во власть. В публичном политическом пространстве, где либерализм был моден и даже отчасти одобрен «новыми веяниями» М.Т. Лорис-Меликова, открыто говорить об ограничении доступа в университеты для неимущих было по меньшей мере некомфортно. Заявить же такое требование со страниц газет почти наверняка означало подвергнуться публичной травле. Спускаясь вниз по ступеням объединений представителей общества от одной сколько-нибудь многочисленной группы к другой и не находя ни в одной из них согласия, организованного политического действия, не вызывавшего бы протеста внутри самих этих групп, рассказ об обществе дошел до предела — до отдельного человека, действующего от своего имени. На этой последней ступеньке может показаться, что у этой книги нет героя. Русское общество внезапно кажется иллюзией, грандиозным обманом и самообманом. Оно не приходит на помощь правительству, когда то взывает к нему, но и слухи о грандиозных пожертвованиях в кассу «Народной воли»[1465], укрывательстве террористов[1466], сотрудничестве с ними[1467] при ближайшем рассмотрении оказываются преувеличением. Достоверные случаи прямого пособничества или просто переговоров представителей общества с террористами за пределами ограниченного кружка фрондирующих литераторов и земских деятелей крайне немногочисленны. Ощущение беспомощности и бессмысленности существования выражено в горьких словах Н.П. Колюпанова: «…как жило до сих пор русское общество? Мы думали, говорили, писали, сочувствовали, бранили, просили, желали, надеялись […], но никогда ничего не делали»[1468]. В этой жалобе есть слово, которое способно победить скепсис по поводу существования русского общества за пределами локальных публичных собраний и face-to-face коммуникации, так удачно объединенных Л. Хефнером аналитической категорией «местное общество». Это слово «мы», позволяющее вернуться по тем же ступеням вверх. Человек, высказывающий свои мысли высшей администрации, чувствовал себя не только служащим, дворянином, родителем, но и членом общества, говорящим с властью от имени многих. Все попытки коллективного давления на власть предпринимались от имени общества и ради общего блага. Русское общество говорило на одном языке, размышляло над одними и теми же проблемами, предлагало схожие способы их решения, обладало общими ценностными ориентациями. Именно ощущение «мы», постоянно присутствующее в разговорах, мыслях, поступках, а не какие бы то ни было формальные признаки и даже не принадлежность к одной «культурной сети» позволяют говорить об обществе как о герое этой книги. По влиянию, какое оно оказало на русское общество, время народовольческого террора сопоставимо только с двумя событиями царствования Александра И: подготовкой отмены крепостного права и кануном Русско-турецкой войны. Короткий срок пребывания у власти М.Т. Лорис-Меликова на фоне нараставшей революционной борьбы во многих мемуарах[1469], а затем и в историографии оценивался и оценивается как время «общественного подъема»[1470]. Определение «подъем» всегда обладает положительным смыслом: в конце 1850-х, как и в середине 1870-х, русское общество обрело немало поводов для гордости, опыт совместного действия, опыт давления на правительство, но в то же время и опыт сотрудничества с ним. В целом именно эти два события сформировали представления об обществе как о единой силе, способной играть роль на политической арене. Сами вопросы, вокруг которых происходил этот подъем, до реализации конкретных положений крестьянской реформы и до начала военных действий оценивались в основном в позитивном ключе. В конце 1870-х эти годы нередко с ностальгией вспоминали как время радости и надежды. Общественные настроения 1879–1881 годов резко контрастируют с такими ощущениями: покушения на императора и ответные казни положительных эмоций вызывать не могли. Наряду с описаниями общественного подъема в воспоминаниях встречаются рассказы о начале 1880-х как о времени уныния, пассивности и равнодушия[1471]. Мемуаристы, пытавшиеся в воспоминаниях передать «дух эпохи», единодушно рисовали картину «смутного времени»[1472]: «…никто не был уверен в завтрашнем дне» (А.А. Плансон)[1473], «…души людей уже угнетал тупой груз надвигающихся событий» (Л. Андреас-Саломе)[1474], «…настроение общества в Петербурге и провинции было смутно и неопределенно» (Н.Ф. Бунаков)[1475]. Список подобных высказываний можно было бы продолжить. Важно лишь подчеркнуть: такое ощущение времени было свойственно людям разных социальных положений и политических взглядов. В 1879–1881 годах существовало одно слово, употреблявшееся по любому поводу людьми с разными взглядами, общественным положением, жизненным опытом: «недовольство». Это состояние оценивалось как «повсеместное» и «общее»: «…общество недовольно сплошь», «…безусловно, все граждане русской империи теперь недовольны»[1476]. В марте 1881 года Б.Н. Чичерин в записке «Задачи нового царствования» утверждал: «Повсюду неудовольствие, повсюду недоумение. Правительство не доверяет обществу, общество не доверяет правительству. Нигде нет ни ясной мысли, ни руководящей воли. Россия представляет какой-то хаос»[1477]. Описывая «повсюдное недовольство», наблюдатели нередко говорили о нем как о «погоне за современной модой»[1478]. Наиболее развернуто эта мысль представлена в брошюре Г.А. де Воллана: Войдите в какой-нибудь салон и послушайте, о чем там говорят, о чем вздыхают, чего желают русские люди. […] Все недовольны, все негодуют […]. Что больше нужно? — подумает какой-нибудь наивный юноша, слушая эти салонные толки, — общество не сочувствует правительству — я сейчас пойду и вступлю в ряды наших революционеров. Этот наивный юноша и не поймет никогда той двойственности, которую вмещает в себя русский человек. Он слишком честен, слишком благороден, чтобы понять, как можно толковать о русском мужике и вместе с тем загребать куши, бранить правительство и стараться сорвать всякие extra, в виде подъемных, столовых и т. д.[1479] Эти наблюдения созвучны тем, что зафиксировала в дневнике Е.А. Штакеншнейдер 7 ноября 1880 года. Рисуя свое столкновение с директором лицея Гартманом по поводу дела Гольденберга, она писала, что ее собеседник «говорил тем тоном упрека кому-то, каким принято теперь говорить и каким люди, как Гартман, самостоятельно обыкновенно не говорят, а употребляют этот тон лишь тогда, когда он принят всеми»[1480]. Этим эпизодом Е.А. Штакеншнейдер характеризовала «приводящий в ужас дух», «царящий в обществе»: ее гости «вовсе не отчаянные какие-нибудь, не отпетые», «а говорят — сами не слышат что. И не могут не говорить так, потому что так говорят все, И вот именно то, что все так говорят, и есть самое ужасное настоящего времени»[1481]. Ощущение «недовольства» текущим положением дел не знало социальных границ и политических пристрастий. Именно оно заставляло воспринимать террор как результат острого неблагополучия, неправильности существующей системы, а потому, если свести все предложения по борьбе с ним к сухому остатку, окажется, что это всегда были требования перемен. Если предыдущие годы общественного подъема были временем постижения силы общественного мнения, то народовольческий террор заставил представителей общества увидеть границы как своих возможностей в постижении происходящего, так и способности воздействовать на него. К ощущению «недовольства» примешивалась немалая доля страха: страха перед динамитом «Народной воли», страха за привычный миропорядок, за будущее, которое внезапно оказалось неопределенным, за детей, могущих стать «крамольниками» или быть отчисленными из гимназии с «волчьим билетом». Накануне 19 февраля 1880 года в «Новом времени» подряд вышли две статьи «Нечто о малодушии и прочем» и «О трусости», в которых жестоко клеймились «гражданские наши добродетели» («Мы прячемся и дрожим, мы бережем свою шкуру против какой-то будущей, может быть, воображаемой опасности […]. Мы говорим: пусть власть соединится с нами, пусть она в нас ищет опоры и совета, а сами боимся защищать самих себя»[1482]). Общество, привыкшее видеть в себе силу, узнало, что оно «трусливо и малодушно», способно верить самым нелепым слухам и поддаваться панике. Русское общество никогда и нигде, за исключением разве что правительственных обращений, не казалось единым: его всегда дробили политические пристрастия. Борьба либералов и «охранителей», подогреваемая публичной полемикой периодической печати, многие годы определяла общественную жизнь в Российской империи. Разумеется, поиски причин революционного террора не могли не привести к очередному витку взаимных обвинений на страницах газет и журналов. В частных высказываниях и записках во власть представители общества были куда сдержаннее. Либерализм в это время в глазах многих авторов записок двоился. Он делился на подлинный либерализм, ценность и благотворность которого подтверждалась годами «правительственного либерализма» и «либеральных реформ»[1483], и на либерализм «фальшивый», «напускной», «ложный»[1484]. Различие между этими явлениями определил в записке Н. Коковцов: есть «здоровый либерализм», т. е. «приверженность к наибольшей свободе, духовной и физической, при безусловном порядке», и «либеральничание» — «приверженности к безусловной свободе духовной и физической без оглядки на совместимость или несовместимость этой свободы с духовным и физическим порядком»[1485]. Так как наиболее явственно конфликт политических убеждений был виден на страницах печати, нередко именно «газетные либералы» изображались проводниками «лжелиберализма»[1486]. Русское общество в глазах умеренно правых и тех, кто полагал, что «либерализму придет свой черед, когда успокоятся умы и водворится порядок»[1487], представлялось наивным и незрелым, не до конца осознающим, на что его толкают. Г.А. Евреинов в записке министру юстиции доказывал, что «консервативные убеждения и охранительные воззрения на вопросы политики существуют, и только общее недовольство существующими учреждениями накладывает на все общество печать повального либерализма, имеющего, в сущности, значение всеобщей оппозиции современным формам нашего государственного устройства»[1488]. За пределами газетной полемики либералов редко обвиняли в «пособничестве» террористам[1489], но часто — в том, что предлагаемые ими средства борьбы с «крамолой» вредны. Б.Н. Чичерин в записке 1881 года, разобрав все предлагаемые либеральные меры, утверждал: «…ходячая либеральная программа, с которой носятся известного разряда русские журналисты и ихпоклонники, должна быть устранена. Она ведет лишь к усилению разлагающих элементов общества, а нам нужно, прежде всего, дать перевес элементам скрепляющим»[1490]. Если для обозначения определенного спектра политических идей достаточно было определения «либеральный», то противоположные взгляды назывались множеством разных имен: консервативные, охранительные, ретроградные, реакционные. По контрасту с «красной» партией радикалов приверженцев правых взглядов называли «черной партией»[1491]. В отличие от газетной полемики в записках во власть понятие «консерватизм» не имело отрицательного значения. Пытаясь доказать правительству необходимость помощи общества, авторы совершенно разных проектов стремились показать, что оно «всецело консервативно, исполнено здравого смысла, покорно и терпеливо»[1492]. Очевидно, консерватизм рассматривался как набор идей, полезных для власти, потому ей советовали создавать условия для его развития[1493]. В описаниях консерватизма видна та же двойственность, которая отмечена в восприятии либерализма: чтобы быть полезным, консерватизм должен быть «серьезным» и «благоразумным»[1494]. При этом в записках он всегда был обезличен: не назван ни один лидер консерваторов, ни один печатный орган. Напротив, какая-то экзальтированная дама выражала К.П. Победоносцеву свою радость, что он не является консерватором[1495]. Благожелательные абстрактные описания консерватизма резко контрастировали с разбором конкретных мер борьбы с террором, которые можно было оценить как «охранительные». Губернский предводитель петербургского дворянства А.А. Бобринский, во время революции 1905 года сам ставший председателем монархической организации «Объединенное дворянство», а в 1881 году выступивший с проектом созыва Земского собора, вкладывал в уста представителей «охранительного лагеря» следующие речи: «…нам, мол, времени нет осушать болото общественного строя: следует топтать и давить»[1496]. «Охранителей» обвиняли в том, что своими советами они сами провоцируют появление и усиление «крамолы», вносят «беспокойство и смуту в умы спокойных граждан, роняют правительство в глазах всей Европы и обвиняют все и всех в принадлежности к социалистической крамоле»[1497]. Более того, препятствуя эволюционному развитию России, они действуют, по сути, заодно с революционерами. Как писал К.Д. Кавелин, «русские революционеры и анархисты снизу — родные братья анархистам и революционерам сверху; те и другие представляют две стороны одной и той же медали, два разных вида одного и того же порядка дел, поясняют и дополняют друг друга»[1498]. После совершившегося цареубийства раздались голоса, утверждавшие, что втайне «реакционный» лагерь радуется этой смерти. В брошюре «Черный передел реформ Александра И» М.М. Стасюлевич утверждал, что 1 марта избавило «черную партию» от «величайшей опасности, какая угрожала ей не дальше, как второго марта [имеется в виду подписание Александром II так называемой «конституции Лорис-Меликова». — Ю.С.]. Доказательством тому служит то, что черная партия поспешила воспользоваться всеобщим смятением»[1499]. Непримиримая газетная полемика либералов и «охранителей» вызывала общую уверенность, что русское общество разделено на два противоборствующих лагеря. Между тем вопрос о терроре и его причинах был слишком сложен и не поддавался однозначному прочтению ни с позиций либеральной, ни с позиций охранительной программы. Люди с разными политическими убеждениями говорили о террористах как о «преступниках», «фанатиках», «недоучках», вносили в оценку цареубийства не только политический, но и этический элемент. Предлагаемые в записках меры, хотя и поддаются классификации с точки зрения большего или меньшего содержания в них либерализма или консерватизма, в то же время имеют тенденцию пересекаться или соседствовать на страницах одного и того же сочинения. В последние годы в противовес исследованиям русского консерватизма[1500]и либерализма[1501] как политических течений высказываются мнения, что употреблявшиеся во второй половине XIX века эпитеты «консервативный» и «либеральный», «реакционный» и «прогрессивный» «всякий раз наполнялись ситуативным и потому неоднозначным содержанием», следовательно, эти критерии «имеют слишком общий характер и не могут отразить всех нюансов идейных баталий, разыгрывавшихся на российской политической сцене»[1502]. Наблюдение за поведением русского общества во время народовольческого террора вполне подтверждает это мнение. 1 марта 1881 года открыло русскому обществу, «недовольному» и «либеральничающему», что в массе своей оно переоценивало степень своей «прогрессивности». Даже претендуя на некую роль в политической жизни страны, члены общества не переставали ощущать себя подданными самодержавного монарха, потому смерть Александра II вкупе со страхом перед показавшейся вдруг очень близкой революцией отрезвила многих. Очень верно эта ситуация была схвачена Н.С. Русановым: пока «Народная воля» только угрожала самодержцу, она «собирала, словно в фокусе, свободолюбивые стремления в обществе, а в то же время не ударяла в забрало монархическим предрассудкам русских […] либералов», но после цареубийства и в них проснулись «иррациональные чувства верноподданных»[1503]. О том же писал публицист-консерватор К.Ф. Головин: «…когда отравленные плоды мнимо-благородного движения ясно показали себя […], симпатии разом отхлынули и, не находя себе более поддержки, революционное движение зачахло»[1504]. Народовольческий террор стал для русского общества серьезным испытанием. В ситуации рушащегося на глазах порядка вещей (под ударами горстки людей, действия которых выходили за рамки привычного и с трудом поддавались рациональному анализу), это общество слышало призывы о помощи и со стороны революционеров, и со стороны власти. Попытки ответить на эти призывы, равно как и попытки осмыслить происходящее, больше всего повлияли на само общество. Вместо уверенности в своей силе, воскресшей было с назначением М.Т. Лорис-Меликова, оно осознало собственную слабость: слабость не только перед лицом правительства, но и перед людьми, решившимися вмешаться в течение дел с помощью динамита. В то же время эти призывы заставили очень многих задуматься о своем статусе и открыть в себе не только чиновника, генерала, дворянина, родителя, но и члена общества. В течение 1879–1881 годов русское общество познавало себя. Я постаралась повторить пройденный им путь, чтобы в зеркале народовольческого террора увидеть своего героя.«СОВЕТ ДВАДЦАТИ ПЯТИ БАРАНОВ»: ОПЫТ ПОЛИЦЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА (ПОСЛЕСЛОВИЕ)
В течение 1879–1881 годов участие общества в решении политических вопросов и в борьбе с террором неоднократно объявлялось панацеей от всех бед. Казалось, стоит удовлетворить жажду политической деятельности, которую общество всеми силами демонстрировало власти, как все проблемы Российской империи разрешатся сами собой. Мне кажется уместным закончить эту работу о русском обществе рассказом о том, как в марте 1881 года в Петербурге прошли выборы, основанные на беспрецедентно широком избирательном праве, по недоразумению данном даже женщинам. По их итогам начало свою работу представительное учреждение, призванное выработать меры, необходимые для ограждения «общественной безопасности»[1505]. Основания, на которых был создан Совет при петербургском градоначальнике, если перенести их в масштабы всей страны, были куда более либеральным, чем «конституция Лорис-Меликова» и любые либеральные проекты, предлагавшиеся обществом. Совет значительно ограничивал деятельность градоначальника, поскольку имел право налагать вето на любое его решение. О результатах попытки власти взаимодействовать с обществом на тех условиях, которых оно так настойчиво добивалось, можно судить уже по тому, что исследований учреждения, вошедшего в историю как «Совет двадцати пяти баранов», до сих пор нет. 19 марта 1881 года, почти три недели спустя после убийства Александра И, в соответствии с высочайшим повелением, подписанным накануне поздно ночью, в 228 околотках Петербурга, примерно в ста тысячах квартир[1506], должна была произойти одна и та же сцена: комиссии из полицейского чиновника, гласного городской думы и двух военных офицеров или гражданских чиновников следовало обратиться к домовладельцу или хозяину квартиры с просьбой «указать лицо, которое, по его личному убеждению, достойно чести быть выборным» во Временный совет при градоначальнике. Судя по переписке Н.М. Баранова, назначенного 8 марта санкт-петербургским градоначальником, и М.Т. Лорис-Меликова, выборы рассчитывали провести за час, с 9 до 10 вечера, чтобы застать избирателей дома[1507]. Очевидно, что проект Совета был составлен на скорую руку и реализация его не была продумана. Комиссии не успевали обходить все квартиры, потому в некоторых околотках голоса «отбирали» околоточные или управляющие домов. Поспешность решения привела к тому, что многие петербуржцы, особенно те, кто не читал утренних газет, вообще не знали о выборах или получали о них превратное представление от дворников и городовых. 20 марта князь В.П. Мещерский записал в дневнике: «Все виденные мною сегодня лица объясняют вчерашнюю прогулку гласных и полиции для собирания голосов в совет градоначальника как умную меру полицейского осмотра»[1508]. Слухи о «повальном обыске» приводили подчас к комическим результатам: прослышав, что полиция будет отбирать фотографические карточки, прислуга прятала их в дровах[1509]. Н.С. Русанова дворник просил убрать все запрещенные книжки и приводил в пример соседа-лавочника, который проверял сельдяные бочки, опасаясь, что «ему скубенты книжку по злобе подбросят»[1510]. В соответствии с высочайшим повелением, избиратели должны были дать письменный отзыв, заключающий звание и фамилию избираемого, а также подпись избирателя с обозначением его адреса. И здесь у опрашиваемых возникал закономерный вопрос, ответа на который члены комиссии не знали: проходят ли выборы в пределах околотка или возможно записать фамилию любого жителя Петербурга. В журналах комиссий появлялись записи такого содержания: «никого не знаю», «никого не имею в виду»[1511]. Следует учесть, что единственным опытом участия в выборах у избирателей был опыт выборов в городскую думу, у некоторых — в земские или дворянские организации, проходившие иначе. В том же марте 1881 года при населении в 928 тысяч человек право участвовать в выборах в столичную думу получили 17 760 человек (1,9 %), а реально участвовали 2730 человек[1512]. Хотя система выборов основывалась на принципе всесословности, вследствие необходимости владеть недвижимостью либо платить сборы с торгово-промышленных заведений фактически лишенными избирательного права оказывались наемные рабочие, чиновники, лица свободных профессий, не имевшие собственных домов и снимавшие жилье, а также все те, кто проживал на казенных квартирах. Высочайшее повеление от 18 марта в несколько раз увеличило количество избирателей, так как в нем говорилось, что «правом голоса пользуются все домовладельцы, все хозяева квартир, то есть лица, занимающие на свое имя квартиры в частных и казенных зданиях, все хозяева промышленных и торговых заведений, все собственники лавок и заводовладельцы». В число избирателей попали не только лица, никогда не участвовавшие в каких-либо выборах, но и женщины, вообще лишенные избирательных прав[1513]. Особый интерес представляет вопрос, чем руководствовались избиратели, называя кого-то пришедшей комиссии. Очевидно, что слухи о «настоящей причине» высочайшего распоряжения, равно как и процедура, при которой выбор не был тайным, заставляли горожан называть кандидатов с оглядкой. В.П. Мещерский предполагал у избирателей такие размышления: «Есть у нас хороший и образованный, […] честный человек, да боязно, как бы не подвести его»[1514]. Впрочем, горожане могли опасаться навредить не только выбираемым, но и самим себе. Г.К. Градовский в воспоминаниях рассказывал, как к нему 19 марта зашла соседка по квартире, чтобы посоветоваться, «как ей избавиться от Барановской “конституции” и что вписать в избирательный листок, чтобы не попасть в беду? Я посоветовал ей записать бывшего градоначальника Трепова как самого надежного обывателя для борьбы с крамолой»[1515]. По этим же или по иным соображениям, но Ф.Ф. Трепов получил в ходе выборов в Совет двадцати пяти больше всего голосов — 176. В газеты попали сообщения о нарушении воли избирателей: например, околоточные сами писали имена выборных, а в некоторых учреждениях «начальство само указывало подчиненным кого избирать»[1516]. Более того, один из корреспондентов газеты «Голос» сообщал о таких откровениях околоточного, собиравшего голоса: на вопрос избирателя, как будет считаться его запись в книге «никого назвать не могу», тот ответил, что «на это место будет поставлен кандидат полиции»[1517]. Один из корреспондентов «Порядка», анализируя недостатки прошедших выборов, писал: «Во всяком случае, выборы эти будут настолько случайны, что никто из избиравших не сможет взять на себя ответственность за результат избрания. А, между тем, важно то, что если комиссия окажется ниже своего призвания […], то люди с насмешкою отнесутся к выборному началу, будут вправе указать нам на вчерашнюю попытку и говорить: ведь, вот, вам дали право избирать уполномоченных, а кого вы избрали?»[1518] Подсчет голосов, собранных 19 марта, длился до 5 часов утра следующего дня, а результаты выборов были обнародованы в газетах 21-го. Поспешность выборов привела к чрезвычайному многообразию фамилий в избирательных книгах: избирательный максимум едва достиг ста голосов за одного человека, а в одном из околотков он составил 13 голосов[1519]. Тем не менее выборы были признаны состоявшимися. Состав тех, кто был сочтен «достойным чести быть выборным», получился пестрым. Его анализ дает возможность сделать ряд выводов о том, чем руководствовались избиратели, когда называли кандидатов. Очевидно, что состав выборных распался на две большие группы: представители купечества (38 %) и дворянства (43 %). Числа эти не абсолютны, так как те из выборных, кто записан как мещане и крестьяне, скорее всего, также участвовали в коммерческой деятельности, даже генерал-майор граф Г.Ф. Менгден был одновременно записан как временный 2-й гильдии купец. В околотках, население которых голосовало за представителей купечества, избиратели, как кажется, руководствовались теми же принципами, какие работали при выборах в Санкт-Петербургскую городскую думу. Более половины выборных этой категории являлись гласными в 1877–1881 годах или были избраны в думу на выборах, проходивших в марте-апреле 1881 года. Видимо, когда появилась комиссия с неожиданным требованием назвать кандидата, избиратели вспомнили тех, кому они доверили управление городом ранее или собирались доверить в ближайшее время. Совершенно иную картину представляет состав выборных от дворянства, четко делившихся на военных (26) и штатских (57). Здесь избрание тех, кто уже управляет городом, было невозможно, так как большинство дворян не имело недвижимой собственности в Петербурге, которая бы позволила им принимать участие в городских выборах. Например, из 10 избранных генерал-майоров только двое могли принимать участие в выборах, причем если генерал-майор Жербин был лично собственником недвижимости, то генерал-майору Коростовцу передоверяла право выбора его жена. Из 23 действительных статских советников в выборах могли участвовать 11 человек, двое из которых были доверенными лицами своих жен. Некоторые выводы позволяет сделать анализ классов чинов выборных. Хотя среди выборных были представлены классы со второго по одиннадцатый, большинство принадлежало к классам со второго по шестой. Эта тенденция подтверждается также тем, что представители низких чинов занимали фактически более высокое положение, связанное с иной деятельностью: например, отставной поручик С.П. Горсткин шел в списке лиц, имеющих право участвовать в выборах в думу под номером 18, т. е. не только принадлежал к первой курии выборщиков, но и официально входил в двадцатку самых богатых людей Петербурга, даже имел в городе улицу и мост своего имени. Среди выборных оказались представители высоких бюрократических и военных кругов, а также известные общественные деятели: редакторы А.А. Краевский и М.И. Семевский, ректор Петербургского университета А.Н. Бекетов, шесть мировых судей и предводитель петербургского дворянства гр. А.А. Бобринский. 21 марта в доме градоначальника 210 представителей общества должны были избрать из своего состава 25 человек. После прочтения списка выборных каждый должен был написать столько имен из этого списка, сколько хотел: от двадцати пяти до одного; затем избранная комиссия подсчитала количество голосов, поданных за каждого кандидата. В двенадцатом часу ночи состав Совета был определен. П.А. Зайончковский, опираясь на дневник Е.А. Перетца, высказал мнение, что «выборы не были основаны на выборном начале, так как на обсуждение собравшихся был предложен список, полностью составленный полицией»[1520]. Ни М.И. Семевский, в отличие от Е.А. Перетца присутствовавший во время выборов, ни А.В. Богданович, хорошо осведомленная о Совете, об этом не упоминают. Кроме того, сам состав выборных не позволяет столь однозначно утверждать, что выборы в Совет были только «комедией». Хотя 19 марта голоса распределились между дворянами и недво-рянами примерно поровну, в Совете этот паритет был нарушен: дворяне составили 84 % против 16 % остальных. При этом сохранилась тенденция избрания лиц, занимавших выборные должности: 52 % членов Совета были гласными городской думы, 20 % мировыми судьями; всего из 25 человек выборные должности занимали 15 человек. Если перейти от количественного анализа к конкретным личностям, увидим, что членами Совета стали очень известные в Петербурге люди: больше всего голосов получили бывший градоначальник Ф.Ф. Трепов, а также генерал-адъютант И.И. Воронцов-Дашков. Среди лиц, занимавших высшие государственные должности, можно назвать члена Государственного совета А.П. Заблотского-Десятовского и управляющего Государственным банком Е.И. Ламанского. Кроме того, в Совет в соответствие с повелением 18 марта вошел городской голова П.Л. Корф. 22 марта в состав были включены второй комендант Петропавловской крепости генерал-майор Адельсон и полковник Генерального штаба Пузыревский, которые должны были обеспечить связь Совета с военным ведомством. Таким образом, всего Совет состоял из 28 человек. Все они обладали немалым опытом управления, занимались общественной деятельностью, имели вес в различных кругах общества — все те качества, которые должны были сделать их самыми подходящими участниками эксперимента, призванного осуществить взаимодействие власти и общества, проверить способность представительных органов решать поставленные перед правительством вопросы, с которыми оно не справлялось самостоятельно. Газеты, волновавшиеся по поводу случайности выбора, были вынуждены признать состав Совета «удовлетворительным» и даже «в высшей степени благоприятным». Газета «Голос» сообщала читателям: «В состав совета вошли лица, которые, с одной стороны, действительно должны считаться представителями лучшей, разумной части петербургского общества, а с другой стороны — своими знаниями, просвещением, умом, опытностью в делах, близким знакомством с условиями петербургской жизни могут действительно оказать существенную помощь»[1521]. Впрочем, газета, восхвалявшая Совет, находилась в несколько щекотливом положении, ведь ее редактор был одним из членов этого учреждения. Казалось бы, такой личный состав Совета должен был обеспечить ему успех. В действительности вышло иначе. На собрании 21 марта, до того как выборные приступили к определению членов Совета, градоначальник предложил в экстренном порядке утвердить две меры: билеты для извозчиков, которые возят пассажиров с железнодорожных вокзалов, и заставы у въездов в город. Обе меры были приняты выборщиками единогласно. Если вопрос с извозчиками затем обсуждался в Совете, то проблема застав сразу вылилась в серьезный инфраструктурный кризис, заставивший усомниться в действительной пользе выборного учреждения и поставить вопрос о его будущем; Хотя заставы были утверждены собственно не Советом, а собранием выборщиков, в неудаче этой меры обвинен был именно Совет. Уже 23 марта в газеты стали поступать сообщения, что заставы затрудняют подвоз продовольствия в столицу, из-за них встала работа некоторых заводов, так как рабочие из пригородов не могли вовремя попасть в Петербург, не были выпущены из города погребальные процессии[1522]. Членам Совета стали поступать многочисленные заявления жителей столицы о стеснительности такой меры. 23 марта А.В. Богданович записала в дневнике, что Совет отменил это распоряжение[1523]. Заставы были сняты 25 марта по распоряжению градоначальника, но об участии в этом решении Совета в постановлении не говорилось. Газета «Голос», начав с того, что «неизвестно, кому принадлежит мысль о снятии застав», затем намекнула читателям, что градоначальник «прислушался к заявлениям, сделанным в Совете»[1524]. За этими скупыми сведениями можно увидеть конфликт, разгоравшийся между не склонным прислушиваться к кому-либо градоначальником Н.М. Барановым и членами Совета, считавшими, что у них есть законные права влиять на принимаемые решения. Печать, не обратив внимание на напоминания «Голоса», что мера была одобрена не Советом, принялась искать причины неудачи. Под сомнение был поставлен не принцип выборности, а «общее состояние умов», при котором «смешиваются постоянно понятия “критика” и “сопротивление”»[1525]. Тем не менее газеты были склонны дать Совету еще шанс, при условии, что впредь он будет осторожнее давать свое согласие, чтобы «не очутиться, как теперь, в необходимости отменять меру, принятую три дня тому назад»[1526]. Рассмотренный выше конфликт выявил противоречие между видением компетенции и задач Совета его членами и градоначальником. Н.М. Баранов желал единолично принимать постановления, утверждение которых Советом превращали их в решения всего общества, подлежащие обязательному и безоговорочному исполнению. Очевидно, градоначальник не нуждался даже в совете компетентных лиц, так как при обсуждении вопроса о праве членов Совета проектировать новые мероприятия по собственной инициативе он оставил за собой право первому знакомиться с такими предложениями и самому решать вопрос о вынесении их на общее обсуждение. Фактически все меры при таком порядке оставались на личное усмотрение градоначальника. Совету надлежало быть лишь декоративным учреждением при полиции. Сами члены Совета изначально видели свою миссию иначе: они всячески стремились расширить свою компетенцию и проявляли инициативу. О том, что Совет рассчитывал на долгий срок работы, говорит факт принятия им внутреннего распорядка: предполагалось вести протоколы заседаний, для чего нанять секретаря; было определено условие, что заседание считается состоявшимся в случае присутствия 13 человек. Е.В. Богданович внес переложение, чтобы по примеру Петербурга аналогичные советы были образованы во всех крупных городах России[1527]. Конфликт между Советом и градоначальником продолжал нарастать, что нашло отражение в расписании заседаний. Первоначально предполагалось, что Совет будет собираться ежедневно по вечерам (это видно из речи Н.М. Баранова при открытии Совета[1528]). Уже 25 марта эти планы были скорректированы: Совет не собирался в Благовещение (25 марта) и в период с 26 по 29 марта во время слушания дела о преступлении 1 марта. Недовольный «самодурством» Баранова Ф.Ф. Трепов 24 марта собрался выйти из состава «странного совета»[1529]. 28 марта А.В. Богданович, вероятно, не без влияния мужа писала: «Никто не доверяет Баранову, все видят в нем шарлатана […]. Сколько в России делается глупостей»[1530]. Она же 30 марта отмечала: «Е.В. [Богданович. — Ю.С.] вернулся поздно из заседания совета 25-ти. Опять у них все только разговоры [курсив мой. — Ю.С.]». 17 апреля Совет заседал только в шестой раз. На этом заседании В.И. Лихачев заметил Н.М. Баранову, что Совет «почти ничего еще не сделал». Отвечая на это замечание, градоначальник заявил, что «Совет 25 сделал уже потому много, что дал мне возможность не прибегать к таким мерам, какие, как мы слышим, уже возникли и применяются к Москве. […] Учреждение совета выборных спасло, в этом случае, мирное население Петербурга от таких [повсеместные обыски. — Ю.С.] резких и едва ли целесообразных мер»[1531]. Совет продолжил разработку вопроса об извозчиках, поднятого на собрании выборщиков, для чего была создана подкомиссия из городского головы П.Л. Корфа, статского советника Благово, генерал-майора Коростовца, действительного статского советника Жуковского. 22 марта они представили доклад о размерах таксы для извозчиков от станций железной дороги. Постановление было принято после совещания с содержателями извозных промыслов и рассмотрения подготовительных материалов думы[1532]. Последний раз М.И. Семев-ский упоминает в записях Совет 24 апреля, когда комиссия в составе М.И. Семевского, В.И. Лихачев, П.А. Потехина, И.А. Котомина, А.Н. Бекетова и Е.И. Ламанского обсуждала университетский вопрос на квартире последнего[1533]. 19 июня М.И. Баранов представил проект, выработанный комиссией, министру внутренних дел Н.П. Игнатьеву[1534]. Никаких реальных мер Совет больше не принял, распоряжений за его подписью не появлялось. 23 июня в газете «Страна» появилось сообщение, что Совет при градоначальнике «на днях закроет свои заседания и затем будет отменен»[1535]. Официально о его роспуске сообщено не было. Остается ответить на вопрос, почему начинавшееся с таких надежд учреждение осталось в памяти современников лишь «причудой» градоначальника, «Советом двадцати пяти баранов» и «парламентом при полиции». Очевидно, дело не только в непростой личности Н.М. Баранова, не желавшего делиться властью с кем бы то ни было. Оказалось, что представительное учреждение не может работать, если его компетенция твердо не определена, а его члены видят свою роль иначе, нежели ее видит представитель имперской администрации. Кроме того, на существование Совета не мог не повлиять новый курс, окончательно определившийся после выхода манифеста 29 апреля. Тем не менее существование Совета двадцати пяти нельзя рассматривать только как анекдотический случай. Временный совет при градоначальнике дает возможность увидеть не только реакцию общества на выборное учреждение, но и возможные формы, в какие могли вылиться как осуществление выборов, так и функционирование представительного органа в государстве, которое, даже согласившись на создание такового, вовсе не собиралось ограничивать власть монарха. Конечно, история не знает сослагательного наклонения, но осуществленный администрацией эксперимент — призвание выборных с совещательными функциями, пусть в масштабах одного Петербурга, — слишком во многом напоминает проекты, предлагавшиеся либералами и активно обсуждавшиеся в это время. Выборы в Совет и его дальнейшая судьба могут служить наглядным примером того, как, вероятно, сложилась бы судьба представительного учреждения, если бы решение о нем было принято 8 марта 1881 года.СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
ВРК — Верховная распорядительная комиссия ГАРФ — Государственный архив Российской Федерации КиС — «Каторга и ссылка» л. — гв. — лейб-гвардия МВ — «Московские ведомости» МВД — Министерство внутренних дел МИДв — Министерство императорского двора ОНС — «Общественные науки и современность» ОР РНБ — Отдел рукописей Российской национальной библиотеки ПВ — «Правительственный вестник» РА — Русский архив РГИА — Российский государственный исторический архив РО ИРЛИ — Рукописный отдел Института русской литературы РАН (Пушкинский Дом) СА — Секретный архив СПВ — «Санкт-Петербургские ведомости» ЦГИА СПб — Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга ЦИАМ — Центральный исторический архив г. МосквыИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ
Абаза Н.С. 54 Аверкиев Д.В. 33 Адельсон Н.О. 357 Адлерберг А.В. 46, 57, 58, 263, 265,315 Аксаков И.С. 111, 142, 145, 148, 224, 228, 304 Александр II, император 10, 11, 20, 22, 23, 28, 49, 57, 59, 62–68, 72, 73–83, 85, 88, 90–92, 101, 113, 115, 116–118, 123, 127–129, 136, 141, 143, 149, 156, 159, 161, 163–165, 173, 179, 180, 185, 186, 188, 189, 199, 201, 205, 209–211, 217, 223, 234, 237, 241, 255–257, 259–264, 266, 268, 272–277, 280, 281, 285, 287–295, 300, 302, 304, 306, 307, 311, 318, 326, 332, 335, 343, 349, 350, 352 Александр III, император 42, 62, 63, 83, 84, 167, 175, 201, 210, 213, 214, 217, 219, 239, 257, 260, 267, 278, 295, 305, 324, 332 Александр Александрович, вел. кн. — см. Александр III Александр Александрович, цесаревич — см. Александр III Алисов П.Ф. 44, 184, 188, 191, 192, 195–197, 199, 266 Алмазов 220 Альбрехт 335, 336 Амвросий (Ключарев), епископ 91 Ананьич Б.В. 325 Анастасьев 335, 336 Ангелов Ю.К. 312 Андреас-Саломе Л. 344 Андреев А. 257, 313 Антонов 252 Антонов И. 61 Антонов С. 61 Аракчеев А.А. 138, 261 Аргунов П.А. 244, 287 Астапов И.И. 258 Атава С. — см. Терпигорев С.Н.Бадабанов А. 280 Бакунин М.А. 129 Баранов А.С. 35, 226, Т17 Баранов Н.М. 166, 167, 217, 219, 241, 353, 358–361 Барриве Л.Е. (Гальперин) 27 Баталин И.А. (Оса) 114 Батьянов М.И. 315, 330 Бауман А.О. 58 Беггров А. 279 Безобразов В.П. 98 Бекетов А.Н. 356, 360 Беккер О. 123 Бенуа А.Н. 157, 255, 264, 280, 300, 302 Бенуа Н.Л. 255 Бестужев-Рюмин К.Н. 271 Бильбасов В.А. 224 Бисмарк О., фон 123 Благово С.С. 360 Бобриков Н.И. 277 Бобринский А.А. 159, 224, 264, 274, 326, 327, 349, 356 Богданович А.В. 47, 59, 94, 166, 167, 209, 224, 235, 255, 274, 302, 318, 357, 358, 360 Богданович Е.В. 224, 269, 271, 310,318, 359, 360 Богданович Ю.Н. 120 Богучарский В.Я. (Яковлев) 27, 28 Бондаренко В.М. 243 Бондаренко Е. 243 Боткин С.П. 266 Брут М.Ю. 21 Будницкий О.В. 34 Булюбаш А.П. 269 Бунаков Н.Ф. 345 Бутурлин Н.Н. 154, 278 Быхтовия И.159 Бычков А.Ф. 300
Валуев П.А. 224, 315, 318 Вальков Д. 231 Василевский И.Ф. (Буква) 197 Василий (Нечаев), протоиерей 73 Василий (Рождественский), протоиерей 88 Василий (Розалиев), протоиерей 75 Васильев И. 245 Варадинов Н.В. 14, 246 Вентури Ф. 31 Верещагин Н.В. 241 Верховен К. 281 Виктор (Бондаков), протоиерей 81,88 Викторов П. 337 Вильгельм I, король 123 Винтмер А.Н. 283 Виташевский Н.А. 284 Витте С.Ю. 259, 314 Владимир Александрович, вел. кн. 48, 166, 239 Воейков А.И. 292 Воейков В.В. 160, 277, 279 Воейков Д.И. 238, 337 Войчулевский А.С. 285 Волк С.С. 32 Воллан Г.А., де 234, 238, 271, 323,326, 345 Вольф М.О. 241 Воронцов-Дашков И.И. 219, 357 Вроцкий Н.А. (Навроцкий А.А.) 80 Вяземский П.П. 154
Гаврилов Н.Н. 14 Галушко Т. 168 Ганелин Р.Ш. 325 Гартман Л.Н. 50, 51, 115, 169, 178,188, 228, 252, 346 Гедеоновский А.В. 290 Гейфман А. 34 Геллис М.Я. 96 Гельфман Г.М. 102, 106, 119 Генрих IV, король 128 Герард В.Н. 106, 107 Герке (1-й) А.А. 106 Герцен А.И. 186 Гёдель Э.-Г.-М. 123 Гжималовский 157 Гиппарх 128 Глинка Д.К. 310, 322 Глинский Б.Б. 27 Глисон Э. 17 Голицын Н.Н. 235 Головин 266 Головин К.Ф. 269, 271, 292, 351 Голохвастов П.Д. 326 Гольденберг Г.Д. 96, 98-100, 10З-105, 120, 254, 346 Гольцендорф Ф. 37 Горсткин С.П. 356 Гортынский М.Ф. 299 Горчаков А.М. 272 Градовский А.Д. 139, 337 Градовский Г.К. 50, 109, 261, 354 Грейг С.А. 272 Григорьев С.И. 7, 281 Гриневицкий И.И. 80, 120, 191 Гроссман Б. 261 Гросул В.Я. 13, 17, 177 Гурко И.В. 48, 158, 172, 265, 269
Дарвин Ч. 85 Дейч Л.Г. 119 Делянов И.Д. 224, 254, 259, 300 Денискевич 336 Джазыхов Х.О. 92 Джордж Д. 21 Дициаро И. 279 Дмитриев Ф.М. 337 Дмитриева В.И. 283, 298 Дмитриева Н. 215 Доберт 337 Добровольский И. 44 Долбилов М.Д. 7 Долгоруков В.А. 47, 55, 67, 112,140, 171,239, 241,284 Долгоруков П.В. 186 Долгорукова Е.М. 187, 188,263-265, 341 Донат (Бабинский-Соколов), епископ 67 Дондуков-Корсаков А.М. 245,248 Достоевская А.Г. 211 Достоевский Ф.М. 211, 340 Драгоманов М.П. 44, 183, 199 Дрентельн А.Р. 46, 155
Евгений (Попов), священник 76,77 Евреинов Г.А. 347 Езерский 338, 339 Екатерина И, императрица 266 Екатерина Михайловна,вел. кн. 326 Елпатьевский С.Я. 339 Епанчин Н.А. 153 Есипович Я.Г. 228, 229
Жанна д’Арк 304 Желябов А.И. 52, 96, 102, 105,120, 131, 191,303, 304 Жемчужников В.М. 274 Жонголович С.Ю. 286 Жуковский П.В. 360
Заблотский-Десятовский А.П. 357 Зайончковский 288 Зайончковский П.А. 31, 356 Зайцев В.А. 184 Закрицкий Ф.И. 216, 258, 318 Зарембо-Годзяцкий Н. 231. Засулич В.И. 128, 178, 226, 252,300 Зейфорд Н.К. 60 Зимин А. 266 Зотов В.Р. 292 Зуров А.Е. 268
Иван IV (Грозный), царь 180 Иванов Ю. 153 Иванчич-Писарев А.И. 292 Игнатьев Н.П. 25, 213, 217, 219,224, 232, 234, 320, 337, 360 Иловайский Д.И. 131 Иоанн (Палисадов), протоиерей 67, 84 Иоанн (Янышев), протоиерей 90 Исидор (Никольский),митрополит 60, 67
Кавелин К.Д. 223, 229, 273, 310,318, 323, 325, 349 Кавос К.А. 300 Кавос М.А. 300 Калашников М. 222 Калугин Д.Я. 9 Кан Г.С. 34 Каплун В.Л. 10, 13 Каракозов Д.В. 23, 35, 61,127,129,130, 135, 144, 181,281 Кареев Н.И. 284 Карелин И. 214 Карл I, король 184 Карпович И.Ф.315, 316 Кассоу С. 17 Катков М.Н. 111, 114, 117, 124,126, 129, 131, 132, 136, 138, 142-148, 197, 231,251 Кащенко П.П. 289, 290 Квятковский А.А. 103, 105, 178,179, 190, 302 Кедрин Е.И. 106 Кельнер В.Е. 7 Кибальчич Н.И. 102, 106, 107,165, 175 Киреев А.А. 275, 320, 321 Кириллов Т.Т. 242, 276, 328 Киров С.М. 30 Киселев Г.И. 312 Клеваев А. 216, 240 Клеточников Н.В. 131 Климашевская 286 Клоуз Э. 17 Кобозева — см. Якимова А.В. Ковальский И.М. 131, 252 Ковригина Е.Д. 222 Коковцов Н. 239 Колоницкий Б.И. 7 Колоткевич Н.Н. 131 Колюпанов Н.П. 323, 342, 343 Кони А.Ф. 128 Константин Николаевич, вел. кн. 49, 154, 167, 170, 241, 324 Корба А.П. 175, 292 Корде Ш. 21 Корнилов А.А. 27 Коростовец 360 Корф П.Л. 262, 317, 357, 360 Котомин И.А. 360 КоцонисЯ. 13 Кошелев А.И. 239, 322 Краевский А.А. 69, 197, 356 Крестовский В.В. 94 Кром М.М. 7 Кропоткин Д.Н. 103, 104 Кропоткин П.А. 159 Крыжановский А.Н. 272 Кузьмин Д. (Колосов Е.Е.) 174 Кулишов Л. 287 Кушелев С.Е. 235
Лакер У 20, 21 Ламанский Е.И. 357, 360 Лапин В.В. 7 Латкин Н.В. 220, 261 Лебедев В.С. 175, 198 Левицкий В. (Цедербаум В.О.) 29 Левицкий В.С. 279 Ленин В.И. 28, 30 Леонов М.И. 34 Леонтьевич И.С. 278 Либрович С.Ф. 326 Ливен А.А. 272 Лизогуб Д.А. 131, 169 Линкольн А. 128 Лисицына Г.Г. 7 Литвинов Н.П. 47, 224, 239 Лихачев В.И. 360 Лорис-Меликов М.Т. 14, 25, 26,36, 42, 55, 56, 64, 65, 69, 98, 115,124, 135, 138–140, 144, 147, 163,166, 183, 197, 203, 204, 217–220,222, 223, 228, 231, 234, 237, 240,242, 244–247, 255, 257, 270, 271,273, 275, 276, 294, 301, 302, 310,313, 317, 320, 321, 324, 326, 327,337, 339, 341–343, 351–353 Любатович О.С. 22, 172, 292 Людовик XVI, король 184
Майдель Е.И. 119 Макарий (Булгаков), митрополит 74, 198 Маков Л.С. 211, 217, 218, 272 Маковский К.Е. 279 Мальцов Н.С. 276 Мальшинский А.П. 132, 310 Мария Александровна, императрица 55, 189, 224, 280 Маркевич Б.М. 172, 224 Марков П. 285 Мартенс Ф.Ф. 132 Маслов К.А. 299 Машковец А. 288 Мезенцев Н.В. 140 Мейзах И. 92 Меллер 336 Менгден Г.Ф. 355 Мережковский С.И. 258 Мещерский В.П. 157, 224, 235,243, 304, 353, 354 Микешин М.О. 326 Миллер О.Ф. 112 Милютин Д.А. 162, 224, 263, 268,272, 303, 304 Михаил (Некрасов), протоиерей 85 Михайлов Т.М. 102,104,106, 118,119 Михайловский Н.К. 175, 194 Млодецкий И.О. 98, 115, 203 Могильнер М.Б. 35, 226, 227 Модестов В.И. 136, 137 Монтеверде П.А. 147 Морозов Н.А. 44, 101, 105, 174,175, 185, 186 Мравинский Е.А. 164 Муравьев М.Н. Т12 Муравьев Н.В. 44, 94, 96,100–103 Муравьев Н.Н. 337 Муромцев С.А. 15, 289, 290, 310,335
Набоков Д.Н. 53, 217, 241, 272,305 Найденов Н.А. 300 Неклюдов С. 247 Некрасов Н.А. 169 Нечаев С.Г. 51, 130 Никанор (Бровкович), епископ 76, 85 Никифоров Н. 305 Николаи А.П. 214, 217, 219, 320 Николай I, император 164, 173 Николай Константинович,вел. кн. 171 Николай Николаевич,вел. кн. 267, 268 Никулин А. 332 Нобель А. 24 НоблингД. 123 Новаковский 320 Новиков А.И. 290 Нудатов 327
Оболенский Д.Д. 46 Овсянико-Куликовский Д.Н. 297, 298 Овсянников 286 Одесский М. 177 Ольхин А.А. 268 Оранский Ф.С. 323 Орлик М.Л. 290 Осинский В.А. 252
Павел (Руновский), священник 89 Павлов И.313 Пален К.И. 89 Палеолог М.172 Панеях В.М. 7 Паренсов П.Д. 263 Парчевский А.П. 237 Пассек П. 220 Певницкий Д.Ф. 297 Перетц Е.А. 224, 264, 277, 303,356, 357 Перовская С.Л. 52, 102, 105, 106,118, 119, 170, 284, 303, 304 Перовский В.Л. 284 Петров П. 160 Петров Ф.А. 334 Пётр II, император 265 Пирогов Н.И. 176, 233, 237, 261,274, 309 Плампер Я. 8 Плансон А.А. 344 Платон (Городецкий), архиепископ 67 Платонов И.В. 315 Платонов С.Ф. 224, 301 Плеве В.К. 154 Плеханов Г.В. 190, 199 Плещеев А.Н. 292 Победоносцев К.П. 83, 166, 172,213, 217, 219, 224, 264, 272, 304, 349 Пожаров А. 315, 316 Покровский М.Н. 28 Полетика В.А. 138, 197 Поликарпов В.Е. 299 Поликарпов К.В.299 Половцов А.В. 94 Половцов В.В. 257, 295 Полонский Л.А. 135, 139 Понамарев 58 Постоев Я. 249, 260 Потапов Я. 285 Потехин П.А. 360 Пресняков А.К. 190, 302 Пузыревский А.К. 357 Пумпянский 61 Пфейль Р., фон 158, 165, 176, 303, 304
Разин С.Т. 132 Ремблинский Н.М. 314, 315, 317, 329 Ридигер 318 Родионов 277 Рожков Н.А. 28, 29 Розанов В.В. 296, 306 Розенбах Н.О. 277 Розовский И.И. 96, 175 Романенко Г.Г. 44, 185 Русанов Н.С. 140, 157, 292, 293,298, 351,353 Рысаков Н.И. 76, 102, 104–106,118, 119, 170, 250, 303
Саблин Н.А. 175, 188 Сабуров А.А. 14, 217, 243, 246,261 Садоф (Ставровский), протоиерей 87 Сазонов А. 316 Самарин Ю.Ф. 337 Сватиков С.Г. 27 Седов М.Г. 32 Семевский М.И. 217, 224, 275,284,316, 356, 357, 360 Cеменов-Тян-Шанский П.П. 68 Сергеев П.Ф. 215 Сергей Александрович, вел. кн. 113 Сергиевский Н.Д. 282 Сердюков И.И. 312 Сивицкий 48 Скалон Ю.В. 135, 310 Скальковский К.А. 278 Скарятин Н.Я. 249 Скуратов-Бельский Г.Л.(Малюта Скуратов) 180 Cлонимский Л.З. 306 Смирнов 288 Смуркович О.О. 262 Соковнин Н.М. 222, 248, 271 Соловьев А.К. 66, 94, 98, 127, 156,181,252 Соловьев В.С. 305, 306 Солодянкина О.Ю. 7 Станюкович К.М. 292 Стасюлевич М.М. 135, 224, 275,349 Степняк-Кравчинский С.М. 24 Страхов Н.Н. 173, 298 Суворин А.С. 94, 143, 144, 197,224, 254, 266, 340 Суворов А.И. 35, 36 Судиенко И.М. 335 Суханов Н.Е. 169 Сушков С.П. 68 Сущев 213, 316
Талечинский 267 Татищев С.С. 26 Твардовская В.А. 32, 174 Терпигорев С.Н. (Атава С.) 13, 15,135 Тилли Ч. 20 Тихомиров Л.А. 157, 164, 174,175, 177–179, 181, 190, 192, 193, 195–197, 292 Тихомиров Н.И. 287 Ткачев П.Н. 184 Толстой Д.А. 14, 56, 137, 211, 217,244, 245, 247, 248, 251, 272, 302,307 Толстой Л.Н. 298, 304, 305 Тотлебен Э.И. 67 Трепов Ф.Ф. 128, 169, 355, 357,360 Тригони М.Н. 131, 292 Троицкий Н.А. 32, 33, 95 Тугаринов 266 Тютчева Е.Ф. 83, 166, 264 Тютчева А.Ф. 113, 224, 304
Уваров 288 Улам А. 31 Унковский А.М. 106 Уортман Р. 78, 79, 259 Уотер Э. 22 Уэст Д. 17
Фадеев Р.А. 252, 273 Фан-дер-Флит Н.Ф. 224, 278, 284 Фартес 315, 316 Фельдман Д. 177 Фельтен 279 Феоктистов Е.М. 54, 265, 283 Фёдоров 283 Фёдорова 286 Филарет, митрополит 164 Филатов В. 258 Флоринский В.М. 272, 275 Фукс Э.Я. 96, 105, 106, 305
Хабермас Ю. 18 Халтурин С.Н. 22, 157, 190, 192, 252 Хардман Д. 22 Харламов И.Н. 140 Хартулари К.Ф. 106 Хейфец М.И. 30, 31 Хефнер Л. 16, 18 Хильбреннер А. 8 Ходенева О.И. 280 Хоффман Б. 20
Цамутали А.Н. 7 Цезарь Г.Ю. 128 Цитович П.П. 69,142,146,192,197
Чайковский 267 Чайковский К.А. 265, 287 Чекмарев И.Г. 222, 318 Чепелевский Н.И. 320 Черевин П.А. 273 Чернуха В.Г. 109, 325 Чичерин Б.Н. 213, 229, 263, 311,345, 348 Чубаров С.Ф. 252 Чупров А.И. 310
Шаховской Д.И. 224, 291 Шаховской И.Ф. 291 Шелгунов Н.В 292 Шершова О. 287 Шестаков И.А. 224, 265 Шестаков П.Д. 163, 230, 235 Шильдер Н.К. 60 Ширяев С.Г. 99,100, 103,105,179,180 Шмидт Е. 303 Шмидт Н.К. 46 Штакеншнейдер Е.А. 224,302, 346 Шувалов П.А. 140 Шувалов П.П. 166, 293, 321
Щербакова Е.И. 34 Щербанов Н.В. 335
Элпидин М.К. 18, 183 Эртель А.И. 292 Эфенди А. 165
Южин-Сумбатов А.И. 351 Юрасов С.П. 213 Юрин Р. 269 Юрьевская Е.М. —см. Долгорукова Е.М. Юсупов Н.Б. 301
Якимова А.В. 120 Яковлев 58 Яров С.В. 7 Ясвин 279 Ященко Л.Н. 283

Последние комментарии
9 часов 43 минут назад
16 часов 57 минут назад
16 часов 59 минут назад
19 часов 42 минут назад
22 часов 7 минут назад
1 день 39 минут назад