Легенды и мифы о Пушкине [Владимир Владимирович Набоков] (fb2) читать онлайн
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]
Легенды и мифы о Пушкине

Все цитаты из произведений Пушкина приводятся по изданию: Пушкин. Поли. собр. соч. М.; Л., 1937–1949. Т. I–XVI; Справочный том — М., 1959. Ссылки даются в тексте статей с указанием в скобках тома и страницы. Ссылки на пушкинские автографы, хранящиеся в Институте русской литературы (Пушкинский Дом) РАН (ф. 244, оп. 1), даются сокращенно (например: Пушкинский Дом, № 840). Изд. третье, стереотипное.
1 Мифология родословия
В. В. Набоков Пушкин и Ганнибал
Версия комментатора
(Вступительная статья и публикация В. П. Старка, перевод с английского Г. М. Дашевского, примечания Н. К. Телетовой).
Статья «Пушкин и Ганнибал» была напечатана в английском журнале «Encounter» в июле 1962 г.[1] В переработанном виде Набоков включил ее в комментарий к роману «Евгений Онегин», вышедшему в его переводе в 1964 г.[2] Набоков сам указывает время написания статьи — это 1956 год, год завершения многолетнего труда над переводом и комментированием пушкинского романа. 15 марта 1956 г. Набоков пишет из Гарварда сестре Елене Владимировне: «Здесь я бешено доканчиваю моего огромного „Онегина“»[3]. В первых числах июля того же года он поселился в г. Итаке, приступив к чтению лекций по русской литературе в Корнелльском университете. Здесь и была закончена статья, начатая в Гарварде. Во вступлении к своему «очерку» писатель сообщает, что «появлением своим он обязан нескольким лишним часам, проведенным в великолепных библиотеках Корнелльского и Гарвардского университетов…». Статья посвящена загадкам, связанным с легендарной историей прадеда Пушкина А. П. Ганнибала. Суметь разгадать то, что не удалось другим, всегда составляло для Набокова особое наслаждение — страсть эта родовая, унаследованная от дядюшки В. И. Рукавишникова, «мастера разгадывать шифры на пяти языках»[4]. В сочетании со способностью писателя «заклинать и оживлять былое» эта страсть культивировалась Набоковым и проявилась во всех его романах. Направленная на решение ганнибаловских загадок, она дала неожиданный результат. Стремление досконально откомментировать единственное косвенное упоминание Пушкиным своей африканской прародины в строфе L главы первой «Евгения Онегина» и его примечание 11 к роману привели Набокова к необходимости написания обстоятельной полемической статьи, далеко выходящей за рамки даже его собственных пространных комментариев к роману. Решение частной прикладной задачи трансформировалось в самостоятельный научный поиск. Возможно, этого не произошло бы, будь в распоряжении исследователя Набокова, как некогда и в распоряжении исследуемого им Пушкина, документально подтвержденный биографический материал, касающийся А. П. Ганнибала. Но, как писал Пушкин, «по причине недостатка исторических записок, странная жизнь Аннибала известна только по семейственным преданиям» (VI, 655). Столь шаткое основание для серьезных изысканий послужило рождению многочисленных легенд, непроверенных датировок, мифических вех в биографии Арапа Петра Великого. Во власти подобного мифотворчества оказался прежде всего сам Пушкин, а вслед за ним ряд биографов поэта, начиная с П. В. Анненкова и заканчивая нашими современниками. Источником всех находок, но также и всех ошибок относительно жизни А. П. Ганнибала Набоков справедливо считает так называемую его «Немецкую биографию», которой пользовались Пушкин и его комментаторы. Набоков первым столь скрупулезно разбирает это творение зятя Абрама Петровича, А. К. Роткирха, чье авторство не было ему известно[5]. Тем не менее, гениальный стилист, переводя текст на английский и анализируя его, предсказал прибалтийское происхождение составителя биографии Ганнибала: «В немецком языке, по-моему, узнается житель Риги или Ревеля. Возможно, автором был кто-то из ливонских или скандинавских родственников госпожи Ганнибал (урожденной Шеберг)». Также не видев никогда ни в натуре, ни даже в цветной репродукции портрета, хранившегося в Петербурге и столетие считавшегося изображением Ганнибала[6], Набоков за четверть века до разрешения у нас спора по этому поводу указал на ошибочность такой атрибуции. Статья о Пушкине и его прадеде демонстрирует ряд других его провидчески ясных открытий, подкрепленных логикой проникновенного исследования. Необходимым условием поиска для Набокова является отказ от груза заключений своих предшественников, как бы авторитетны они ни были в чьих-то глазах. Раскованность Набокова, свобода от всяческих шор позволяют ему сделать то, чего не смогли сделать другие. И, конечно, нужны долгие недели кропотливого труда, чтобы продраться сквозь дебри десятков порою многотомных сочинений географов, этнографов, путешественников, посетивших в разные времена родину Ганнибала. Но Набоков не был бы самим собой, если бы не завуалировал трудоемкость поиска, небрежно сведя его к «нескольким часам». Чем же, по мнению Набокова, мог быть оправдан такой труд или, иначе говоря, чем же тема «Пушкин и Ганнибал» так привлекла его внимание? Ответов на этот вопрос может быть несколько. Главный из них мы найдем на страницах его автобиографической исповеди «Другие берега»: «Выговариваю себе право тосковать по экологической нише — в горах Америки моей вздыхать по северной России»[7]. Налицо перифраз 11–12-го стихов той самой строфы L главы первой «Евгения Онегина»:
(VI, 26)
Берлин. 8.04.23.
(«Река»)[14]
Нижеследующий очерк, посвященный главным образом таинственному происхождению африканского предка Пушкина, не притязает на разрешение множества трудностей, встречающихся на этом пути. Появлением своим он обязан нескольким лишним часам, проведенным в великолепных библиотеках Корнелльского и Гарвардского университетов, и единственная его цель — привлечь внимание к загадкам, не замеченным или неверно решенным остальными исследователями. Хотя подчас я болезненно ощущал нехватку первоисточников, хранящихся в России (где они недоступны, кажется, даже и местным пушкинистам), я утешаюсь тем, что любые материалы для любых разысканий гораздо легче достать в учреждениях этой страны, чем в недоверчивом полицейском государстве. Это укороченный вариант более пространного научного исследования.
Абрам Ганнибал
«Евгений Онегин»[15]
Происхождение Ганнибала
В начале «Немецкой биографии» говорится: «Awraam Petrowitsch Hannibal war <…> von Geburt ein Afrikanischer Mohr[32] aus Abyssinien»…[33] Следовательно, это обстоятельство было Пушкину (записавшему русский перевод) известно, но в собственных заметках он ни разу, говоря о своем предке, не уточняет места его рождения. Алексей Вульф в дневниковой записи вспоминает, что 15 сентября 1827 г. в Михайловском Пушкин показывал ему «только что написанные первые две главы романа в прозе[34], где главное лицо представляет его прадед Ганнибал, сын Абиссинского эмира, похищенный турками, а из Константинополя русским посланником присланный в подарок Петру I, который его сам воспитывал и очень любил»[35]. В русском переводе «Немецкой биографии» незнакомец, диктовавший нашему поэту, передает «Afrikanischer Mohr» выражением «африканский арап». Да и сама «Немецкая биография» в дальнейшем изложении именует Ганнибала «Neger». Абиссинцы (они же эфиопы в строгом смысле) цвет кожи имеют от смуглого до черного. Их тип есть семито-хамитская часть кавказской расы, и негроидные черты настолько преобладают у иных племен, что в подобных случаях применим и обобщенный термин «негр»; но, отвлекаясь от этих соображений (к которым я вернусь в конце заметок), отметим, что рядовой европеец того времени — в том числе, как видно, и сам Абрам Ганнибал — в обиходной речи отнес бы к «неграм» или к «арапам» («арап» — обратите внимание на последнюю согласную) любого более или менее темнокожего африканца, если он не египтянин и не араб. В кратком curriculum vitae со страшными ошибками против правописания, которое Петр Ганнибал написал или, скорее, продиктовал, уже впадая в маразм (вероятно, осенью 1825 г., когда, судя по всему, его навещал поэт), утверждается: «Отец мой <…> был негер, отец его был знатного происхождения, то есть владетельным князем, и взят во омонаты[36]. Отец мой Константинопольского двора, из оного выкраден и отослан к государю Петру I-вому»[37]. «Немецкая биография» продолжает так: «Он был <…> сын одного из тамошних могущественных и богатых влиятельных князей, горделиво возводящего свое происхождение по прямой линии к роду знаменитого Ганнибала, грозы Рима. Его отец был вассалом турецкого императора или Оттоманской империи; вследствие гнета и тягот он восстал в конце прошлого века с другими абиссинскими князьями, своими соотечественниками и союзниками, против султана, своего государя; за этим последовали разные небольшие, но кровопролитные войны; однако же в конце концов победила сила, и этот Ганнибал (Абрам. — В. Н.), младший сын владетельного князя, на восьмом году жизни был с другими знатными юношами отправлен в Константинополь в качестве заложника. Собственно, по молодости лет, этот жребий должен был миновать его. Однако, так как у его отца, по мусульманскому обычаю, было много, и даже чуть ли не тридцать, жен и соответственно этому множество детей, эти многочисленные старые княгини с детьми, объединенные стремлением спасти себя и своих, нашли способ хитростью и интригами почти насильно посадить его, как младшего сына одной из младших княгинь, не имеющей при дворе достаточно приверженцев, на турецкий корабль и поручить его предназначенной ему судьбе»[38]. Я намерен показать, что в 1690-е годы, в те времена, о которых идет речь, вассалом Оттоманской порты не был ни один абиссинец и не было среди абиссинских князей ни мусульман, ни таких, кого могли бы заставить платить Константинополю какую бы то ни было дань. Обсудим и «грозу Рима». Но прежде чем я попробую распутать всю эту неразбериху, взглянем на географическую ситуацию.
Место рождения Ганнибала
В «Прошении» Абрама Ганнибала (1742) есть следующие сжатые, но важные сведения: «Родом я, нижайший, из Африки, тамошнего знатного дворянства, родился во владении отца моего в городе Лагоне[39], который и кроме того имел под собою еще два города». Заслуживает внимания то, что конкретная область Африки в «Прошении» не названа. В силу сказанного в «Немецкой биографии» я принимаю, что упомянутый город расположен в Абиссинии. Как я уже говорил, местный падеж не дает ключа к правописанию именительного; мало этого, еще и смехотворная русская привычка передавать и «h» и «g» с помощью русской «гаммы» лишает нас возможности узнать, выглядит ли это африканское название в латинской транскрипции[40] как «Lagon», «Lahon», «Lagona», «Lahona», «Lagono» и «Lahono». Я подозреваю, что верной транскрипцией неведомого оригинала будет «Lahona», но далее буду обозначать это место буквой «L». Сильно смущает сходство имени сестры Ганнибала, упомянутой в «Немецкой биографии», с названием его родного города, встречающегося только в прошении. Я не нашел — в пределах тесного круга моего чтения — ни одного случая, чтобы абиссинский ребенок получал имя по месту рождения. По ходу работы, стоящей ниже всякой критики в том, что касается истории, этнографии и географической номенклатуры, увлекающийся антропологией журналист Дмитрий Анучин (1899)[41] сообщает, что, поговорив с французским путешественником Сент-Ивом (Жорж Сент-Ив?) и с профессором Пауличке (речь идет, видимо, о Филиппе Пауличке), он пришел к выводу, что «L» — это город и область, расположенные на правом берегу реки Мареб в провинции Хамазен. У «Логго», предлагаемого Пауличке[42], равно как и итальянской картой 1899 г. (которой я не видал), и у «Лого» Солта[43] (которое нам предстоит рассмотреть) каким-то образом по ходу комментариев и выводов Анучина вырастает хвост сперва в виде «m», а потом и в виде «h», чего не происходит ни с одним из моих «L»; поэтому здесь я с Анучиным расстаюсь и пускаюсь в самостоятельные поиски. Шарль Понсе[44] (путешествовавший в 1698–1700 гг.) делит Эфиопскую империю на несколько царств (провинций), среди которых имеется и Тигре. Тигре (где правил вице-король «Gaurekos») он делит на двадцать четыре княжества (округа), из которых называет лишь немногие, например «Saravi» («Serawe»), плато на высоте 6000 футов. Генри Солт, веком позже, делит уже собственно Тигре («обычно именуемое царством Бахарнегаш») на части, составляющие меньше половины числа округов, данного Понсе, называя Хамазен на севере, Сераве к югу от него и крохотный округ Лого еще южнее. Несколько позже, когда Хамазен и Сераве превратились в провинции, Сераве, распространившись или переместившись к реке Мареб, захватила округ Лого и другие небольшие округа. Где находится Мареб, установить легко, и название этой реки почти не изменяется в отчетах разных путешественников, из которых большинство жило в XIX в. Изучение старинных карт по репродукциям в блестящем труде Альбера Каммере (1952)[45] показывает, что это Мареб у Якопо д’Анжело (он же Аньело делла Скарпериа), Рим, рукопись, ок. 1450; у Мельхиседека Тевенота (по Бальтазару Теллёцу), 1663; у Иова Людольфа, 1683; у Бургиньона д’Анвиля, 1727; у Брюса, 1790 (начерчена в 1772); это Мариб у Фра Мауро, 1460; Марабо у Якопо Гастальди, 1561; Марабус у Ливио Сануто, 1578; Мараб у отца Мануэля де Альмейды, 1645 (набросок ок. 1630). Это и Мораба из отчета Понсе (1704). Собеседник Анучина или, что вероятнее, сам он спутал два разных места: Лого и Логоте. Сент-Ив, путешествуя, я думаю, во второй половине XIX в., со Столовой горы (Токуле) видел город «Логот» (по русской транслитерации Анучина) в долине Мареба. Во времена Солта (1810) Лого и Логоте (или Леготе) были два разных городка в сопредельных округах: округ Лого севернее и Леготе южнее, причем последнему южной границей служил отрезок реки Мареб — Муннай. Согласно единственному другому автору, говорящему о Логоте (Т. Лефевр, 1846. III. С. 21, 28[46]; его, несомненно, читал французский собеседник Анучина), округ Логоте (Леготе Солта) отделен от округов «Церана» и «Токуле» рекой Белесса (то же самое, что Май Белесса у Солта) — притоком Мареба. Белесса, судя по описанию Лефевра, в сухой сезон теряется, по образцу Мареба, в песках, правда, стоит всего лишь копнуть, чтобы добыть воды в избытке. «Так как долина Логоте весьма нездорова и кишит хищниками (львы, пантеры. — В. Н.), все деревни располагаются на цепи холмов», и жители, которым за водой приходится с безводных высот спускаться в долину, «очень бережно относятся к своим запасам». Мареб, в своем центральном течении отделяющий, грубо говоря, север Абиссинии от остальной страны, в разное время года и в разных местах своего извилистого русла предстает то яростным потоком, то подземным ручьем, то исчезающей в песках струйкой. Разные его участки имеют (или имели) особые местные названия. Истоки он берет на северо-востоке в пятидесяти милях от Анслейского залива Красного моря; ниже Дебарвы это жалкий ручеек с узким руслом; затем он набухает, изгибается к югу, сворачивает на запад и, вобрав множество рек, стекающих с северных гор, течет на запад к суданской границе, чтобы близ Кассалы уйти в землю, но в самую влажную погоду последние капли добираются до Атбары. В числе мелких северных притоков мы видим Серемай, Белессу и Обель. Последняя есть на карте Бента (1893)[47] и на военной карте США (1943); речку Серемай, протекающую точно к востоку от Обель, упоминает Солт (1814), который, продвигаясь в глубь страны от Красного моря, выехал 5 марта 1810 г. (с. 242) из города Диксан и на другой день прибыл в живописное селение Абха (с. 245): «7 марта. — Мы поставили палатки в пять утра и прошли около мили на юг, так что холм Кашаат оказался, как и надлежало, к востоку от нас, в каковой точке <…> мы взяли несколько западнее и прошли около восьми миль <…> пока не достигли удобной стоянки на берегу реки, прозываемой Серемай. Река эта прокладывает свой путь по дну небольшой замкнутой долины, со всех сторон окруженной крутыми и каменистыми холмами, в одном из закоулков которой, примерно в миле к востоку, расположен большой город, по названию Лого, от которого взято имя всего округа». В то время (1810) Лого управлялось мятежным вождем, «который в прошлогоднюю кампанию был усмирен расом»[48] и который попытался задержать и ограбить караван Солта. Ничто не мешает нам считать его четвероюродным братом Пушкина. Из Лого отряд Солта выступил на юго-юго-запад. «Наша дорога шла <…> по дикой и невозделанной местности; мы пересекли реку Май Белессан <…> и, взойдя на крутой подъем, достигли деревни Леготе <…> Подсчет расстояния, пройденного от последней стоянки (на реке Серемай, милей западнее деревни Лого. — В. Н.), дает около восьми миль». Затем Солт переправился через Мареб и шел к югу до «совершенно отвесной» горы (Дебра Дамо), «которая в древнейшую эпоху абиссинской истории служила местом заключения младших родов царской фамилии» (с. 248), в каковой точке Солт вспомнил «прекрасный и назидательный роман» доктора Джонсона. Имеется в виду пресная книга Самюэля Джонсона «The Prince of Abyssinia» или (в последующих изданиях) «The History of Rasselas, Prince of Abyssinia»[49], которая вышла без имени автора в двух томах весной 1759 г., когда читатели ухитрялись находить поэзию и дарование в плоской фельетонности вольтеровых «Сказок». Еще раньше (в 1735 г.) Джонсон ради нескольких шиллингов перевел «Историческое путешествие в Абиссинию Р. П. Жерома Лобо» Иоахима Ле Грана[50]. С каким удовольствием думаешь о том, что в один день Солт мог повидать и место рождения пушкинского предка, и место действия повести Джонсона. Мне удалось отыскать Лого на двух картах: приложенной к труду Солта и менее подробной (взятой, бесспорно, у Солта, но без ссылки на него), поясняющей путевой журнал Сэмюэля Гобата (швейцарского священника, родившегося в 1799 г.), который он вел в 1830–1832 гг.[51] Он лежит милях в сорока пяти к северо-северо-западу от Аксума и милях в пятидесяти к югу от Дебарвы. Я не уверен, что он существует по сию пору; возможно, он сместился вбок, как это часто случалось с абиссинскими селениями. Нигде на многочисленных картах, составленных до XVIII в., не нашел я и намека на «Лого», «Лагон» или «Лагону», если не считать прозрачных итальянских или испанских описательных терминов для «озера», «канала», «горячего ключа» или «пруда» («lagone»). Трудность состоит в том, что как раз в нужный период, от последних приездов иезуитов в 1630-е годы, до путешествия Джеймса Брюса в 1770-е, ни один пишущий европеец, кроме Понсе (1698–1700), не навестил северной Абиссинии. Правда, я подыскал другую кандидатку на роль родины Ганнибала. Солт в начале путевого журнала (1811)[52] упоминает деревню «Лагайна»[53], которую он заметил, идя в северном направлении от «Анталу» (Антало), столицы Тигре-Эндорты, в «Муккулах» (Макалле) в той же провинции. Лагайна эта находится, или находилась, милях в шести от Антало, приблизительно к северо-северо-востоку, и, стало быть, примерно в ста милях к юго-юго-востоку от Лого. Ни на одной карте найти ее я не сумел, но, принимая в расчет сообщение Солта (он только что миновал «живописную деревню Гараке», которую я отождествляю с Гаргарой на военной карте США (1943)), я бы поместил Лагайну на полпути между 39° и 40° восточной долготы и 13° и 14° северной широты. Выступив из «Гараке» и продвигаясь от холма к холму, Солт заметил «справа на склоне, в восточном направлении, довольно большую деревню, называется она Лагайна, от какового места дорога, повернув несколько к западу, повела по более возделанной местности, густо усаженной акацией и кустарником…»[54]. Почему бы не счесть эту Лагайну, а не Лого или Логоте, той самой Лагоной или Лахоной из «Прошения» Ганнибала? Были, наверное, и другие, сходно звучащие названия (скажем, от корня «лахам»). В итоге я склонен признать, что вопрос о точном месте «L» остается нерешенным, но я думаю, что она находилась в северных областях Абиссинии, где мы брели, подымая книжную пыль, вслед за мулами и верблюдами дерзких караванов.
Сестра Ганнибала
Коснувшись интриг старших жен, сумевших переправить сына младшей княгини к туркам, «Немецкая биография» продолжает: «У его единственной единоутробной сестры Лагани[55], бывшей на несколько лет его старше, нашлось достаточно мужества, чтобы воспротивиться этому насилию. Испытав все средства, но принужденная наконец уступить большинству, она, все еще в надежде вымолить или выкупить за свои драгоценности свободу возлюбленного брата, проводила его до борта этого кораблика; однако видя, что все усилия ее нежности бесплодны, она бросилась в отчаянии в море и утонула. И до конца дней своих проливал достопочтенный старец Абрам слезы, вспоминая об этой нежнейшей дружбе и любви, так как, несмотря на его чрезвычайную молодость в момент трагического исхода, это печальное воспоминание вставало перед ним как новое, во всех подробностях каждый раз, что он думал о сестре; нежность сестры заслуживала этой слезной жертвы: ведь она так отчаянно боролась за его свободу и оба они были единственными детьми своей матери»[56]. Пушкин в примечании к изданию «Евгения Онегина» 1825 г. явно исправляет «Немецкую биографию», говоря: «<Абрам> помнил также любимую сестру свою Лагань, плывшую издали за кораблем, на котором он удалялся». Как я уже говорил, здесь Пушкин беспечно подчиняется русской традиции передавать латинское «h» русской «гаммой» (так что «Henry», например, превращается в «Генри», a «Heine» надевает маску «Гейне»). Более того, он хочет дать женское окончание имени с последним согласным (что по-русски для женского имени немыслимо), приставив к нему «мягкий знак» (апостроф в английской транслитерации). Удаляющийся корабль, за которым плыла — слегка опережая романтическую эру — пылкая сестра, можно бы, конечно, сократить до тростникового парома на разлившейся реке; да и все происшествие циник бы отбросил как небылицу из разряда тех, которые старость принимает за подлинные события; но есть причина, по которой этот случай заслуживает внимания: имя «Lahann» мне представляется звучащим вполне по-абиссински[57]. Вообще говоря, имена на «L» и особенно на «La» в абиссинских хрониках попадаются сравнительно редко. Словари говорят, что в амхарском есть мужское имя «Лайахан»; в годы правления короля Бахафа (1719–1728) жил генерал по имени Лахен, скончавшийся около 1728 г. в бытность губернатором Хамазена. Мы не знаем, ни сколько лет было расу Фаресу, губернатору Тигре, в 1690-е годы, ни числа его жен или наложниц. Но нам известно, что в ту пору рас Фарес был уже в летах, а также знаем из хроник (Бассе, XVIII, 310)[58], что его молодую жену, умершую, самое позднее, в 1697-м, звали Лахиа Денгел или Лахья Денгел (что на тигре означает «красота Девы») — поразительно похоже на имя девушки, которая могла быть ее дочерью.
Родословная Ганнибала
Чтобы понять разнообразные невероятности и нелепости «Немецкой биографии», стоит вкратце припомнить историю Абиссинии. Евангелие в ней было впервые проповедано около 327 г. от Рождества Христова Фруменцием (ок. 290 — ок. 350), уроженцем Финикии, которого рукоположил в епископы Аксума Афанасий Александрийский. Слух об этой первобытной империи, столь близкой к Аравии, столь далекой от Рима, долго шел до Западной Европы. Первые надежные сведения доставил удачный исход злосчастных странствий, в которые пустились иезуиты-миссионеры, не убоясь неведомых ужасов баснословной страны, в надежде на святые утехи, которые заключались в раздаче образков с истинными кумирами и в тайном перекрещивании туземных детей под благочестивым предлогом медицинской помощи. Из этих храбрецов одни преуспели в мученичестве, другие — в составлении карт. В XVI в. португальские войска помогли абиссинцам избавиться от сравнительно краткого мусульманского господства, которое началось приблизительно в 1528 г. и длилось до середины века. Однажды, около 1620 г., при короле Суснее португальские иезуиты все-таки обратили абиссинцев в гротескный вид католицизма, захиревший примерно в 1630 г. — с воцарением Фасилидаса, который восстановил прежнюю веру и вернул монофизитскому клиру церкви. Уже в новое время русские с радостным изумлением обнаружили сохранившийся еще в Эфиопии своего рода естественный православный вкус к древнему отшельничеству; а протестантские миссионеры были туземцам подозрительны своим равнодушием к изображениям святых женского пола и крылатых мальчиков. В единственно интересный нам период — в последние годы XVII и первые XVIII в. — христианами были почти все абиссинцы, т. е. они принадлежали абиссинской церкви, соединившей в унылую, с коптским душком,смесь самые нелепые идеи древних христианских и иудейских священников, приправив их местными дикарскими мерзостями. Несмотря на память о жестоких вторжениях, государство, исходя из коммерческих соображений, терпимо относилось к мусульманам, а также (из спортивного интереса) — и к племенам негров-язычников, таким, как народность Шангалла, к которой принадлежали черные дикари, что населяли в то время область, соседнюю с Лого или даже включавшую его, там, «где река Мареб, миновав Дебарву, течет сквозь густые заросли» (Брюс. 1790)[59]. В конце XVII в. и позже абиссинские короли с упоением отдавались регулярным сафари на этих язычников, и нет ничего невероятного в предположении, что в одной из таких охот и был захвачен предок Пушкина, потом проданный туркам. К 1700 г. почти стерлись следы мусульманского нашествия, случившегося более полутора веков до того под предводительством Ахмеда ибн Ибрагима эль-Гази, по имени Грань и по-прозвищу Левша, возможно сомалийца. Уже ко времени Иоанна I (ок. 1667–1681) мусульмане, хотя и сохранившие за собой острова у восточного побережья, внутри страны политическую власть потеряли и в абиссинских городах должны были селиться в особых кварталах. Вполне допустимо, что отец Ганнибала был языческим воином или зажиточным мусульманским купцом, равно как и то, что он был местным вождем княжеских кровей, владевшим провинцией или округом; зато совершенно невероятна мысль, будто около 1700 г. всего в 150 милях севернее Гондара, гордой столицы Абиссинии, и меньше чем в 50 милях севернее от священного города Аксума правивший тремя городами абиссинский вельможа мог быть подданным турецкого султана, а значит, и вассалом Оттоманской империи! Примем теперь, что (1) отец Ганнибала действительно был областным правителем в северной Абиссинии и что (2) воспоминания Ганнибала о «налогах» и «дани» искаженным и туманным образом отвечают каким-то историческим реальностям. Ганнибал родился в городе, начинающемся на «L», в собственно Тигре или в Тигре-Эндорте, около 1693 г., в правление Иисуса Великого (Иясу I), который наследовал своему отцу Иоанну в 1680 г. (по Бассе) и погиб от руки убийцы, подосланного королевой Мелакотавит (транслитерация французская), желавшей возвести на престол своего сына, Текла-Хаймонота. Проводя лето 1700 г. в Дебарве, тогдашней столице Тигре, Понсе кутил там с двумя областными начальниками: один, по-видимому, был губернатором всей провинции Тигре (барнегас или бар-негус — титул, первоначально значивший «владыка моря», но к началу предыдущего века почти утративший смысл); второй начальник был или временным соправителем, или окружным губернатором. В хронике, изданной Бассе, встречается рядом с 1700 г. лишь один губернатор Тигре, рас Фарес («рас» или «раз» на гизском языке значит «глава»). Губернатором он стал на одиннадцатом году царствования Иисуса I и к двадцать второму году этого царствования свой пост еще сохранял. Похоже, что в первые годы XVIII в. он получил другую, скорее всего военную, должность, хотя и возвращался то и дело к губернаторству; а второй человек, наверное, управлял в промежутках — и была как раз его очередь, когда Понсе встретил барнегусов вместе. Рас Фарес пережил двухлетнее правление Текла-Хаймонота I и был сослан следующим императором, Теофилом (Тевофлос), правившим три года (ок. 1708–1711), на остров Месрах. Здесь я теряю следы Фареса, который, видимо, в ссылке и умер. Иисус I (1682–1706) был далеко не бездарным деспотом и могучим охотником, только и думавшим, как бы затравить буйвола или дикаря галла. На семнадцатом году его царствования — т. е. в конце 1690-х (когда Ганнибалу было лет пять-шесть) — чиновничьи поборы и грабеж населения при взимании налогов стали до того возмутительными, что император вызвал из Эндорты и остальных округов всех вельмож и потребовал объяснений. Главной статьей торговли была каменная соль. Под предлогом таможенных сборов чиновники почти подчистую реквизировали у торговцев соль, которую те на ослах привозили в город. Император постановил, что по всей стране должен быть единый соляной налог. Пять мулов, груженных солью облагались налогом в один пласт. Скандал этот совпал с прибытием в Абиссинию Понсе, и, возможно, что в него были втянуты и рас Фарес, и разные окружные правители провинции Тигре (включая Эндорту). Несомненно, что по такому случаю император еще непринужденнее, чем обычно, вымогал у губернаторов дань — и преспокойно мог приказать им отослать чиновничьих детей ко двору короля франков в качестве образчиков абиссинской знати.
Ганнибал в рабстве
В те дни абиссинцы, кажется, только тем и занимались, что продавали друг друга в рабство. Есть прелестная история про одного абиссинского священника: другой священник, его приятель, присылает ему молодых богословов, одного за другим он сбывает их мусульманскому работорговцу, потом продает друга священника и, наконец, себя самого. В своих «Путешествиях» (1790) Брюс говорит о Диксане, первом пограничном городе, попавшемся ему на пути от Машуа, (Массавы) — прибрежного острова в Красном море. «Диксан выстроен на вершине холма точно по форме сахарной головы» и населен мусульманами и христианами; «единственное занятие представителей обоих вероисповеданий весьма необычно: они торгуют детьми. Христиане привозят тех, кого выкрали в Абиссинии, в Диксан, считающийся надежным местом; там их забирают мавры и везут на знаменитый базар на Машуа, откуда их переправляют в Аравию и Индию»[60]. Понсе сообщает, что к 1700 г. крепкий раб стоил всего десять экю (пятьдесят шиллингов). По словам Эниды Старки[61], в 1880 г. мальчик шел в среднем за двадцать полосок, вырезанных из медного котла. Лет через восемь, в дни «торговца Рейнбоу» (как англичане звали французского экс-поэта Рембо)[62], христианские мальчики из Абиссинии продавались по восьмидесяти левантийских долларов (ок. 150 шиллингов) за душу. Похоже, что до достижения рабочего возраста выгруженные в Аравии или Турции юные африканцы по большей части служили наложниками. Не знаю, насколько вероятно, чтобы сына вельможи — правителя округа или провинции — прямыми или обходными путями продали в рабство; но есть ясные сведения (например, у Понсе), что в 1700 г. император Иисус смог приказать аристократам — т. е. своим родным, ведь вся знать была с ним в родстве, — послать детей к далекому европейскому двору, что кончилось для неудачливых абиссинских юнцов турецким пленом. Понсе, французский аптекарь в Каире, которого пригласили в Абиссинию лечить Иисуса I от конъюнктивита, выехал из Каира 10 июня 1698 г. и через Нил и Донголу 21 июля 1699 г. прибыл в Гондар. Император назначил молодого армянского купца (по имени «Мюрат» или, точнее, Мюрад бен Магделюн; сообщается, что он был племянником одного из императорских министров) послом во Францию: ему предстояло сопровождать Понсе в Париж с дарами для короля Людовика XIV, в число даров входили слоны, лошади и «jeunes enfans Ethiopiens»[63], отпрыски знатных семейств. Возвращаясь в Каир (на этот раз Красным морем), Понсе выехал из Гондара в Массаву 2 мая 1700 г., планируя по дороге остановиться в столице Тигре — Дебарве, куда он и приехал в середине июля, и там поджидать Мюрада, все еще собиравшего животных и детей. Но ожидание затянулось: несколько коней и единственный слон — молодое, еще без бивней, животное — погибли при переходе через горы Сераве, и 8 сентября 1700 г., прождав Мюрада почти два месяца, Понсе выехал из Дебарвы к побережью. Девять дней спустя он достиг того самого острова Массава, 28 сентября отплыл в Джидду и прибыл туда 5 декабря. Поскольку Мюрад все еще мешкал, очередным местом встречи был выбран Суэц на севере Красного моря, куда Понсе отправился 12 января 1701 г. В конце апреля он приехал в монастырь на горе Синай, где месяц спустя его наконец-то нагнал Мюрад, принесший грустную новость: в Джидде «le Roy de la Mecque»[64] (Великий Шериф Саад?) отнял у него высокородных эфиопских детей, собранных Мюрадом для французского короля, и вполне допустимо, что кого-то из них губернатор Мекки (или Джидды) переправил султану Оттоманской империи, Мустафе II, в качестве собственного скромного подарка. Теперь у Мюрада не осталось никого, кроме двух молодых спутников, купленных в пути, в Суакине: «который постарше эфиоп, который поменьше раб (негр? — В. Н.)». Караван Мюрада и Понсе прибыл в Каир в первых числах июня, и там Понсе представился французскому консулу Майе. В Каире Понсе, которому уже не терпелось попасть во Францию, не поладил ни с Майе, усомнившимся в посольских полномочиях Мюрада, ни с турками, усомнившимися, та ли вера у двух юных рабов (приобретение Мюрада?), которых Понсе захватил с собой. Ле Гран сообщает: «Ага и таможенники <пришли> уведомить его (26 июня 1701 г.), что двое абиссинских слуг, будучи магометанами, подлежат выкупу <…> <Понсе> отвечал, что ежели эти дети магометанской веры», то он лучше подарит их турецкому губернатору Египта. Но вмешался глава местных иезуитов, «охваченный ревностью к спасению обоих детей», и больше Понсе не беспокоили[65]. Удалось ли ему вызволить мальчиков из Каира, мы не знаем. Неясным остается и то, должны ли мы считать этого «jeune esclave Ethiopien»[66], которого Мюрад привез французскому консулу в Каире для отправки во Францию заодно с останками (ушами и хоботом) слоненка, одним из двух мальчиков или же рассматривать его отдельно, как третьего, а может быть, это выражение Понсе должно обозначать их обоих. Этот «petit esclave»[67], уже посаженный на нильскую баржу, которой предстояло отвезти его на корабль, закричал, что он мусульманин, что его увозят силой, что он не хочет ехать к христианам, чем вызвал переполох, вследствие которого турецкие чиновники сняли его с баржи и передали на попечение некоего Мустафы Киайа Каждугли, и после этого Понсе отплыл во Францию. Эпизод этот, кстати, забавно искажен в пересказе Брюса, который пишет, что Понсе, отправляясь во Францию, во время посадки в нильском порту Булаке «беспомощно наблюдал, как купленного им раба, бедного абиссинского парня, которого он вез Людовику XIV <…> янычары сняли с корабля <…> и у него на глазах превратили в мусульманина»[68], — из чего следует, если я верно понимаю мысль Брюса, что мальчик этот был необрезанный язычник-негр, а не христианин-эфиоп, который был бы уже обрезан (на восьмой день после рождения).
Ганнибал в Турции
Описав смерть Лагани при отъезде брата из Абиссинии или из какого-то близлежащего морского порта, «Немецкая биография» продолжает: «Недолгое время спустя после этого расставания навеки Ганнибал прибыл в Константинополь и был заключен в серале вместе с прочими юными заложниками для воспитания среди пажей султана; здесь он и провел год и несколько месяцев»[69]. Остановимся ненадолго, чтобы оценить хронологическую ситуацию. Мы сейчас увидим, что русскому посланнику юный арап мог достаться только между осенью 1702-го и летом 1705-го и что это вероятнее всего 1703 г. Отсчитывая назад, приходим к следующему выводу. Путешествие из его родной внутренней Абиссинии (которую Ганнибалу, согласно «Немецкой биографии», пришлось покинуть в семилетием возрасте) в Турцию должно было продлиться гораздо дольше, чем подразумевается в бессмысленной отговорке «nicht lange nach»[70], даже если его отправили кратчайшим в то время маршрутом — из провинции Тигре в северозападную Турцию. Открывался он маршем к красноморскому порту, затем следовало трудное плавание по Красному морю до Суэца, потом еще один сухопутный переход к средиземноморскому порту и, наконец, долгое, чреватое опасностями и морской болезнью плавание в Стамбул. Учитывая трудности мореходства и обилие неизбежных задержек, приходится отвести на все путешествие по крайней мере год — а может, и больше, если взять в расчет, что Ганнибала могли послать в Турцию не морем, а караванным путем через Аравию и Сирию. Иными словами, если к 1703 г. он прожил в Константинополе около полутора лет[71], т. е. с конца 1701 г., то родину он покинул в 1700 г. Тут нам надо выбрать одну из возможностей: (1) или мальчик попал на константинопольский невольничий рынок в ходе обычной работорговли, или (2) его, как утверждает «Немецкая биография», тайно переправили из султанского сераля русскому послу с помощью великого визиря. Принимая первое предположение, можно сказать только следующее: или агент русского посла подталкивал своего наемщика к большей щедрости, изображая молодого раба дворцовым узником благородного происхождения, или, что более вероятно, русский посол, приобретя мальчика самым обычным способом, состряпал экзотическую историю, чтобы удивить царя. Но раз уж за неимением лучшей гипотезы мы склоняемся к версии знатного происхождения Ганнибала, стоит взглянуть и на исторический фон, подкрепляющий содержание «Немецкой биографии», которая, сказав, сколько пробыл Ганнибал в Константинополе, дает следующее идиотское обоснование его освобождению: «В это время в России царствовал император Петр Первый, который, насаждая искусство и науку в своем государстве, старался распространить их в благороднейшей части своих подданных — в дворянстве. Хотя ему удалось достичь в этом предприятии известных успехов, однако если иметь в виду громадную массу дворянства обширнейшей империи мира, то число проявляющих охоту к учению было слишком незначительно; это-то и вызвало в благородном государе болезненное огорчение и озабоченность. Он искал способ представить своему народу <…> примеры и образцы для подражания. Наконец ему пришло на ум написать в Константинополь тогдашнему своему посланнику, чтобы тот достал ему и переслал нескольких африканских арапчат, отличающихся хорошими способностями. Его министр в точности выполнил это повеление: он познакомился с надзирателем seraglio[72], где воспитывались и обучались пажи султана[73], и наконец, тайным и отнюдь не безопасным способом, при посредстве тогдашнего великого визиря, получил трех мальчиков…»[74]. Один из них был Ганнибал. Петра Толстого историки рисуют как личность темную, хитрую и беззастенчивую. В 1717 г. царь послал его за царевичем Алексеем, наследником престола, который, воспользовавшись отъездом жестокого государя за границу, улизнул из России в Австрию и Италию и которого выследили и вернули царские агенты, совершив ряд бесшумных действий, отмеченных той гипнотической цепкостью, убедительностью и лживостью, которые мы сегодня привыкли связывать с повадками советских головорезов при насильственной репатриации беженцев. Человеку, сумевшему выманить Алексея из надежного Неаполя в ужасное отечество на пытки и смерть под личным наблюдением Петра, легче легкого было раздобыть несчастного арапчонка в забаву своему хозяину[75]. Я считаю, что царский посол при Оттоманской порте приобрел Ганнибала для службы у царя и по его приказу не раньше 1703-го и не позже 1704 г., и мое мнение подкрепляет сам Ганнибал в следующих документах: (1) В письме из Парижа советнику Макарову, отправленном 5 марта 1721 г. (вероятно, нового стиля)[76], Ганнибал говорит, что служит царю семнадцать лет. (2) В посвящении императрице Екатерине I в 1726 г. (преподнося ей учебник фортификации, составленный по его конспектам времен Ла Фера или Меца[77]) он говорит, что двадцать два года прожил «при доме» (в жилище, в свите, среди челяди) покойного царя (который умер в 1725 г.)[78].
Ганнибал и Рагузинский
«В это время, — продолжает „Немецкая биография“, пользуясь излюбленным оборотом, — умер отец покойного генерал-аншефа Ганнибала, которого он оставил в пожилом и почти дряхлом возрасте, и очередь наследования досталась на долю одного из его единокровных братьев. <…> Российский императорский министр, счастливый выполнить волю своего государя, отправил этого Ибрагима Ганнибала, еще одного черного мальчика знатного происхождения, его соотечественника (который в пути скончался от оспы), и одного рагузинца, почти сверстников, все моложе десяти лет, в Москву[79]. Государь, опечаленный потерей третьего, был доволен получением этих двух прибывших мальчиков и взял на себя заботу об их воспитании, с тем большим усердием, что, как было сказано, они должны были стать образцом, который бы он мог ставить своему народу в пример и в посрамление, как доказательство, что из каждого народа, и не меньше из негров, почти диких людей, которых наши цивилизованные нации определяют только в сословие рабов, могут быть выработаны люди, способные прилежанием получить знания в науках и тем приобрести способность быть полезными и нужными, во всех случаях пригодными слугами своего государя. Император Петр Великий, в качестве не менее великого знатока людей, установил сразу наклонности своих прибывших питомцев и предназначил своего Ганнибала, живого, расторопного и горячего мальчика, в военную службу, рагузинца же, впоследствии известного в России под именем графа Рагузинского, как более тихого и вдумчивого, — к гражданской службе»[80]. При Мустафе II и Ахмеде III турки взимали с Рагузы дань (например, в 1703 г. сумму в 4000 дукатов), так же как с арабских племен, но закон о взимании дани в виде христианских мальчиков, хотя и сохранял номинально силу до 1750 г., не соблюдался с середины предшествующего века. Нет никаких оснований доверять тому, что Савву Владиславича завлекли в Константинополь его врожденные наклонности к приключениям или торговые дела отца, но тот факт, что в прежние времена среди заложников встречались рагузинские мальчики, мог так или иначе повлиять на рассказ о детстве Ганнибала. 25 сентября 1702 г., через месяц после приезда в Турцию, Петр Толстой писал графу Федору Головину, министру иностранных дел: «…константинопольский житель, породою рагузенин, Сава Владиславов, как вам известно, человек добрый, ныне по обнадеживанию моему поехал с товаром в Азов, а из Азова к Москве <…>. Он всеконечно в странах сих Московскому государству благопотребен»[81]. Осенью того же года Владиславич прибыл в Азов с изрядным грузом оливкового масла, хлопка и ситца и наконец (к первой неделе апреля 1703 г.) добрался до Москвы, где привезенные им тайные донесения очень расположили к нему Петра. Захватив в обратный путь соболя, горностая, русскую лису (с белым воротником и рыжую) и волка (московского и азовского), он вернулся в Константинополь в 1704 или в начале 1705 г., а летом 1705-го опять отправился в Азов и Москву, везя новый ситец, новые тайные депеши от Петра Толстого и живой подарок царю[82]. Ясно, что Ганнибала получили во время пребывания Владиславича в Константинополе, между двумя его поездками. Судя по письму царя брату константинопольского посла Ивану Толстому, коменданту Азова, Владиславич оказался в Москве с донесениями и, вероятно, с арапчонком не позднее 12 января 1706 г. (точную дату его приезда легко установить по неизданным документам из местных архивов). В 1716–1722 гг. Владиславич ездил с дипломатическими поручениями в Венецию и Рагузу, а в 1725–1728 был послом в Китае.
Первые годы Ганнибала в России
К приезду Ганнибала в Россию у Петра в самом разгаре была шведская кампания, с военными действиями в Польше, имевшими переменный и призрачный успех. В Москве он развлекался устройством анатомического и биологического музея, перед которым разбил ботанический сад. Несомненно, арапчонок пришелся ко двору как очередная диковина. В июле — августе 1706 г. Петр посетил Киев и, снова отправившись на север, поспел в «Питербурх» (или в «Парадиз», как он ласково звал только что заложенный город) как раз к увлекательному зрелищу первого наводнения — 11 сентября 1706 г. Забавнее всего был вид людей, жмущихся на крышах полузатопленных домишек. Петр снова приехал в Вильно (на обратном пути из Варшавы в Петербург) 24 сентября 1707 г. и пробыл там до 10 октября. Именно тогда и окрестили самое меньшее четырнадцатилетнего Ганнибала, получившего при крещении имя Петр[83]. Более или менее одновременно (27 сентября 1707 г.) его царственный крестный намарал записку о наречении потомства Лениты или Ленты (от латинского «lenis» — «кроткий» или «lentus» — «упорный», «медлительный»), английского мастиффа: двумя годами ранее в Полоцком монастыре царь натравил эту собаку на Феофана, слишком прямого монаха-униата из ордена св. Василия, а потом сам разрубил его надвое саблей. Псевдоклассические клички семи щенков, безусловно переведенные царем из какого-то расхожего сборника имен, звучат в обратном переводе с неуклюжего русского языка Петра так: Пиррус (рыжий), Эос (заря), Аэтон (яркий), Флегетон (пылающий), Паллада, Нимфа и Венера. Итоговую фамилию Аннибал, доставшуюся арапу, тоже мог придумать просвещенный монарх, хотя есть и другие возможности[84]. Судьбу молодых мастиффов можно проследить по другой записке, писанной две недели спустя, в которой царь приказывает найти из его иностранных подручных какого-нибудь умельца для обучения собак всяким фокусам, например снимать шляпу, вскидывать игрушечный мушкет, маршировать в воду с боевой выкладкой. В то время, по сообщениям западных наблюдателей, повторное или первое крещение и детей и взрослых при петровском дворе состояло в троекратном обливании холодной водой с головы до пят. Если Ганнибал родился абиссинским князьком, его должны были крестить при рождении, так как Абиссиния приняла христианство за шесть веков до России; но вполне вероятно, что в плену турки сделали его мусульманином («побасурманили» — на тогдашнем русском), что бы под этим ни подразумевалось. Вопрос этот, однако, совершенно праздный, поскольку, во-первых, на взгляд русских любой африканец был язычником и, во-вторых, обряд, который свершился над малолетним арапом в Пятницкой церкви в конце сентября или начале октября 1707 г. (а не в 1705-м, как почему-то выбито на памятной доске)[85] с восприемниками Петром I и Христиной-Эбергардиной, женой Августа II короля Польского[86], производился в буйной и фарсовой атмосфере царского двора, где чмокались уроды на своих потешных свадьбах, а шуты возводились в губернаторы Баратарии. И, кажется, за несколько месяцев до крещения какие-то усердные придворные и впрямь попытались женить арапа: в письме из Польши от 13 мая 1707 г. царь пишет советнику Автоному Иванову, что он против брака арапа, — видимо, с дочерью негра в услужении какого-то вельможи, или с карлицей, или с домашней дурой, с шутихой. Для гена, участвовавшего в создании Пушкина, минута эта была критической, и царь заслуживает благодарности за выправление путей судьбы. Перейдем к анекдотам о юности Ганнибала. Самый известный рассказан с идиотскими подробностями в «Немецкой биографии» и с индивидуальными отклонениями повторен Голиковым и Пушкиным. Суть его в том, что молодой Абрам, став пажом (или помощником пажа) у царя, спал в соседней комнате и доказал свою сообразительность, переписывая наброски указов, которые его господин царапал ночами на грифельной доске[87]. В документе от 20 декабря 1709 г. (приводится у М. Вегнера, с. 23) есть место: «По приказу <царя> деланы кафтаны: Якиму Карле и Абраму-арапу, к празднику Рождества Христова, с камзолы и штаны. Куплено сукна красного обоим по осьми аршин <…> им же пуговиц медных»[88]. Е. Шмурло (1892) туманно говорит о каких-то документах, где «три раза упоминается Абрам вместе с царским шутом Лакостой»[89]. Это Иан Декоста или, точнее, Ян д’Акоста, любимый придворный шут Петра, крещеный еврей родом из Голландии[90]. В другом анекдоте говорится, что как-то летом приблизительно 1715 г., накануне отплытия царя из С.-Петербурга в Ревель, царский врач Лесток и камергер Жонсон, два весельчака, увидя, что царский дурак, Тюриков[91], заснул на палубе, сыграли с ним шутку в духе той эпохи: присмолили ему длинную бороду к голой груди. Проснувшись, бедный шут взвыл, прервав занятия царя по прокладке курса и порке матросов, и тот, затопав по палубе, налетел на невинного Ганнибала и в ярости немилосердно отстегал его линьком[92]. За обедом шалуны не могли удержаться от смеха при виде понурого мавра. Когда добрый царь, тоже любитель порезвиться, узнал причину веселья, то расхохотался и сказал Абраму, что поможет делу, закрыв глаза на следующую его провинность. Вот, пожалуй, и все, что я смог найти в изданных материалах относительно первых десяти лет Ганнибала в России. Можно отбросить как семейную выдумку пассаж «Немецкой биографии», где утверждается, что «правящий единокровный брат» Ганнибала поручил младшему брату отправиться в Константинополь и выкупить Абрама; что, не найдя его, брат этот поехал в Петербург, везя дары в виде «ценного оружия и арабских рукописей», удостоверявших княжеское происхождение Абрама; что последний не пожелал вернуться к язычеству и что брат пустился обратно «с большой скорбью с той и другой стороны». Едва ли есть нужда в напоминании, что ни один абиссинский вельможа не проехал бы в Московию через Турцию, не попав там в рабство, и что история ничего не сообщает о вольном абиссинце, предпринявшем подобное путешествие в начале XVIII в. Похоже, царь действительно иногда брал арапа в путешествия или кампании, но едва ли во все походы, как считает семейная традиция. Стилизованный молодой арап в более или менее турецком облачении мелькает, как призрак, на аллегорическом фоне — держа боевого коня или гроздь винограда — на нескольких портретах Петра I. Он есть на гравюре, выполненной Адрианом Шхонебеком (скончался в 1705) с утраченной картины, написанной около 1704 г.[93]; он стоит чуть сзади по правую руку царя, который тем временем щеголяет в костюме французского короля. Я не уверен, что в датировке вещи или смерти гравера нет ошибки. Но если принять эти даты за верные и арапа на картине за Ганнибала, то следует предположить, что или его привез Рагузинский в первую поездку в Москву (1703), или же он изображен, так сказать, заранее — на основании вестей, пришедших в Москву из Константинополя: арап среди челяди символизировал верх роскоши и пышности, и, должно быть, царь ждал подарка к новому, 1706, году от своего посла с не меньшим нетерпением, чем груза сирени и лилий.
Ганнибал в Западной Европе
В январе 1716 г. Петр I отправился в поездку по Европе. Проведя месяц или около того в Копенгагене, он поехал в Голландию, потом во Францию. Он высадился в Дюнкерке и 7 мая прибыл в Париж, где немедля потребовал пива и блудниц. Филипп, герцог Орлеанский, был регентом Франции (1715–1723) при несовершеннолетнем Людовике XV. Ничего, кроме вороха грязных историй, шестинедельное пребывание царя московитов в памяти французов не оставило — хотя не совсем ясно, что в привычках Петра так поразило знать времен Регентства — эту гнусную свору отвратительной и бездарной эпохи. Той же весной 1717 г. во Францию приехали четверо юношей из России для изучения фортификации и саперного дела. Они, может быть, ехали вместе с царем, но скорее всего путешествовали отдельно и не останавливались в Дании. Эти четверо были: Абрам-арап, Степан Коровин, Гаврила Резанов и Алексей Юров, приятель нашего героя[94]. «Немецкая биография», с обычными своими преувеличениями, дурной грамматикой и неточностями, говорит, что Петр I послал Ганнибала прямо к регенту, попросив «взять на себя наблюдение за ним», и что сначала Ганнибал занимался при великом Белиоре (sic! — В. Н.)[95] «в военной школе для молодых дворян». Имеется в виду, я полагаю, Бернар Форе де Белидор (1693–1761)[96], блестящий молодой французский инженер, преподававший в Артиллерийской школе в Ла Фере[97] (в Эне, к северо-западу от Лаона) и написавший «Sommaire d’un cours d’architecture militaire, civile et hydravlique» (1720)[98] и другие замечательные труды. Согласно «Немецкой биографии», во Франции Ганнибал вступил в артиллерийский полк и как капитан роты участвовал в войне с Испанией. Война была объявлена 9 января 1719 г., мир подписан 17 февраля 1720-го. При минировании — я думаю, где-нибудь в Каталонии — его серьезно ранили в голову и взяли в плен (странно, что в письмах из Франции он об этом событии не говорит)[99]. По возвращении во Францию Абрам, очевидно, продолжил занятия уже в другом училище — в Артиллерийской школе в Меце, основанной знаменитым военным инженером Себастьяном Ле Претром, маркизом де Вобан (1633–1707)[100]. В январе 1722 г. русский посол князь В. Л. Долгоруков объявил четырем юношам, что они должны вернуться в Россию, но те задержались еще на год. Какую-то часть этого года Абрам с товарищами, видимо, провел в Париже — лихорадочном Париже, доведенном Джоном Лоу до финансовой агонии. Начало весны отметили баснословные балы и иллюминации в честь прибытия предполагаемой невесты короля, белокурой малютки инфанты четырех с половиной лет, которая, однако, двенадцатилетнему Людовику не понравилась. Регент энергично кутил и развратничал. Куртизанки носили шелковые чулки телесного цвета. Ворам и разбойникам надевали железные колодки, грели ноги на обычном или усиленном огне и готовили горячие ванны из кипящего масла. Казнив преступников, употребляли финансовый термин «ликвидированный». Поэта Аруэ (известного под именем Вольтер) высекли лакеи офицера, которого он обозвал полицейским шпионом. Чудовищные суммы выигрывались и проигрывались в «фараон». Маркиз де Сальян счастливо бился об заклад, что проскачет верхом девяносто миль за шесть часов. О том, какое существование вел Абрам среди всего этого ослепительного веселья, известно мало — известно лишь, что он жил в постоянной и позорной нужде. Во французских мемуарах о Регентстве я не нашел подтверждения словам Пушкина в романе, будто знатные дамы наперебой приглашали «царского арапа» («le nègre du Czar»), будто он был на дружеской ноге с Вольтером и будто драматург Мишель Гюйо де Мервиль[101] познакомил его с женщиной высшего света, графиней Ленорой Д., родившей ему черного ребенка. Письма Абрама, написанные по-русски из Франции разным чиновникам (с воплями о деньгах, с мольбами не посылать его домой по морю, уж лучше он пешком пойдет, чем плыть, с тщетными просьбами разрешить задержаться во Франции для дальнейших занятий и т. п.), по-моему, составлены не им, а его товарищем по преувеличенному несчастью, Алексеем Юровым. После шести или семи лет за границей[102] Абрам, похоже, настолько забыл русский, что самодержец спровадил его по возвращении в грамматическую школу при Александро-Невском монастыре, куда его зачислили 14 марта 1723 г. (ст. ст.). К императорскому двору он, видимо, вернулся 27 ноября 1724 г. Комментаторов занимал вопрос, не имеется ли здесь в виду какой-нибудь другой «арап Абрам» (хотя ни о каком другом сведений нет), поскольку, по их мнению, это несовместимо с собственноручным указом царя от 4 февраля 1724 г., которым Абрам производился в лейтенанты (поручики) бомбардирской роты Преображенского полка[103]. Но ведь и вся эпоха была довольно безрассудной. Ганнибал вывез из Франции библиотечку (69 названий) главным образом исторических трудов, военных учебников, путешествий и горсть модной экзотики; все эти томы он продал (в 1726 г.) за 200 рублей Императорской библиотеке, но выкупил их (или сходный набор) в 1742-м. Хотя перечень совершенно шаблонный, с литературным разделом из Боссюэ, Мальбранша, Фонтенеля, Корнеля и Расина, чувствуется отчетливый уклон к разного рода путешествиям: Шарден приглашает читателя в Персию, где обнаруживается, что молочная диета лечит язвы; Лаонтан навещает, в какой-то предшатобриановой Америке (1688), гнаскитаров и моземлеков, никем после него не виденных, и Сирано де Бержерак едет на Луну, где именем каждому жителю служит только коротенькая мелодия из нескольких нот.
Ганнибал и Аннибал
Официальным именем крестника Петра I стало Петр Петрович Петров (христианское имя, отчество и фамилия), но в Турции он привык к имени Ибрагим и получил разрешение называться по-русски соответственным именем Абрам или Авраам. В общем-то ему не стоило воротить нос от имени своего крестного: существовал же в конце концов Петр Эфиоп (Pasfa Sayon Malbazo), издавший ок. 1549 г. в Риме, после тринадцатилетних трудов, Новый Завет на языке абиссинской литургии (т. е. на гизском — это древнеэфиопский язык, уступивший место амхарскому). Утверждение в начале «Немецкой биографии», что, дескать, отец Абрама, горделивый абиссинский князь, возводил родословную на два тысячелетия назад к Ганнибалу — знаменитому карфагенскому полководцу, — конечно же чушь: нельзя представить, чтобы абиссинец XVII в. хоть что-то знал о нем. Фамилия Ганнибал по отношению к Абраму встречается в официальных документах начиная с 1723 г., после возвращения из Франции[104]. При более ранних упоминаниях его зовут Абрам-арап или Абрам Петров Арап, где посередине стоит отчество, превращающееся в фамилию. Странно, что русских исследователей ставит в тупик выбор имени, хотя его причины лежат на поверхности. Например, Анучин выдвигает нелепую гипотезу, будто Абрам или его семья могли считать имя «Ганнибал» производным от Ади Баро (деревня точно к северу от Дебарвы, северная Абиссиния)! Почему бы не от Лалибалы (абиссинского императора XIII в.), или от Гамальмала (губернатора провинции, взбунтовавшегося против своего царствующего кузена Малака Сагада I в конце 1500-х годов), или, еще лучше, от «gane bal», что на языке тигре значит «незнакомый господин»; в этих лингвистических petits-jeux[105] запрещенных приемов нет. Разумеется, на самом деле эпоним нашего героя был столь же стертым и заезженным в псевдоклассической Европе XVIII в., как Цезарь или Цицерон — в учебниках, эссе, исторических трудах, газетных статьях и академических речах. В России царя Петра никакая просвещенность не считалась полной, пока имена греческих и римских героев не вспыхивали в фейерверке античных речений. Пушкин совершенно верно галлицизировал взятую фамилию, которую Ганнибал скорее всего вывез в 1723 г. из Франции. Там и в Италии она нередко встречалась в виде имени (например, Франсуа Аннибал, герцог д’Эстре, скончался в 1687 г.). Он, очевидно, набрел на нее по ходу военных штудий. О «величии Аннибала» он читал у Боссюэ в «Discours sur l’histoire universelle»[106]. Если Ганнибал действительно участвовал в Испанской войне, то должен был стоять в 1719-м в крепости Бельгард (перестроенной Вобаном в 1679 г.) и там, у испанской границы, близ деревни Ле Пертюс (Восточные Пиренеи), ступать по Слоновьим Следам Ганнибаловой дороги, до сих пор различимой сквозь земляничные деревья и дубняк. А еще хочется знать, не был ли в Меце его однокашником некий Пьер Робер по прозвищу Аннибал (1699–1783), живший там, судя по приходским книгам, изданным Пуарье[107], ок. 1720 г.
Последние годы Ганнибала в России
«Le capitanie Petrov dit Annibal»[108], приобретя во Франции кое-какие сведения о бастионах и контрфорсах, с 1723 г. жил в России, уча математике и строительству крепостей. Специальным исследованием последнего этапа его жизни я не занимался — в главных чертах он достаточно хорошо изучен, и, как установили русские ученые, сибирский период Пушкин изобразил неверно. 8 мая 1727 г., как только кончилось царствование Екатерины I, ему поручили инспекцию казанской крепости, а затем строительство форта в Селенгинске, на китайской границе, где, кстати, поручик Ганнибал встретил бывшего своего покровителя, графа Владиславича-Рагузинского, на обратном пути из Китая. Из-за туманных обвинений в политических интригах Ганнибалу пришлось проработать в Селенгинске и Тобольске два года, и только в начале правления Анны губернатор С.-Петербурга Миних, нуждаясь в хороших военных инженерах, перевел его в крепость на Балтике. В 1731 г. Ганнибал женился на Евдокии (Eudoxia) Диопер, дочери капитана флота, Андрея Диопера, видимо, греческого происхождения[109]. Она ему была неверна, он отвечал тем же. Из документов, описанных Степаном Опатовичем («Русская старина», 1877), видно, что в 1732 г. Ганнибал соорудил у себя дома частную камеру пыток с дыбой, тисками, бичами и т. п. Настойчивый и педантичный, он добился для своей жертвы тюремного заключения за супружескую измену. Пять лет она провела в тюрьме, а затем — пока тянулось бракоразводное разбирательство — жила более или менее на свободе до 1753 г., когда был решен окончательный развод, после чего бедняжку сослали в глухой монастырь, где она умерла. Тем временем в 1736 г. Ганнибал женился (незаконно) на своей любовнице с четырехлетним стажем, дочери еще одного капитана, на этот раз армейского, по имени Маттиас Шеберг, лютеранина из шведско-немецкого рода. От второй жены (которую, согласно «Немецкой биографии», звали Христина Регина) у Ганнибала было 11 детей, из них третий сын, Осип, стал дедом Пушкина с материнской стороны. Несколько лет Ганнибал прожил как помещик на купленной земле, потом снова строил крепости. В 1742 г. Елизавета, младшая дочь Петра I, произвела его в генерал-майоры и через четыре года пожаловала поместье Михайловское в Псковской губернии[110], которому суждено навеки соединиться с именем Пушкина. За эти годы Ганнибал выказал себя знатоком в устройстве фейерверков на официальных торжествах и в составлении доносов на разных чиновников. В 1762 г., построив последнюю крепость и запустив последнюю шутиху, он ушел на покой и забытым стариком жил еще двадцать лет в еще одном поместье (Суйда, под Петербургом), где и умер в 1781 г. в преклонном возрасте — (вероятно) восьмидесяти восьми лет[111].
Заключение
Кроме незаконченного романа «Арап Петра Великого» (1827) (в котором пленительному Ибрагиму приписаны выдуманные приключения во Франции и в России, — это не самые удачные пушкинские страницы), среди сочинений Пушкина есть замечательная стихотворная вещь с тем же персонажем. В пяти строфах постскриптума к написанному четырехстопным ямбом стихотворению «Моя родословная» (посвященному предкам по отцовской линии) о своем предке по матери Пушкин говорит следующее:
В. С. Листов Легенда о черном предке
К биографии своего предка по материнской линии Абрама Петровича Ганнибала Пушкин испытывал, как известно, постоянный интерес и возвращался к подробностям ее многократно и по разным поводам. Если вспомнить, что еще в 1817 г. в псковской деревне недавний выпускник лицея расспрашивал своего двоюродного деда о черном предке, а два десятилетия спустя придворный историограф отыскивал всякую строку об африканском сподвижнике Петра I, то станет ясным: вся жизнь Пушкина прошла под знаком самого высокого уважения к этой исторической личности. Надо ли напоминать о том, как могучая фигура Абрама Ганнибала выступала на страницах пушкинских произведений — от «Евгения Онегина» и «Арапа Петра Великого» до «Моей родословной» и «Опыта отражения некоторых нелитературных обвинений»? Написано об этом много[133]. Однако тема и до сих пор не кажется исчерпанной. В сознании поэта «царский арап» был персонажем объемным и многозначным — это очевидно. Пушкин не был бы Пушкиным, если бы в размышлениях своих ограничивался только реальным, документально достоверным Ганнибалом. Сколько бы ни занимали его факты из жизни «негра безобразного», все же поэт и философ порою должны были торжествовать здесь над историографом. Поэтому, предполагаем мы, образ Ганнибала слагался у Пушкина как некое многогранное единство, возникающее на скрещении истории и современности, фактографии и мифологии, прозы и поэзии. В этом смысле весьма показательно одно пушкинское замечание из «Опыта отражения некоторых нелитературных обвинений». Оно навеяно известным случаем: Булгарин в «Северной пчеле» наносит едва замаскированное оскорбление памяти Ганнибала. На это Пушкин откликается так: «В одной газете (почти официальной) сказано было, что прадед мой <…> был куплен шкипером за бутылку рому. Прадед мой если был куплен, то, вероятно, дешево, но достался шкиперу, коего имя всякий русской произносит с уважением и не всуе». Это о Петре. И далее о Булгарине: «…не похвально ему за русскую ласку марать грязью священные страницы наших летописей, поносить лучших сограждан и, не довольствуясь современниками, издеваться над гробами праотцев» (XI, 153). Таким образом, Ганнибал назван в первый раз среди «лучших сограждан», а во второй — среди «праотцев». Несходные смысловые ряды, в которых упоминается царский арап, различаются здесь совершенно ясно. Первое определение вполне естественно звучит под пером гражданского историка, публициста, литератора. Второе влечет за собой совсем иной круг ассоциаций. Недаром же Пушкин так редко, так осмотрительно им пользуется. Только еще однажды[134] решается он назвать «праотцами» Кочубея и Искру — в финале «Полтавы»:(V, 64)
(VI, 131)
(VI, 177)
В. П. Старк Пушкин и семейные предания его рода
История рода Пушкиных, предков поэта по линии отца Сергея Львовича и бабушки Марии Алексеевны, урожденной Пушкиной, стала предметом детального изучения, начиная еще с 1850-х годов. Происхождение ни одного из русских писателей так не волновало читателей, как пушкинское, но и ни один из них столь настойчиво не обращался в своем творчестве к теме предков. М. П. Алексеев в предисловии к книге В. М. Русакова, посвященной уже потомкам Пушкина, писал: «Пушкин любил заниматься генеалогией своих предков. Хорошо известно, что это увлечение, имевшее глубокие корни, нашло неоднократное отображение во всем его творчестве — поэзии и прозе, в критических статьях, письмах, деловых документах… Достаточно напомнить такое стихотворение, как „Моя родословная“, или исторический роман „Арап Петра Великого“, созданный на основе его собственных генеалогических изысканий архивного характера и семейных преданий»[153]. Корни этого «увлечения», если не сказать сильнее, восходят к прочному и выстраданному поэтом убеждению, что гордость своим родом есть основа основ, столп «самостояния человека»: «Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно; не уважать оной есть постыдное малодушие» (XI, 55). В письме графу А. X. Бенкендорфу, оправдывая себя по поводу стихотворения «Моя родословная», Пушкин пишет: «…я чрезвычайно дорожу именем моих предков, этим единственным наследством, доставшимся мне от них» (XIV, 242; оригинал по-французски). К сожалению, и это наследство оказалось в беспорядочном состоянии, что стало причиной многих досадных упущений и ошибок самого Пушкина в его обращениях к истории рода. Завершая первое из них, т. е. примечание к строфе L главы первой «Евгения Онегина» в его первом издании, автор сам же сетует на ограниченность своих источников: «В России, где память замечательных людей скоро исчезает, по причине недостатка исторических записок, странная жизнь Аннибала известна только по семейственным преданиям» (VI, 655). Эти предания — в силу специфики своего возникновения и бытования — неизбежно грешат вольными или невольными ошибками, хронологическими несуразицами и домыслами во имя возвеличения рода. Предания пушкинского рода в этом смысле не исключение. Другое дело, что Пушкин недостоверными источниками пользовался с большой осторожностью и добросовестностью историка. Но и он не мог избежать ошибок, которые со временем повторяли его биографы, не всегда умевшие дать им должную критическую оценку. Перенесенные же из сферы научной в повседневно широкое обращение, дополненные досужими толкованиями, эти версии, высказанные в осторожной форме, тиражировались и приобретали характер аксиом, искажая и даже вовсе преображая истинную историческую картину. Характернейшим образцом подобного мифотворчества, связанного с предками Пушкина, может служить его обращение к биографии деда Льва Александровича. В стихотворении «Моя родословная» (1830) Пушкин пишет о нем:(III, 262)
1
«Мой предок Рача…»
В «Опровержении на критики» есть слова, зачеркнутые Пушкиным, но не утрачивающие от того своего смысла: «Я русский дворянин, и <…> знал своих предков прежде, чем узнал Байрона» (XI, 406). В «Борисе Годунове» уже отразилось это знание, восходящее к «Истории государства Российского». О времени же происхождения своего рода Пушкин впервые упоминает в полемическом послании К. Ф. Рылееву лета 1825 г. (сохранился лишь черновик). В ответ на рылеевский вопрос: «Тебе ли чваниться пятисотлетним дворянством?»[157] Пушкин поправляет Рылеева: «Ты сердишься за то, что я чванюсь 600-летним дворянством (NB. Мое дворянство старее)» (XIII, 219). Таким образом, поэт возводит свой род к первой половине XIII в., т. е. к эпохе Александра Невского. Позднее он закрепляет свое утверждение в стихотворении «Моя родословная», статье «Опровержение на критики», в «<Начале автобиографии>», повторяя тем самым и первую ошибку относительно истории своего рода. В действительности его род еще старше — примерно на сто лет, и Пушкину следовало бы называть себя «семисотлетним дворянином». В отрывке III повести «Гости съезжались на дачу», который датируется концом 1829 — началом 1830 г., русский, беседуя с испанцем, говорит: «…корень дворянства моего теряется в отдаленной древности» (VIII, 42). В вариантах рукописи после этих слов можно прочесть: «я не мог отыскать в хрониках моего родонача<льника> — знаю только, что предки мои уже сражались близ Алекс.<андра> Невск.<ого>…» (VIII, 542). В стихотворении «Моя родословная» поэт, называя имя основателя рода, прямо связывает его с именем великого новгородского князя:
(III, 262)
2
«С Петром мой пращур не поладил…»
В «Опровержении на критики» Пушкин пишет о представителях своего рода конца XVII в.: «При Петре они были в оппозиции, и один из них, стольник Федор Алексеевич, был замешан в заговоре Циклера и казнен вместе с ним и Соковниным» (XI, 161). Давно уже замечено, что здесь Пушкин описался, назвав Федора Матвеевича Федором Алексеевичем. Позднее, в «<Начале автобиографии>», он называет правильно его и его отца: «…окольничий Матвей Степанович [подписался] под соборным деянием об уничтожении местничества (что мало делает чести его характеру). При Петре I сын его, стольник Федор Матвеевич, уличен был в заговоре противу государя и казнен вместе с Цыклером и Соковниным» (XII, 311). В стихотворении «Моя родословная» поэт помянет именно его:
(III, 262)
3
«Родной брат деду моего отца…»
В именном указателе академического собрания сочинений А. С. Пушкина можно прочесть: «Пушкин, Алексей Петрович (XII, 314) („тамбовский воевода, родной брат деду моего отца“), 435 („Алексей Петрович“)». Первое указание отсылает нас к «<Началу автобиографии>», второе — к «Генеалогическому древу Пушкиных». В незавершенной работе «<Начало автобиографии>» Пушкин, в частности, пишет об Осипе Абрамовиче Ганнибале: «…дед мой служил во флоте и женился на Марье Алексеевне Пушкиной, дочери тамбовского воеводы, родного брата деду отца моего (который доводится внучатным братом моей матери)» (XII, 313–314). В сложном построении этого генеалогического указания Пушкин допустил неточность, объединив два поколения разных ветвей своего рода в одно. Дедом отца поэта был Александр Петрович Пушкин, а его родным братом Федор Петрович — не отец, как получается по Пушкину, а дед Марии Алексеевны. Следовательно, и отец поэта Сергей Львович доводился своей жене не внучатным (т. е. троюродным) братом, а троюродным дядей. Сам же Пушкин, таким образом, вследствие двойного соединения представителей одного и того же рода, приходился своей матери не только сыном, но и кузеном в четвертом колене, т. е. четвероюродным братом. Ошибка Пушкина относительно степени родства своих прадедов и родителей осталась до сих пор незамеченной и оттого явилась источником ряда неправильных указаний на этот счет в позднейшей литературе. Даже такой крупнейший исследователь творчества Пушкина, как Ю. М. Лотман, отталкиваясь от этого пушкинского текста, в своей известной биографии А. С. Пушкина пишет: «Отец и мать поэта были родственники (троюродные брат и сестра)»[169]. После выхода в свет его книги, пользующейся заслуженным признанием и разошедшейся миллионным тиражом в серии, предназначенной в качестве пособия для учащихся, автору этих строк приходилось не раз доказывать истину читателям лотмановской биографии Пушкина и даже людям, никогда ее не читавшим, но услышавшим от своих учителей, друзей и т. д. о том, что родители Пушкина приходились друг другу троюродными братом и сестрой. Далее следует вопрос насчет законности такого брака. Лишь для венчания двоюродных требовалось особое разрешение Синода, а в данном случае они и вовсе лишь троюродные дядя и племянница, да еще носившие до свадьбы разные фамилии. В «Воспоминаниях о детстве А. С. Пушкина» О. С. Павлищева, как уже отмечалось, совершенно правильно характеризует родство своей бабушки Марии Алексеевны с ее зятем Сергеем Львовичем. Л. Н. Павлищев в свою очередь сообщает, что «Сергей Львович, женившийся на внучке Ибрагима (Авраама) Петровича Ганнибала, негра Петра Великого, состоял с женой своей, Надеждой Осиповной, в родстве, так как мать ее, Марья Алексеевна Ганнибал, рожденная Пушкина, приходилась ему внучатой сестрою»[170]. Приведенный пример показывает, что всякая попытка извлечения какого-либо факта биографии предков поэта из его произведений, не подвергнутая тщательной проверке по другим источникам (к чему он сам постоянно стремился, но не всегда имел к тому возможность), способна привести к закреплению ошибок Пушкина. Так, на основе неизвестного документа Пушкин составляет генеалогическую записку, дошедшую до нас лишь в копии П. И. Бартенева. Она была впервые напечатана М. А. Цявловским[171] и включена в академическое собрание сочинений (XII, 437), но никогда не подвергалась критической оценке. Приведем ее полностью:
Генеалогическое древо Пушкиных
 (несообразность: дед мой умер в 1807[172] году в св. Пск. деревне).
В записи отец бабушки Марии Алексеевны (1745–1818) значится братом Александра Петровича Пушкина, хотя на самом деле он приходился последнему племянником. Пушкин указывает на несоответствие возраста Осипа Абрамовича (1744–1806) и его супруги. Если следовать этой схеме, он был женат на дочери некоего Алексея Петровича, который должен был жить еще при Петре I. Пушкин, таким образом, выражает сомнение в правильности этого построения. Тем не менее, как уже говорилось, в «<Начале автобиографии>» он называет отца Марии Алексеевны «родным братом деду отца моего». Дело, однако, в том, что никакого Алексея Петровича в природе не существовало. Речь идет об Алексее Федоровиче и отце его Федоре Петровиче. Родной брат Александра Петровича Пушкина Федор Петрович, стольник Петра I, поручик в 1711 г., раненный в Прутском сражении и уволенный в отставку, умер в 1727 г. Жена его — Ксения Ивановна Коренева. Сын их Алексей Федорович родился в 1717 г., в 1730 г. был пажем царевны Прасковьи Ивановны, учился с 1732 по 1738 г. в Шляхетском кадетском корпусе в Петербурге, из него был выпущен прапорщиком в Первый драгунский полк, участвовал в турецкой кампании 1737–1739 гг. В 1746 г. он вышел «в отставку за ранами» в чине капитана и с тех пор жил в Тамбовской губернии. Пушкин дважды называет его «тамбовским воеводой» — в «<Начале автобиографии>» и в приведенной генеалогической записи. По этому поводу М. Вегнер пишет: «Поэт говорил, что Алексей Федорович был тамбовским воеводой, но известие это не подтверждено»[173]. Авторы книги «Тамбовская тропинка к Пушкину» выдвигают свою версию. Найдя в книге Б. Л. Модзалевского и М. В. Муравьева «Пушкины. Родословная роспись» Петра Михайловича Пушкина по прозвищу Желтоух, который значится «…в 1653–56 гг. полковым воеводой в Козлове…», они убеждают читателя в том, что именно его имел в виду Пушкин, так как г. Козлов относится к Тамбовской губернии[174]. При этом они опираются на мнение того же М. Вегнера, что Пушкин часто «находился во власти неверных представлений»[175].
В 1979 г. липецкий краевед Н. В. Марков предпринял еще одну попытку «реабилитации» Пушкина в вопросе о тамбовском воеводстве его прадеда. В липецком архиве им было обнаружено дело 562 от 14 декабря 1772 г. о беглых поляках Анисиме Фроловиче Лодрего и Козьме Григорьевиче Роскольском. Первый из них был привезен на Тамбовщину отставным карабинером Иваном Кузьминым из села Покровского, принадлежавшего А. Ф. Пушкину и сыну его Юрию Алексеевичу. В 1772 г. поляки бежали из Покровского, считая себя вольными, в то время как Ю. А. Пушкин числил их крепостными. Показание по этому поводу Анисима Фроловича Лодрего частично приводит Н. В. Марков: «…служивший в том полку карабинер Иван Кузьмин, а прозвания не знает, из того местечка взял меня, Анисима, по неимению у меня отца и матери за сиротство по желанию моему и по отставке оного карабинера из полку по приезде бывшего Сокольского уезду в село Покровское, где им, Кузьминым, и отдан по неимению у него, Кузьмина, к содержанию меня, Фролова, в пропитании, так же и собственного дома выше упомянутому Юрья Алексееву сыну Пушкину; отцу Алексею Федорову сыну Пушкину, которому от меня, Фролова, и подано в имяречную бывшей Сокольской воеводской канцелярии желательная челобитная». Н. В. Марков считает, что «желательная челобитная» подана в Сокольскую воеводскую канцелярию воеводе ее А. Ф. Пушкину, а «раз город Сокольск на тамбовской земле, то прав Пушкин, называя прадеда тамбовским воеводой»[176]. Газета «Литературная Росия» в лице С. Ф. Панюшина поддержала липецкого краеведа, сделав его находку уже общероссийским достоянием[177]. Безусловно, обнаружение дела, где упоминаются имена предков поэта, представляет интерес, но вывод о «тамбовском воеводстве» А. Ф. Пушкина представляется сомнительным. Если канцелярский оборот XVIII в. перевести на современный язык, то станет ясно, что Анисим Фролов подавал прошение в сокольскую воеводскую канцелярию о том, что он желает жить в доме А. Ф. Пушкина, отца Юрия Алексеевича. В том случае, если бы А. Ф. Пушкин действительно состоял пусть не тамбовским воеводой, а хотя бы сокольским в Тамбовской губернии, то какие-либо документы, связанные с его деятельностью, давно были бы обнаружены.
Остается предположить, что отставного капитана и тамбовского помещика, каким был на самом деле А. Ф. Пушкин, семейные предания превратили в тамбовского воеводу.
(несообразность: дед мой умер в 1807[172] году в св. Пск. деревне).
В записи отец бабушки Марии Алексеевны (1745–1818) значится братом Александра Петровича Пушкина, хотя на самом деле он приходился последнему племянником. Пушкин указывает на несоответствие возраста Осипа Абрамовича (1744–1806) и его супруги. Если следовать этой схеме, он был женат на дочери некоего Алексея Петровича, который должен был жить еще при Петре I. Пушкин, таким образом, выражает сомнение в правильности этого построения. Тем не менее, как уже говорилось, в «<Начале автобиографии>» он называет отца Марии Алексеевны «родным братом деду отца моего». Дело, однако, в том, что никакого Алексея Петровича в природе не существовало. Речь идет об Алексее Федоровиче и отце его Федоре Петровиче. Родной брат Александра Петровича Пушкина Федор Петрович, стольник Петра I, поручик в 1711 г., раненный в Прутском сражении и уволенный в отставку, умер в 1727 г. Жена его — Ксения Ивановна Коренева. Сын их Алексей Федорович родился в 1717 г., в 1730 г. был пажем царевны Прасковьи Ивановны, учился с 1732 по 1738 г. в Шляхетском кадетском корпусе в Петербурге, из него был выпущен прапорщиком в Первый драгунский полк, участвовал в турецкой кампании 1737–1739 гг. В 1746 г. он вышел «в отставку за ранами» в чине капитана и с тех пор жил в Тамбовской губернии. Пушкин дважды называет его «тамбовским воеводой» — в «<Начале автобиографии>» и в приведенной генеалогической записи. По этому поводу М. Вегнер пишет: «Поэт говорил, что Алексей Федорович был тамбовским воеводой, но известие это не подтверждено»[173]. Авторы книги «Тамбовская тропинка к Пушкину» выдвигают свою версию. Найдя в книге Б. Л. Модзалевского и М. В. Муравьева «Пушкины. Родословная роспись» Петра Михайловича Пушкина по прозвищу Желтоух, который значится «…в 1653–56 гг. полковым воеводой в Козлове…», они убеждают читателя в том, что именно его имел в виду Пушкин, так как г. Козлов относится к Тамбовской губернии[174]. При этом они опираются на мнение того же М. Вегнера, что Пушкин часто «находился во власти неверных представлений»[175].
В 1979 г. липецкий краевед Н. В. Марков предпринял еще одну попытку «реабилитации» Пушкина в вопросе о тамбовском воеводстве его прадеда. В липецком архиве им было обнаружено дело 562 от 14 декабря 1772 г. о беглых поляках Анисиме Фроловиче Лодрего и Козьме Григорьевиче Роскольском. Первый из них был привезен на Тамбовщину отставным карабинером Иваном Кузьминым из села Покровского, принадлежавшего А. Ф. Пушкину и сыну его Юрию Алексеевичу. В 1772 г. поляки бежали из Покровского, считая себя вольными, в то время как Ю. А. Пушкин числил их крепостными. Показание по этому поводу Анисима Фроловича Лодрего частично приводит Н. В. Марков: «…служивший в том полку карабинер Иван Кузьмин, а прозвания не знает, из того местечка взял меня, Анисима, по неимению у меня отца и матери за сиротство по желанию моему и по отставке оного карабинера из полку по приезде бывшего Сокольского уезду в село Покровское, где им, Кузьминым, и отдан по неимению у него, Кузьмина, к содержанию меня, Фролова, в пропитании, так же и собственного дома выше упомянутому Юрья Алексееву сыну Пушкину; отцу Алексею Федорову сыну Пушкину, которому от меня, Фролова, и подано в имяречную бывшей Сокольской воеводской канцелярии желательная челобитная». Н. В. Марков считает, что «желательная челобитная» подана в Сокольскую воеводскую канцелярию воеводе ее А. Ф. Пушкину, а «раз город Сокольск на тамбовской земле, то прав Пушкин, называя прадеда тамбовским воеводой»[176]. Газета «Литературная Росия» в лице С. Ф. Панюшина поддержала липецкого краеведа, сделав его находку уже общероссийским достоянием[177]. Безусловно, обнаружение дела, где упоминаются имена предков поэта, представляет интерес, но вывод о «тамбовском воеводстве» А. Ф. Пушкина представляется сомнительным. Если канцелярский оборот XVIII в. перевести на современный язык, то станет ясно, что Анисим Фролов подавал прошение в сокольскую воеводскую канцелярию о том, что он желает жить в доме А. Ф. Пушкина, отца Юрия Алексеевича. В том случае, если бы А. Ф. Пушкин действительно состоял пусть не тамбовским воеводой, а хотя бы сокольским в Тамбовской губернии, то какие-либо документы, связанные с его деятельностью, давно были бы обнаружены.
Остается предположить, что отставного капитана и тамбовского помещика, каким был на самом деле А. Ф. Пушкин, семейные предания превратили в тамбовского воеводу.
4
«Первый андреевский кавалер»
Пушкин дважды — в «<Начале автобиографии>» и в «Опровержении на критики» — почти дословно повторяет: «Прадед мой, Александр Петрович был женат на меньшой дочери графа Головина, первого андреевского кавалера» (XII, 311) и «Прадед мой был женат на меньшой дочери адмирала гр.<афа> Головина, первого в России андреевского кавалера и проч.» (XI, 161). В кратком этом сообщении допущены три ошибки. Прадед Пушкина действительно был женат на Евдокии Ивановне Головиной, дочери любимца Петра I адмирала Ивана Михайловича Головина, но она была его старшей дочерью, а сам он никогда не был ни графом, ни андреевским кавалером вообще, не говоря уж — о первом в числе награжденных этим высшим российским орденом. Чем же объясняются пушкинские ошибки и нет ли здесь осознанного стремления ввести в заблуждение своего читателя? Прежде всего следует отметить, что обе процитированные работы не были завершены Пушкиным и увидели свет только после его смерти. «Опровержение» было написано в Болдине в сентябре — октябре 1830 г. Именно здесь, в наследственном пушкинском имении, воплотился замысел статьи, зревшей давно как ответ на постоянные оскорбительные печатные выпады Ф. В. Булгарина. Под рукой у Пушкина могли оказаться какие-то документы фамильного архива, а в памяти держались давние, осененные традицией семейные предания. Атмосфера родового гнезда, впервые увиденного поэтом, способствовала обращению к истории предков, как некогда возвращение в ганнибаловскую вотчину в 1827 г. привело к созданию семи глав незавершенного романа «Арап Петра Великого». Учитывая незавершенность как «Опровержения», так и «<Начала автобиографии>», можно предположить, что очевидные ошибки, в них допущенные, Пушкин, готовя эти произведения к печати, несомненно устранил бы — во всяком случае две из трех: относительно «графства» и «кавалерства» И. М. Головина. Доказательством может служить то, что уже в «Истории Петра Великого», многократно называя графом генерал-адмирала и генерал-фельдмаршала Федора Алексеевича Головина, двоюродного брата своего прапрадеда, Пушкин исправляет ошибку своих набросков. Ф. А. Головин первым получил в России чин генерал-фельдмаршала и стал первым кавалером ордена Св. Андрея Первозванного в день его учреждения 10 марта 1699 г. Родной прапрадед поэта также был адмиралом, главным корабельным мастером, участником Гангутского сражения, входя в число ближайших сподвижников Петра. Но высшая из его наград — это орден Св. Александра Невского, полученный им из рук Екатерины 21 августа 1725 г. Семейственные предания, как видно, соединили в одно лицо двух Головиных. Что же касается еще одной ошибки Пушкина, источником которой является «семейный родословец», то в ней сказалось традиционное пренебрежение к фактам биографий жен и дочерей представителей нашего дворянства, своеобразный, можно сказать, «домостроевский комплекс», которым страдают даже известнейшие русские родословные книги. У Ивана Михайловича Головина было помимо двух сыновей три дочери — Евдокия, Наталия и Ольга. Указываются они обыкновенно именно в такой последовательности, что говорит о том, что прабабка поэта была старшей из сестер. Во всяком случае Н. К. Телетова доказала, что Ольга (в замужестве Трубецкая) была младше сестры Евдокии[178]. Относительно Наталии известно лишь, что она стала второй женой генерал-поручика кн. Константина Антиоховича Кантемира, сына господаря молдавского кн. Антиоха Константиновича, умершего в 1726 г.[179] М. Вегнер в своей книге «Предки Пушкина» допускает досадную ошибку, называя кн. К. А. Кантемира «сыном известного сатирика»[180], хотя последний был бездетен и приходился кн. Константину двоюродным братом. Ошибки, допущенные Пушкиным относительно своего прапрадеда Головина, несомненно имеют семейный источник. Эти заблуждения разделяет с братом и более осведомленная в своем родословии Ольга Сергеевна. В «Родословной», составленной с ее слов, обозначена с опиской «графиня Головкина» вместо «Головина», да еще в качестве жены Льва Александровича, а не его отца[181]. Ошибка была исправлена: Л. Н. Павлищев со слов матери указывает в своих «Воспоминаниях» относительно Александра Петровича: «Женат был на графине Головиной»[182]. Впервые материалы о Головиных были собраны П. С. Казанским и напечатаны в 1847 г., так что Пушкину они не были известны. В них правильно указывается, что дочь И. М. Головина Евдокия Ивановна была замужем за Александром Петровичем Пушкиным[183].
5
«Тайцы, принадлежавшие некогда Ганнибалу»
Следует, вероятно, окончательно развеять еще одну легенду, возникновение которой связано с именем Пушкина. В своем дневнике за 1834 г. он делает 2 июня запись: «Вчера вечер у К<атерины> А<ндреевны>. Она едет в Тайцы, принадлежавшие некогда Ганнибалу, моему прадеду» (XII, 330). В «<Начале автобиографии>» поэт пишет, что Елизавета, вступив на престол, пожаловала прадеду «несколько деревень в губерниях Псковской и Петербургской, в первой Зуево, Бор, Петровское и другие, во второй Кобрино, Суйду и Тайцы…» (XII, 313). Относительно псковских владений Пушкин пишет совершенно правильно. Во Всероссийском музее Пушкина хранится жалованная грамота, подписанная Елизаветой 12 января 1742 г. на «пригорода Воронина Михайловскую губу». Петербургские же владения были то, что называется «благоприобретенные» или, как именует их сам Абрам Петрович в своем «Завещании», составленном в 1766 г., «присовокупленные»[184]. В «Воспоминаниях П. А. Ганнибала» прямо указано: родители с 1762 г. «жили в купленной отцом моим деревне, отстоящей от С.-Петербурга 55-ти верстах, Ингерманланде в мызе Сюйде, где и погребены в оной церкви, при селе находящейся»[185]. Знакомство Пушкина с этим документом несомненно, он сохранился в бумагах поэта. Изобилующие ошибками, незначительные как по содержанию, так и по объему, «Воспоминания», однажды прочтенные Пушкиным, были в дальнейшем скорее всего преданы забвению. Зато такой документ, как «Немецкая биография» А. П. Ганнибала, к которой Пушкин не раз обращался, начиная с «Арапа Петра Великого», мог вызвать у него заблуждение по поводу происхождения петербургских имений. В нем Суйда именуется «главным имением» прадеда, а указание на то, что оно не является родовым, отсутствует. Впервые история приобретения земель под Петербургом была исследована и описана Н. К. Телетовой[186]. Первым владельцем Таиц при Петре I стал прапрадед Пушкина Иван Михайлович Головин. При нем были только одни Тайцы. При его сыне и наследнике адмирале Александре Ивановиче Головине, родном брате прабабки Пушкина Евдокии Ивановны, образовались уже Большие и Малые Тайцы. Он скончался в 1766 г., продав незадолго до смерти свои владения в разные руки: Большие Тайцы — А. Г. Демидову, а Малые — А. П. Ганнибалу. После него Малые Тайцы перешли к младшему его сыну Исааку Абрамовичу. Рядом с большим селением выросла Таицкая мыза с великолепным домом, построенным архитектором И. Е. Старовым, и парком. Большие Тайцы стали называть просто Тайцами, как именуются они и ныне. Именно здесь снимали дачу Карамзины. Носят прежнее свое название и Малые Тайцы, хотя никаких следов былой деревянной ганнибаловской усадьбы в ней не сохранилось. К сожалению, до сих пор в изданиях, посвященных истории с. Тайцы, повторяется утверждение, что оно принадлежало прадеду поэта Ганнибалу. Например: «Это усадьба Тайцы, в середине XVIII века принадлежавшая А. П. Ганнибалу» — далее приводится в доказательство цитата из «<Начала автобиографии>» (см. выше)[187]. Так принятая на веру пушкинская фраза приводит к цепочке ошибок. Один из авторов заметок о Тайцах пишет, например: «Название „Тайцы“ освящено пушкинским словом»[188]. Относиться к пушкинскому слову надо, конечно, с уважением, но не во всех случаях безоговорочным. Да, действительно, Пушкин дважды упомянул это селение, но оба раза, как оказалось, в ошибочном контексте. Впредь, комментируя название «Тайцы» в сочинениях Пушкина, следует непременно указывать, что село принадлежало не прадеду Пушкина А. П. Ганнибалу, а прапрадеду И. М. Головину, также «птенцу гнезда Петрова».
* * *
Анализ ошибок, которые допустил поэт в обращениях к истории своего рода, позволяет сделать несколько выводов. Прежде всего эти ошибки в той или иной форме восходят к фамильным преданиям, и из них восприняты Пушкиным. Вместе с тем, если некоторые из них являются достоянием только семейной традиции Пушкиных, то убеждение в том, что Ратша служил Александру Невскому, разделяли и представители других родов, от него берущих свое начало. В этом вопросе Пушкин оказался в плену характерного родового творчества. Безусловно, что пушкинские автобиографические статьи, записки, а тем более художественные произведения не должны, как мы это зачастую наблюдаем в популярной литературе, использоваться в качестве источников, не подлежащих критике. Послепушкинские историко-генеалогические изыскания внесли ясность в изучение многих проблем, которые занимали Пушкина и разрешить которые он не имел возможности по недостатку документальных данных. Но характерное для Пушкина стремление к постижению истины в его обращениях к истории собственного рода было ограничено не только объективным фактором отсутствия надежных источников. Эти обращения по большей части остро полемичны и носят в определенном смысле тенденциозный характер. Уже самый выбор персонажей из истории своего рода определен концовкой плана части статьи «Опровержение на критики»: «Гонимы. Гоним и я» (XI, 388). Идеи защиты чести поэта и дворянина сливаются у Пушкина в единое целое, поэтому он писал в уже цитированном письме К. Ф. Рылееву: «Мы не можем подносить наших сочинений вельможам, ибо по своему рождению почитаем себя равными им. Отселе гордость etc» (XIII, 219). Погружая читателя в историю своего рода, Пушкин формирует в его сознании четко очерченный образ поэта оппозиционного и независимого, верного традициям своих предков. Таким образом, с одной стороны, «небольшой багаж генеалогических познаний дворянина средней руки», с другой — глубоко осознанное чувство достоинства поэта определяют уровень мифологизации, которую допускает Пушкин в отношении истории своего рода.Н. К. Телетова О мнимом и подлинном изображении А. П. Ганнибала
Очень темный портрет, выдаваемый за изображение прадеда Пушкина Ганнибала, встречает с довоенных времен всех, кто приходит в музей поэта на набережной Мойки, 12. Чем темнее с годами становится портрет, тем большее почтение вызывает он у посетителей. Уже затруднительно рассмотреть не только ордена на мундире, но даже и сам мундир, его цвет и шитье. К портрету в музее привыкли все — и сотрудники, и посетители. Европейские черты изображенного на нем лица никого не смущают. Как старая «намоленная» икона скорее ассоциируется с образом святого, чем его запечатлевает, так и этот «арап Петра Великого» воспринимается скорее как символ, свидетельствующий о своей эпохе, а не как портрет реального лица. Между тем именно попытка взглянуть на портрет как на изображение реального лица приводит к совершенно иным выводам, связанным с его атрибуцией. Абрам Петрович Ганнибал, прадед великого поэта, был родом из Эфиопии. Его экзотическая внешность, черная кожа явились, собственно, причиной привоза ребенка в Россию: подобно другим европейским монархам, Петр I хотел иметь близ себя черного мальчика-слугу — украшение императорского двора. Как выглядел этот эфиоп — сначала ребенок, затем почтенный муж и старец, скончавшийся в возрасте около восьмидесяти пяти лет? Восстановить внешность Абрама Ганнибала в определенной мере помогал портрет его старшего сына Ивана кисти Д. Г. Левицкого, представленный в галерее владимирских кавалеров Гатчинского дворца. Но сын — не отец, и желтоватая кожа почтенного кавалера давала лишь повод для размышлений о внешности отца. Пушкин знал, что матерью Ивана Абрамовича была северянка — шведка Христина-Регина Шеберг, и это не могло не сказаться на чертах лица и цвете кожи его сына. (В России прабабушку поэта звали Крестина Матвеевна Шеберх. Была она родом из отвоеванной Петром I Прибалтики, умерла за два месяца до смерти мужа, в 1781 г.)[189] После гибели Пушкина, уже во второй половине прошлого века, интерес ко всему, что было связано с великим поэтом, стал возрастать, а одновременно с этим росло и стремление отыскать изображение знаменитого «арапа». Первая попытка была сделана в 1861 г. В. В. Стасовым. В своей публикации он обращает внимание на редчайшую гравюру, изображавшую Петра I с арапчонком[190]. Но его открытию не придали значения: считалось, что Абрама-Ибрагима привезли в Россию позже, чем была создана эта гравюра. Затем в 1872 г. на выставке портретов Петра было представлено полотно XVIII в., на котором император был изображен с арапом[191], но и оно не привлекло внимания пушкинистов. В 1880 г. в связи с открытием в Москве памятника А. С. Пушкину состоялась выставка портретов поэта, его родных, друзей и даже врагов. Для обозрения были представлены два почти одинаковых изображения наваринского героя И. А. Ганнибала работы неизвестного мастера. Принадлежали они тогда сыну Льва Сергеевича Пушкина Анатолию и Анастасии Сергеевне Перфильевой — наследнице адмирала Спиридова, друга Ивана Абрамовича. Обнаружилась и табакерка с изображением генерал-поручика И. А. Ганнибала. Она поступила от Надежды Николаевны Панэ, дочери Ольги Сергеевны Павлищевой. Нет сомнения, что к Н. Н. Панэ она попала от бабушки Надежды Осиповны, крестницы своего дяди Ивана. Говорили, что есть портреты и других дедов поэта — Петра, Исаака и самого Иосифа (Осипа). Но конкретных сведений об этих портретах нет. Особенно заинтересовал тогда всех предполагаемый портрет прадеда, впервые представленный для обозрения на этой выставке. Вскоре после этого был выпущен «Альбом Московской Пушкинской выставки» под редакцией известного педагога Л. И. Поливанова[192]. Комментарий к фотографиям и портретам, воспроизведенным в альбоме, отличался, как отмечала критика, произвольностью. В нем много места уделялось переписке, связанной с портретом, который демонстрировался как новонайденное изображение А. П. Ганнибала. Переписка велась между Л. И. Поливановым, устроителем выставки и редактором альбома, и бароном Ф. А. Бюлером, директором архива Министерства иностранных дел, представившим портрет на выставку. Некоторые основания считать этот портрет изображением «арапа» у директора архива были. Темный колорит всего портрета переходил в блекло-коричневый цвет кожи сурового, почти мрачного лица. Темноватая кожа этого важного военного дала первый толчок догадке — не арап ли Петра Великого представлен здесь? Еще до Бюлера, Поливанова и широкой публики, обозревавшей этот портрет впервые в 1880 г., соображения такого рода явились и у одного из его прежних владельцев, сделавшего на обороте надпись, на которую вполне мог сослаться Бюлер: «Аннибал, генерал-аншефа, на 92-м году от рождения». Что портретируемый много моложе, ясно при первом же взгляде. Возраст неверен. Почему же считать верным имя? Примечательны на этот счет слова того же Бюлера: «Многие высокопоставленные лица, посещавшие архив, признавали в нем портрет одного из предков Пушкина, что и побудило сделать под рамою надпись „Иван Абрамович Ганнибал“»[193]. Не отец, так сын, лишь бы отнести неведомого непременно к пушкинским предкам, тем более что так хотелось «высокопоставленным лицам». Впрочем, в Департамент герольдии делался запрос: какие ордена имел Иван Абрамович Ганнибал? Ответ был точен: он награждался четырьмя российскими орденами, однако высшего — ордена Андрея Первозванного — никогда не имел. Грудь же неизвестного украшена звездой этого ордена. Не было у Ивана Абрамовича и звезды Георгиевского ордена (2-й степени), украшающей мундир военного на портрете. Ни Бюлер, ни Поливанов не нашли нужным пойти по столь простому, но трудоемкому пути: определить по мундиру и орденам (самым высоким), кто может быть изображен на портрете. Вопрос был порядочно запутан тем же Бюлером, который не только не знал, по какому роду войск служил Абрам Петрович, но и считал, что портрет неизвестного может быть вариантом портрета его сына, Ивана Абрамовича, выполненного Левицким, который с таким удивительным умением передал характерные «арапские» черты лица. Очевидно, Бюлер не видел портрета Левицкого, не имеющего ничего общего с интересовавшим его изображением (на выставке 1880 г. этот портрет представлен не был). Несколько поколебавшись, устроители выставки сняли поставленную было надпись на раме «Иван Абрамович Ганнибал» и заменили ее первоначальной, подсказанной надписью на обороте, — «Абрам Петрович Ганнибал», впрочем, со знаком вопроса. Успех портрета был велик, и вопросительный знак был убран как досадная помеха. Кем является мрачный узколицый военный — выяснение этой истины было отодвинуто в сторону: слишком велико было желание подыскать хорошее, ясное, писанное масляными красками изображение прадеда великого русского поэта. Именно тогда, в 1880 г., и родилась легенда, упрочившаяся за сто лет своего существования. Сохранилось примечательное свидетельство тех лет: дневник А. О. Смирновой-Россет, подделанный и изданный ее дочерью Ольгой Николаевной. Дочь приятельницы Александра Сергеевича сочла возможным приписать своей матери воспоминания о якобы виденном той в Петергофском дворце портрете Ганнибала. Опираясь на новейшие данные об абиссинском (эфиопском) происхождении прадеда поэта, а также на свое впечатление от портрета на выставке 1880 г., О. Н. Смирнова замечает (от имени матери) о внешности Пушкина: «В нем нет ничего негритянского. Воображают, что он непременно должен походить на негра, потому что его предок Ганнибал — негр. (Я видела его портрет в Петергофе.) Но Ганнибал не негр, а абиссинец; у него были правильные черты, лицо длинное и сухое, выражение жесткое, но интеллигентное»[194]. Так описала О. Н. Смирнова свое личное впечатление от портрета на Пушкинской выставке, отнюдь не заботясь о том, что этот портрет явно никогда не бывал в Петергофе и, уж конечно, не был известен не только ее матери, но и самому Пушкину, чьи описания внешности прадеда совершенно противоречат строкам Смирновой-дочери.
Неизвестный художник. Портрет И. И. Меллера-Закомельского до «реставрации» (Пушкин. Сочинения / Под ред. С. А. Венгерова. СПб.: Изд-во Брокгауза-Ефрона, 1907. Т. I. С. 17)

Неизвестный художник. Портрет И. И. Меллера-Закомельского после «реставрации» (Всероссийский музей А. С. Пушкина. Фотография 1960-х гг.)В 1898 г. в Москве был выпущен альбом под названием «Московский главный архив Министерства иностранных дел. Портреты и картины, хранящиеся в нем». В этом альбоме портрет так называемого А. П. Ганнибала отсутствовал, однако его описание было приведено. Оно невежественно и поражает своей подтасованностью. Примечательно указание на то, что портрет изображает негра. Очевидно, решили посчитаться с мнением А. С. Пушкина, не доверять которому не было никаких оснований. Поэт всегда считал своего прадеда чернокожим. В данном вопросе он не мог ошибаться, ведь Мария Алексеевна, бабушка Александра Сергеевича, отлично знала своего свекра и в рассказах внуку, конечно, на этой экзотической подробности должна была остановиться. Знала старого барина и воскресенская крестьянка Арина Родионовна, вероятно делившаяся своими воспоминаниями с поэтом. И в «Арапе Петра Великого», и в шуточной строке о себе «потомок негров безобразный» (II, 139), и в «Моей родословной» («черный дед мой Ганнибал» — III, 263) поэт без колебаний говорит об эффектной внешности своего предка — черной коже, вьющихся, «шерстистых» волосах. Итак, в описании 1898 г. указывается, что на портрете из архива изображен негр. Однако с негром у этого андреевского кавалера нет ничего общего. Путаница начала XIX в., допустимая во времена Пушкина, теперь уже непростительна. Посмотрим на портрет без предвзятости. Постараемся определить, кто же в действительности на нем изображен. Начнем с качества выполнения портрета. Довольно хорошо выписанное лицо с оборотом три четверти. Уложенные «под парик» волосы цвета воронова крыла. В то же время плечи и грудь, изображенные крайне неумело, в фас, словно из дерева точенные, доделывались, очевидно, другим, неискусным художником, не видевшим к тому же перед собой натуры. Художник, заканчивавший портрет, явно не владел мастерством того, кто начинал работу: неестественный поворот тела, отсутствие моделировки — все обличает здесь неумение, поспешность, незавершенность. «Одет в красный мундир с черным бархатным воротником; по бортам золотое шитье; Андреевская лента, звезды: Андреевская и Георгиевская; Георгиевский крест на шее»[195], — таково описание портрета в альбоме 1898 г. Добавим: звездысвидетельствуют о чрезвычайно высоком воинском отличии. У А. П. Ганнибала тоже было два ордена, но Анны и Александра Невского. Первый был получен, как удалось установить автору этих строк, между 6 февраля 1748 и 24 августа 1749 г., второй — 30 августа 1760 г. Посмотрим списки кавалеров ордена Андрея Первозванного, выберем из них тех, кто имел также Георгия 2-й степени. Проверим список из десятка лиц «на мундир» (мундир, изображенный на портретируемом, носился между 1764 и 1797 гг.) — нам нужен генерал-аншеф (полный генерал), так как шитье, состоящее из четырех «кос», сплетенных из листьев, точно на это указывает. Наконец, алый с золотом мундир говорит нам, что этот генерал был артиллеристом (А. П. Ганнибал был инженером и имел серебряное, а не золотое шитье). Полный генерал, генерал-аншеф, притом артиллерист, в XVIII в. мог стать генерал-фельдцейгмейстером[196], т. е. главным артиллеристом в государстве. Следовательно, нужно отыскать полного генерала, может быть, генерал-фельдцейгмейстера, кавалера орденов Андрея Первозванного и Георгия 2-й степени. Путь трудный и, главное, мучит неуверенность: а вдруг список неполный, вдруг кто-то забыт? А если было несколько человек, подходивших под все три условия и живших в последние десятилетия XVIII в.? Есть еще один способ: проверить наличие ордена Владимира 1-й степени, который носился при любых высших орденах, — на груди нашего героя его нет. (Ордена Анны и Александра Невского при Андрее Первозванном не носились.) Орден Георгия давался только за боевые заслуги, 2-я же степень позволяет назвать неизвестного крупным военным деятелем, более того — несомненным победителем в каком-то решающем бою. Серьезным претендентом на портрет оказывается Петр Иванович Олитц, полный генерал. Олитц погиб в бою при взятии крепости Журжа в 1771 г., во время первой турецкой войны. Ордена Владимира тогда еще не существовало, генерал был кавалером орденов Андрея Первозванного и Георгия 2-й степени; второй орден, правда, был пожалован ему через пять дней после смерти, о которой в Петербурге еще не знали. Но предположение о «дописывании» ордена уже на готовом портрете только что погибшего рассыпается в прах: после долгих разысканий удается установить, что П. И. Олитц был не артиллеристом, а пехотинцем, т. е. должен был носить зеленый мундир. Снова пересматриваем список. Он невелик: И. П. Салтыков, А. А. Прозоровский-сын, И. В. Гудович, И. И. Меллер-Закомельский. Все четверо — полные генералы, кавалеры орденов Андрея Первозванного и Георгия 2-й степени; о младших орденах и говорить не стоит. Стало быть, нужно только установить, по какому роду войск служат эти последние «претенденты», и один (а вдруг два?) — искомый — будет установлен. Первым отпадает И. П. Салтыков — и портрет его нам известен, и служил он по кавалерии. Отпадает и А. А. Прозоровский-сын: он командовал пехотой и ничуть не похож на нашего незнакомца. Портреты И. В. Гудовича — их нашлось даже несколько — представляют нам узколицего серьезного человека, но черты лица его ничем не напоминают так называемого Ганнибала, к тому же он служит также по пехоте. Остается один — последний. Это барон Иван Иванович Меллер-Закомельский, кавалер всех российских орденов, портрета которого, как казалось, не существует. (Д. Н. Бантыш-Каменский, давая жизнеописания замечательных людей земли Русской в 1836 г., не имел возможности проиллюстрировать очерк о Меллере каким-либо его изображением.) Он оказывается артиллеристом, генерал-фельдцейгмейстером, назначенным на должность (но не получившим звания). «Соперников», т. е. полных генералов с теми же орденами и служивших по тому же роду войск, у Меллера нет. А как же быть с орденом Владимира 1-й степени? У Меллера он был, пожалован в 1785 г., за несколько лет до двух высших орденов, изображенных на портрете. Остается одно объяснение: отсутствие третьей звезды — Владимирского ордена — было упущением художника. Быть может, портрет обрезан снизу — но ниже Андреевской ленты звезда располагаться не могла, а лента на портрете отмежевала пространство, на котором укреплялись орденские звезды. Робкие предположения, что А. П. Ганнибал заказал свой портрет с орденами, которых не имел, не подлежат даже обсуждению: это преступление, к тому же достойное осмеяния, — самые высокие ордена государства и их кавалеры были всем известны. Вспомним и то, что Ганнибал в нескольких письменных документах всегда точно указывал, что он «ордена святаго Александр Невскаго и святыя Анны кавалер». Все последующие проверки списка «претендентов» на портрет приводят к тому же имени — И. И. Меллер. Теперь попытаемся понять, почему так разнятся изображения головы и верхней части туловища, а также почему этот лютеранин, обрусевший немец, простолюдин, выслуживший дворянство, чины и ордена военными заслугами перед новым своим отечеством, имеет столь темный цвет лица? Эти два вопроса можно разрешить, обратившись к биографии И. И. Меллера. Родился Меллер в 1728 г. (по другим данным — в 1725); в службу вступил канониром в 1740 г. О дальнейшей его жизни сведения можно получить из «Военной энциклопедии», Гербовника, «Словаря достопамятных людей Русской земли» Д. Н. Бантыш-Каменского. В последнем читаем: в 1775 г. «Меллер, заведывая Ладожским каналом, управлял всею артиллериею в государстве, вместо кн. Орлова (Григория Григорьевича. — Н. Т.), который устранил себя от двора и от службы». В 1783 г. Меллер стал полным генералом. «Он при взятии штурмом Очакова (1788) предводительствовал двумя колоннами Российской армии, действующими на левом крыле. Тогда, в пылу приступа, полководец сей лишился одного из достойных сыновей своих (второго, Карла. — Н. Т.), подававшего самые лестные надежды. Императрица удостоила заслуженного воина наградами — орденами Св. Апостола Андрея Первозванного и Св. Георгия 2-го класса, и во уважение отличных заслуг его возвела в баронское достоинство Российской империи, с наименованием Меллер-Закомельским»[197]. (Титул барона Меллер получил 30 июня 1789 г., а 16 мая 1790 г. — земли в Полоцкой губернии, войтовстве Закомельском, давшие ему право на двойную фамилию, закрепленную за родом.) 6 октября 1790 г. при взятии турецкой крепости Килии он был смертельно ранен и скончался 10 октября 1790 г., оставив вдову и семерых взрослых детей. Похоронили его, как и убитого сына, в Херсоне. Итак, И. И. Меллер — воин, артиллерист, управляющий артиллерийским корпусом в России, погибший в бою. Портрет, безусловно, создавался на юге в 1790 г., в последний год жизни Меллера. Доказательством тому оба высоких ордена, полученные: Георгий 2-й степени — 16 декабря 1788 г., Андрей Первозванный — 9 ноября 1789 г., за одиннадцать месяцев до гибели. «Военная энциклопедия» называет Меллера «героем второй турецкой войны»[198] (1787–1791). Нет сомнения, что война эта началась для него в 1787 г., а закончилась смертельным ранением. Таким образом, Меллер находился в действующей армии на юге более трех лет. Полевая жизнь у берегов Черного моря, под южным солнцем, отразилась на внешности генерала: темный загар покрыл лицо. Темные брови и пронзительно мрачный взгляд черных глаз оттеняются волосами цвета воронова крыла. Общее впечатление смуглости при европейском, однако, типе лица. Кто мог быть автором портрета, написанного не только в дни войны, но и в походных условиях? Видимо, кто-то из местных, южных художников — украинец, грек, румын, что должно было сказаться на манере письма. К сожалению, в собраниях Кишинева или хотя бы в репродукциях картин из музеев других городов не удалось найти образцов портретной живописи конца XVIII в., созданной на территории освобождаемой в то время от турок Румынии, чтобы иметь представление о манере местных художников. Однако в музее Одессы есть современное интересующему нас портрету изображение казаков, написанное запорожским художником-самоучкой. Эти два казака, посланники ко двору Екатерины II, поражают почти неестественно смуглым цветом кожи. Дело специалистов проанализировать состав красок. Известно, что асфальта, употреблявшаяся в живописи в конце XVIII в., приводила вскоре к потемнению всего колорита портрета. Как видим, первое смущавшее обстоятельство в определении портретируемого может быть устранено: смуглый цвет лица Меллера объясним. Остается второе: различные манеры в изображении лица и верхней части туловища, а также отсутствие ордена Владимира. Выше уже говорилось, что лицо писано с натуры, а грудь словно бы небрежно пририсована. Корпус неестественен в повороте. Очевидно, что портрет дописывался после гибели Меллера, кое-как; доделывал его, скорее всего, ученик художника. О двух орденах, очень высоких и полученных, вероятно, на глазах художника (художников), было известно. Их и изобразили на груди, как изобразили и памятный еще мундир генерал-аншефа, фельдцейгмейстера. Об ордене Владимира 1-й степени, полученном Меллером еще перед войной, видимо, просто забыли. Его отсутствие можно объяснить только тем, что портрет заканчивали после смерти заказчика. До 1880 г. о портрете не было известно решительно ничего. Когда он появился на Пушкинской выставке, выяснилась его скупая история. В архив Министерства иностранных дел, где он и находился до 1917 г., портрет попал после смерти князя Михаила Андреевича Оболенского, собирателя картин, археографа, скончавшегося в 1873 г. К Оболенскому он перешел от «антиквара Юни»[199]. Однако, разыскивая «ход» портрета, удалось установить, что лютеранин и обрусевший немец (как и Меллер) Василий Александрович Юни (1776–1857) никогда не был антикваром. Этот коренной москвич и знаток Москвы, сын офицера Преображенского полка имел почтенный чин статского советника, жил в собственном доме на Покровке и владел несколькими случайными портретами, среди которых было и изображение военного в артиллерийском мундире с высокими орденами. По свидетельству неизвестного лица[200], Юни утверждал, что на портрете изображен прадед Пушкина, с чем, видимо, не соглашался Оболенский, считавший (еще до Бюлера и Поливанова), что портрет передает черты Ивана Абрамовича, т. е. сына, а не отца. Решаясь расстаться с портретом, восьмидесятилетний Юни, чтобы все-таки настоять на своем, мог написать на холсте сзади слова, оказавшиеся роковыми на сто лет: «Аннибал, генерал-аншефа, на 92-м году от рождения». Те, кто видел эту надпись, исчезнувшую при дублировке портрета в 1936 г., утверждали, что сделана она была коряво, словно дрожащей рукой, что вполне согласуется с изложенным. Откуда Юни знал об этом баснословном возрасте Ганнибала, не соответствовавшем истине, но не расходившемся с ошибочными сведениями, известными Пушкину? Еще в 1825 г., при первом издании главы первой «Евгения Онегина», Пушкин поместил к ее строфе L обширное примечание, в следующих изданиях им опущенное. В частности, о своем прадеде поэт сообщает: «А. П. Анниб.<ал> умер уже в царс.<твование> Ек<атерины>, уволенный от важных занятий службы, с чином Генер<ал>-Аншефа, на 92 году от рождения» (VI, 655). Не меняя падежа, Юни цитирует эти слова Пушкина на обороте портрета: «Аннибал <…> генерал-аншефа, на 92-м году от рождения». Когда была сделана запись? Думается, что после 1855 г., когда одновременно вышли из печати статья П. И. Бартенева «Пушкин. Материалы для его биографии» и первый том сочинений поэта с родословием и большой статьей издателя П. В. Анненкова «Материалы для биографии А. С. Пушкина». Тогда-то, за два года до смерти, перед самой продажей портрета Василий Юни и сделал надпись, передавая портрет в солидное собрание Оболенского и взяв с него условную плату — 10 рублей[201], так как торговать чем-либо не было в обычае почтенного старца. Можно почти с уверенностью говорить о таком происхождении надписи. Труднее сказать, когда и каким образом портрет оказался у Юни. Его местонахождение с 1790 г. и до сороковых — пятидесятых годов XIX в. совершенно неизвестно. Почему он мог оказаться вне семейного архива самого Меллер-Закомельского? Очевидно, портрет по каким-то причинам остался в мастерской художника. Война очень скоро была окончена, и портрет, пока дописывался, мог просто не успеть попасть к старшему сыну, находившемуся при отце в момент его гибели. Позже портрет не был опознан родными. Вкратце познакомимся с ними. Вдова Анна Карповна скончалась в 1819 г. на 88-м году жизни. Кроме погибшего Карла у И. И. Меллера было еще три сына и четыре дочери. Они умерли: Петр — в 1823-м, Екатерина — в 1826-м, Егор — в 1830-м. Очевидно, и другие не прожили долее 30-х годов XIX в. Внукам и правнукам изображение их родоначальника известно не было, и опознать портрет в 1850-х годах уже никто не мог. Еще одно примечательное обстоятельство: и Карл, и сам Иван Иванович похоронены были, как уже говорилось, в Херсоне, основанном в 1778 г. И. А. Ганнибалом. Под Херсоном, в 15 верстах, находилось на пожалованных Ивану Абрамовичу Екатериной II землях великолепное его поместье Белозерка. Поместье это, выйдя в отставку, Иван Абрамович продал в 1784 г. графу А. А. Безбородко — и земли, и дом, и все имущество. Если в Херсоне оставался портрет Меллера (что весьма вероятно: это была крепость, ближайшая к местам боев второй турецкой войны), то через 10–20 лет, при переходе вещей умершего в 1799 г. Безбородко в чужие руки, неизвестный смуглый господин на портрете мог быть принят за отца основателя города. Во всяком случае, имя Ганнибала в Херсоне было первым по популярности (достаточно вспомнить свидетельства о том А. С. Пушкина). Такова история этого портрета. В поисках других изображений Меллера, благодаря указанию В. М. Глинки, удалось все-таки выяснить, что в фондах Эрмитажа хранится акварель, представляющая осаду Очакова. Акварель выполнена художником М. М. Ивановым между 1794 и 1797 гг., т. е. после смерти Меллера, изображенного рядом с Потемкиным в левой части полотна. Меллер писан был по памяти, его фигура занимает малое место, так что судить о сходстве черт лица с интересующим нас портретным изображением трудно. Отметим, что художник, опередив события, представил героя как с Андреевской лентой и звездой, так и с орденом Георгия 2-й степени, которые он получил после взятия Очакова, и — что еще интереснее — без ордена Владимира 1-й степени, как и на рассматриваемом портрете. Итак, легенда о портрете А. П. Ганнибала должна быть превращена в правду о портрете Меллер-Закомельского, — разумеется, менее для нас интересного, чем «арап Петра Великого». Это разочаровывает, почти расстраивает нас. Попробуем поискать следы подлинного портрета. Для начала определим, что искать, каков должен быть «арап». Слово это в XVIII — начале XIX в. означало одно: темнокожий. Именно в этом смысле говорил о прадеде и Пушкин, не задумываясь о расовых различиях негров, эфиопов, арабов и других африканцев. Только в конце прошлого века ученый-антрополог Д. Н. Анучин со всей точностью определил, что прадед поэта — эфиоп. Итак, знание расовых особенностей должно помочь нам в поисках изображения А. П. Ганнибала. В книге Н. П. Хохлова «Присяга просторам» содержится описание Эфиопии, ее населения и, что важно, потомков Бахар-Негаша («правителя моря») Иуади I[202], правившего в конце XVII в. в области Тигре. Область Тигре — родина Ганнибала, и Иуади должен был бы называться в таком случае его отцом. Н. П. Хохлов сообщает, что ныне потомки братьев Абрама Петровича — бедные крестьяне, во внешности которых автор книги замечает общее, родовое с Пушкиным: «курчавость, пружинистость волос, острый взгляд коричневатых глаз, утолщенные губы, подвижность ноздрей, быстрый переход от задумчивости и грусти к оживленной перепалке и веселью»[203]. Посмотрим на лица соплеменников Ганнибала. Коротковатые носы, чуть вздернутые; большие глаза с выделяющимися на фоне почти черной кожи белками; волосы мягкой копной, где каждый волосок вьется сам по себе, а не крупными волнами, как у европейцев. Сам А. П. Ганнибал (фамилия употребляется им с 1727 г., до этого — Абрам Петров) в письмах Меншикову и некоей Асечке Ивановне называет себя черным. Так, очевидно летом 1723 г., он пишет ей: «А что вы, плутовки, уродицы, мои шутихи, поворачиваете свои языки с плевелами на своего государя, черного Абрама, которому и грязи Кронштадтские повиняются…»[204] Черный Абрам (по-эфиопски Абраха, Абреха). Об этом знал правнук, об этом писал сам Ганнибал. И в послепушкинские годы не было никаких сомнений, что прадед поэта был черен или почти черен. В этом отношении надо отметить и твердое мнение В. В. Стасова, который писал о замечательном приобретении Императорской публичной библиотеки — гравюре Шхонебека, где Петр I представлен с арапчонком. Несколько неточно определив время создания гравюры, Стасов пишет: «На портрете, который мы имеем перед глазами, имени арапа не написано, но все подробности совершенно согласны с биографическими подробностями, сообщенными Пушкиным. Портрет Ибрагима Ганнибала помещен на небольшой гравюре, в лист, сделанной известным гравером Петра Великого, голландцем Шхонебеком. На ней представлен Петр I, во весь рост, в богатом шитом кафтане. <…> Но чего нигде более нет, чего никогда мы не встречали — это изображение молодого арапа, стоящего позади Петра и как бы выглядывающего из-за правого его плеча. Видна только черная, курчавая его голова, со сверкающими белками глаз и толстыми губами, и еще — часть его кафтана на груди; все остальное закрывает фигура Петра I <…> это, до сих пор, единственное изображение того знаменитого арапа, от которого произошел Пушкин…»[205] Добавим: под гравюрой текст: «Петр Первый император. Присноприбавитель[206]. Царь и самодержец всероссийский. Повеление Его Царского Величества. Грыдоровал Адриан Шхонебек»[207]. Петру I несколько раз привозились арапчата, до Абрама и после. Очень важно поэтому установить год создания гравюры, а также поискать какие-либо другие изображения Ганнибала. Автор гравюры, Adrian Schoonebeck, был первым гравером, работавшим в России. Правильнее было бы передавать его фамилию как «Схонебек», но по установившейся традиции он именуется Шхонебек. Петр I называет его Шонебек, Шонобек. Встречаются варианты Андреян Шанбек, Скойбек. Родился он в Голландии в 1661 г.,[208] в Москву приехал в 1698-м, гравировальное дело начал в 1699 г. в помещении Оружейной палаты. Талантливый рисовальщик, он, видимо, делал гравюры по своим рисункам[209], и нет причины искать живописный портрет, с которого изготовлена описанная выше гравюра. Шхонебек продолжал работать до последнего месяца жизни. Это подтверждается записью в дворцовых приказах: «Приход деньгам за апрель — сентябрь 1705 г. <…>. Расходы по гравировальным работам Шхонебека»[210]. Умер он в сентябре 1705 г.[211] Между тем известно, что граф Савва Лукич Владиславич-Рагузинский, бывший с поручениями Петра I в Турции, отослал арапа Ибрагима из Константинополя перед 21 июля 1704 г., а 13 ноября того же года его привезли в Москву. Поводом к созданию гравюры была победа Петра над шведами 10 мая 1703 г. в устье Невы, решившая судьбу будущей столицы. Орден Андрея Первозванного, полученный Петром за победу, украшает на гравюре его грудь. Однако выполнялась гравюра позже, в Москве, и для определения времени ее изготовления важно, что под нею есть надпись, в которой Петр назван «Присноприбавителем». Это приложение к имени императора стало употребляться после взятия им Нарвы в августе 1704 г., которое явилось как бы следствием невской победы, изображенной Шхонебеком. Въехал царь Петр в Москву после взятия Нарвы, чрезвычайно торжественно встреченный, только 19 декабря 1704 г., т. е. через месяц после привоза посланцев из Турции в Посольский приказ его управителю графу Ф. А. Головину. С декабря и до 18 февраля 1705 г. Петр находился в Москве безотлучно. После поездки на Воронежскую верфь (18 февраля — 27 апреля) простудившийся царь с 4 по 22 мая живет в Немецкой слободе, в загородном доме Ф. А. Головина. Тогда, в мае, Адриан Шхонебек выполнял гравюру с видом дома Головина в Немецкой слободе на четырех листах. Два верхние — латинский текст, стилизованный герб Головина, картуши — доделывал после смерти Шхонебека его пасынок гравер Петр Пикарт. На двух нижних листах изображено несколько особняков по берегам Яузы с центром — домом Головина, со двора которого цугом выезжает царь Петр. Латинская надпись дает название изображенному: «Вид подмосковного дома господина графа Головина». И Петр, и подаренный ему мальчик жили в мае 1705 г. у Головина, и, вероятно, гравюра «Петр I с арапчонком» была сделана именно тогда. Можно предположить, что сначала отъезд Петра, а затем смерть Шхонебека помешали размножению гравюры. «Вид подмосковного дома…» и «Портрет Петра I с арапчонком» (гравюра художником не названа, а, скорее, многословно обозначена), очевидно, являются последними работами Шхонебека. В июне Петр тронулся в Польшу и прибыл в Вильну 8 июля 1705 г., где и крестил своего юного денщика. Как пишет в 1726 г. Ганнибал, «…и был мне восприемником от святыя купели Его Величество в Литве, в городе Вильне, 1705 году». Гравюра изображает грустное лицо мальчика, совсем недавно прибывшего с далекого юга. О том, сколько ему лет на этом изображении, Абрам Петрович сообщает далее: «Я, всеподданнейший, имел честь служить с самого моего младенчества, а именно лет с семи или осьми от возраста моего»[212]. Эти строки 1726 г. являются ответом на многолетнюю полемику о том, какой же год считать подлинным годом рождения Абрама Ганнибала. Сам он, увезенный из дома турками в раннем детстве, очевидно, не знал числа, месяца и даже точного года своего рождения. Много лет спустя, 13 июля 1776 г., в торжественной обстановке, в присутствии нескольких доверенных лиц Абрам Петрович будет составлять свою духовную. Вероятно, составление столь важного документа приурочивалось к какой-то значительной вехе в жизни Ганнибала. Если учесть, что днем рождения своего арап считал день крещения, станет ясно, какой юбилей праздновался в июле 1776 г., — это было 80-летие почтенного старца, так как крещен он был, по-видимому, 13 июля ст. ст. 1705 г. в Вильне. Годом рождения, таким образом, Абрам Петрович полагал 1696-й. Стало быть, привезен был Ганнибал на восьмом году жизни, вскоре изображен Шхонебеком — рядом с Петром I, и гравюра эта, воспроизведенная С. А. Венгеровым в первом томе сочинений Пушкина, является действительно первым изображением прадеда Пушкина. Гравюра Шхонебека обнаружилась в 1861 г., а в 1872 г., в связи с двухсотлетием со дня рождения Петра I, в Москве была открыта выставка портретов царя-преобразователя. Там демонстрировалось большое (263×206) полотно, находившееся постоянно в Романовской галерее Зимнего дворца. Это было аллегорическое изображение Петра, победителя турок под Азовом и шведов под Полтавой. Героическая фигура Петра дана в рост (тип изображения, близкий художнику Г. Кнеллеру), он наступает на грудь поверженного Карла XII, близ которого, на уровне колен Петра, — фигуры закованных пленных турок. Сзади справа — голова и часть туловища вздыбленного гнедого коня. Коня под уздцы держит юноша, одетый в кафтан солдата Преображенского полка, с темно-коричневой кожей лица и рук. Полтавский бой словно бы еще продолжается — под копытами коня поверженный всадник в шлеме и латах. Глядя на Петра и его слугу с конем на фоне боя, невольно вспоминаешь строку из письма Пушкина к брату Льву: «Присоветуй Рылееву в новой его поэме поместить в свите Петра I нашего дедушку. Его арапская рожа произведет странное действие на всю картину Полтавской битвы» (XIII, 143). Эти слова поэта казались основанными на одном лишь знании того, что Ганнибал (прадед, названный в письме дедушкой) был участником Полтавского боя. Однако глядя на аллегорическое полотно неизвестного художника XVIII в., чувствуешь, что и конкретное изображение Петра с арапом на поле Полтавской битвы Пушкину было знакомо; именно впечатление от картины отражает письмо поэта. Ганнибалу ко времени Полтавского сражения исполнялось 13 лет — подросток примерно этого возраста изображен и на полотне. Еще две детали: во-первых, это тип широковатого лица, весьма схожий со шхонебековским, — такой же короткий, чуть вздернутый нос, широко расставленные кругловатые глаза; во-вторых, это мундир Преображенского полка, который, уже в офицерском варианте, получил А. П. Ганнибал в 1724 г., по возвращении из Франции. Было неизвестно, к какому именно полку причислен был сопутствовавший во всех походах Петру Абрам: солдатских списков полков не существовало. Но несомненно, что, как и другие ближайшие к Петру люди, Абрам приписан был к преображенцам, на нем солдатский мундир Преображенского полка — кафтан и штаны из зеленого сукна с красными отворотами.

А. Шхонебек. (Гравюра 1705 г.) (Российская национальная библиотека)Предположения о том, что на этом полотне изображен какой-то другой арап, несостоятельны: последний (до Абрама) арап привезен был в 1698 г., и, по всей видимости, это был взрослый человек; следующий после него — не ранее 1709 г., так что в этой аллегории может быть изображен только прадед поэта. Было бы ошибкой думать, что лицо и фигура арапчонка писаны условно: и мундир, и сходство с шхонебековским арапчонком это опровергают. Описанное полотно, представляющее уже второй вариант изображения арапа Абрама, ныне хранится в фондах Русского музея. Наконец, следует упомянуть батальное полотно Пьера-Дени Мартена-младшего, заказанное в 1717 г. Петром I в Париже. Художник должен был изобразить битву со шведами 1708 г. при деревне Лесной, не видев ни битвы, ни каких-либо живописных набросков, с ней связанных. Готовое полотно было доставлено в Москву в 1723 г., ныне оно хранится в Царскосельском Екатерининском дворце, копия с него А. Лютца экспонируется в Эрмитаже. На нем, среди множества фигур, изображен подросток с блестящими черными глазами, чуть вытянутым эфиопским черепом и темной кожей; голова его в белом тюрбане чуть повернута назад, взгляд обращен на художника. Можно предположить, что учившийся как раз в 1717–1722 гг. во Франции прадед Пушкина давал Мартену пояснения о происходившей битве, участником которой, в качестве посыльного при царе, он был. О себе он, вероятно, тоже не забыл, и художник изобразил черного подростка с чертами лица, близкими юному инженеру. Говорить об иных изображениях Абрама Ганнибала ныне не приходится.
* * *
…21 февраля 1986 г. во Всероссийском музее А. С. Пушкина, где ныне хранится мнимый портрет А. П. Ганнибала, происходило заседание, посвященное атрибуции этого портрета. Оно тянулось около шести часов. Зал разделился на сторонников, противников и просто мало сведущих в вопросах атрибуции. С докладом выступила Т. Г. Александрова. Она проанализировала высказанные в печати аргументы Телетовой, Лееца и Глинки, доказывавших, что на портрете изображен Меллер-Закомельский[213], и присоединилась к их мнению.
Неизвестный художник. Аллегорическая картина начала XVIII в. (Государственный Русский музей)Были зачитаны выводы трех экспертиз портрета, выполненных в научно-реставрационном центре С. В. Ямщикова в Москве (1976), затем в Эрмитаже (1980) и, наконец, С. В. Римской-Корсаковой в Русском музее (январь 1986). Смысл этих заключений сводился к следующему. Портрет выполнен непрофессионально. При реставрации произведена перекраска, употреблен оливково-умбристый тон, так как исходили из сведений об «арапской» внешности портретированного. Описи носа и губ получили новые контуры, не соответствующие авторскому рисунку. Губы утолщены, нос расширен, что изменило первоначальный облик. Ордена на мундире не переписывались. Обсуждение — столь же бурное, сколь и длительное — завершилось голосованием. Большинство сочло доказательства весомыми и высказалось за то, чтобы портрет был снят с экспозиции. Однако тогдашний директор музея М. Н. Петай пошла по пути компромисса: не разрешать впредь фотографировать портрет для его воспроизведения в разного рода пушкинских изданиях, но сохранить в экспозиции, поставив знак вопроса на табличке с именем. Легенды — явление живучее. Двое пушкиноведов — на заседании они отсутствовали — оказались в однажды усвоенном особенно стойкими. Н. И. Грановская в 1985 г. выпустила книжку «Всесоюзный музей А. С. Пушкина», где, невзирая на замечание рецензента Я. Л. Левкович относительно невозможности представлять далее постороннего человека в качестве прадеда поэта, опубликовала портрет И. И. Меллера как «предполагаемый» портрет А. П. Ганнибала, а затем представила ту же версию в статье 1988 г. «Загадочный портрет А. П. Ганнибала», выступив противницей Т. Г. Александровой, напечатавшей в том же сборнике основные положения своего устного доклада на заседании 21 февраля 1986 г. в статье «О портрете А. П. Ганнибала»[214]. Вторым упорным противником новой атрибуции портрета оказался А. М. Гордин. Прислав длинное, эмоциональное, но вовсе лишенное каких-либо доказательств письмо на заседание 21 февраля 1986 г., он, не приняв резолюции музея, напечатал 12 сентября того же года в газете «Ленинградский рабочий», рассчитанной на массового несведущего читателя, большую статью с утверждением, что на портрете, хранящемся в музее Пушкина, изображен А. П. Ганнибал. А. Г. Тартаковский, публикатор статьи В. М. Глинки и его сторонник, в десятом номере «Панорамы искусств» за 1987 г. в письме в редакцию, озаглавленном «Еще о „Загадке старого портрета“», снова попытался доказать оппоненту ошибочность и натянутость всех его доводов. Но апологет традиционализма остался равнодушным к истине. В 1989 г. А. М. Гордин выпустил новое, дополненное, издание своей книги «Пушкин в Михайловском», первый вариант которой появился еще в 1939 г., где снова, без всяких сомнений и знаков вопроса, поместил пресловутый портрет артиллерийского генерала, выдаваемого за предка поэта. Так для кого-то сохраняются все устраненные ныне несообразности относительно этого портрета, вызывавшего сомнения более ста лет назад. Реальность побеждает, но и легенда не растворяется в ней до конца. Добавим, что в последние годы стал известен тот, кого следовало бы назвать первым, еще в 1962 г. в статье «Пушкин и Ганнибал», поднявшим вопрос о портрете. Им был В. В. Набоков, написавший тогда: «Достоверного портрета Абрама Ганнибала нет. На портрете маслом конца XVIII века, по мнению некоторых, его изображающем, есть награды, которых он не получал, и в любом случае картина безнадежно подделана бездарным живописцем»[215].
2 Творчество Биография Судьба
О. С. Муравьева Образ Пушкина: исторические метаморфозы
Наиболее трудное здесь — обозначить самый предмет исследования. Черты мифологизации Пушкина присутствуют во всяком знании о нем, имеющем свою традицию. История русской критики предложит нам свой миф о Пушкине, история русской литературы — свой. Существует и обыденное восприятие, массовое сознание, в котором рождаются свои мифы. Необходимо уберечься и от опасности оказаться во власти какой-то одной традиции, и от того, чтобы скомпоновать на их основе некий искусственный эклектический миф о Пушкине. Нас будут интересовать те мифы о нем, которые возникали и достаточно долго удерживались в общественном сознании той или иной эпохи. Понятны недоумения: авторы каких отзывов и свидетельств могут претендовать на роль выразителей общественного сознания? Какие факты и события безусловно презентативны в этом отношении? Этот отбор не может не быть в значительной степени интуитивным, но ориентир здесь — определенная устойчивость образа, его воспроизводимость в различных вариантах. Судьба Пушкина сложилась так, что буквально с первых его шагов на поэтическом поприще вокруг него начал формироваться некий миф; миф о чудо-ребенке, юном гении, призванном прославить отечественную литературу. Вспомним восторженные пророчества В. А. Жуковского, П. А. Вяземского, Н. М. Карамзина, знаменитое «благословение» Г. Р. Державина. Можно ли все это квалифицировать как миф, ведь все эти оценки оказались справедливы и пророчества осуществились? Да, но это стало ясно лишь потом, годы спустя. Тогда же, в 1810-х, Пушкину еще 14, 15, 16 лет, он еще скучает на уроках, играет в мяч, ссорится и мирится с однокашниками; а рядом с ним существует образ, творимый его старшими друзьями: «будущий гигант, который всех нас перерастет» (Жуковский)[216], он «нас всех заест, нас и отцов наших» (Вяземский)[217]. И вот уже сам юный поэт шутя примеривается к обещанному высокому жребию: «Великим быть желаю, / Люблю России честь, / Я много обещаю — / Исполню ли? Бог весть!» (II, 491). Почти сразу же наметилось известное расхождение между этим образом юного гения и реальным подростком — в самом деле гениальным, но и озорным, беспечным и неуправляемым. Разумеется, все это еще легко укладывается в чисто житейскую ситуацию: взрослые и заботливые друзья стремятся направить в нужное русло таланты своего подопечного, огорчаясь его легкомыслием и леностью. Но в контексте всей поэтической судьбы Пушкина здесь угадывается первый проблеск будущей трагической коллизии: в Пушкине хотят видеть некий умозрительный идеал, и несоответствие ему воспринимается с досадой и огорчением (пока только лишь с досадой и огорчением). За годы южной и михайловской ссылок Пушкина у столичных читателей сложился образ романтического поэта-изгнанника, всегда влюбленного и вдохновенного. Долгожданная встреча поклонников поэта со своим кумиром вызвала у многих из них острое разочарование[218]. В 1830-е годы в русском обществе постепенно складываются разные образы, соотносимые с именем Пушкина. Один — достаточно абстрактный образ «знаменитости», признанного гения, прославленного поэта[219]. Другой — образ писателя-аристократа, высокомерного барина. Ф. В. Булгарин в своих статьях последовательно проводил мысль о том, что Пушкин не заботится об интересах публики и считает своих читателей «стадом»[220]. К. А. Полевой на всю жизнь сохранил представление о Пушкине как о надменном аристократе и именно так изобразил его в своих мемуарах[221]. Этот образ, при всей его очевидной пристрастности, имел серьезные шансы на то, чтобы отложиться в сознании общества. Прежде всего он в искаженном, превратном виде демонстрировал некоторые черты, в самом деле присущие Пушкину. Нетрудно привести много цитат из его произведений и эпизодов из воспоминаний его современников, которые вполне могут быть интерпретированы в таком духе. Разумеется, все эти факты не являются доказательством для приведенных выше характеристик. Но для их осмысления необходимы достаточно сложные контексты и нетривиальные подходы. Так, скажем, декларации Пушкина о равнодушии к требованиям публики направлены, в сущности, на утверждение независимости искусства, права художника следовать лишь «веленью Божию». Холодность и надменность, видимо действительно присущие Пушкину в определенных ситуациях, можно понять как нежелание смешивать профессиональные и личные отношения, объясняющееся в свою очередь иными, нежели у его оппонентов, представлениями о роли писателя в обществе. Но подобные рассуждения (позднее затрагиваемые в той или иной связи в научной литературе о Пушкине) не имели и не имеют никакой привлекательности для широкой публики, ибо не содержат ничего, возбуждающего общественные страсти. Что же касается образа высокомерного эстета, поэта-аристократа, то он бередил душу не одного поколения, ибо находился в разительном и возмутительном противоречии с тем представлением о писательстве как служении, которое прочно укоренилось в русском общественном сознании. Важную роль сыграло и то, что этот образ навязывался со стороны демократических, а во второй половине века и оппозиционных властей литературных партий. Таким образом, еще при жизни Пушкина его противники нащупали и использовали в полемических целях одну из наиболее уязвимых сторон его писательского облика. Внезапная трагическая смерть Пушкина стала для современников потрясением небывалым и неожиданным для них самих. Откликом на нее явилось несколько поэтических шедевров: «Смерть поэта» М. Ю. Лермонтова, «Лес» А. В. Кольцова, «29-е января 1837» Ф. И. Тютчева; по справедливости можно отнести к ним и знаменитый некролог В. Ф. Одоевского. «Невольник чести», «первая любовь» России, «солнце русской поэзии» — эти образы навсегда вошли в пушкинскую мифологию, но ни один из них не стал источником, первообразом развивающегося мифа. Поэтические же отклики третьего ряда не дают никаких определенных и повторяющихся характеристик, представляя собой, вероятно, искренние, но достаточно безликие излияния по поводу смерти гения. Существенное значение для дальнейшей мифологизации Пушкина имело известное письмо В. А. Жуковского отцу Пушкина от 15 февраля 1837 г. В письме, в частности, последовательно развивался мотив духовной связи умирающего поэта с царем и связанный с ним мотив народной скорби. Письмо Жуковского — документ сложный и по своей концепции, и по психологической подоплеке. Но отмеченные мотивы постепенно заслонили все остальное, и письмо стало одним из источников консервативно-официозного мифа о Пушкине, о котором еще пойдет речь. Письмо Жуковского, близкого друга Пушкина и непосредственного участника только что произошедших событий, уже носило несомненный характер мифологизации: конструирование образа осуществлялось согласно определенной концепции. Еще более явственно эта тенденция проявилась в воспоминаниях Н. В. Гоголя в «Выбранных местах из переписки с друзьями». Гоголь представил Пушкина как некий эталон национального характера: «русский человек в развитии, каким он, может быть, явится через двести лет». С точки зрения Гоголя, Пушкин «был дан миру на то, чтобы доказать собою, что такое сам поэт, и ничего больше, — что такое поэт, взятый не под влиянием какого-нибудь времени или обстоятельств и не под условьем также собственного, личного характера, как человека, но в независимости ото всего; чтобы, если захочет потом какой-нибудь высший анатомик душевный разъять и объяснить себе, что такое в существе своем поэт <…> то, чтобы он удовлетворен был, увидев это в Пушкине»[222]. Этот Пушкин — «русский человек в развитии» и одновременно «поэт — и больше ничего» — объявлялся Гоголем истинным «русским национальным поэтом». Кроме того, художественное воображение Гоголя, переакцентируя и домысливая факты, рисовало Пушкина в роли идеолога и пророка. В. Г. Белинский, подводя итог своим размышлениям в цикле статей «Сочинения Александра Пушкина», заключал: «Пушкин был по преимуществу поэт, художник и больше ничем не мог быть по своей натуре». В то же время Белинский убежден, что Пушкин «был и глубоко сознавал себя национальным поэтом». Однако, в отличие от гоголевских, представления Белинского о народном и национальном несли на себе печать революционно-демократических идеалов, антиславянофильских настроений. Критик враждебен по отношению к традициям и преданиям, ко всему патриархальному укладу жизни. Признавая Пушкина национальным поэтом, Белинский многократно упрекает его за выражение дворянских интересов. Критик решительно утверждает: «Везде видите вы в нем человека, душою и телом принадлежавшего к основному принципу, составляющему сущность изображаемого им класса; короче, везде видите русского помещика…»[223] Концепции Гоголя и Белинского, совпадая в одном, резко расходятся в другом, доступный и непротиворечивый миф о Пушкине еще не предложен русскому обществу. Не смог предложить его и круг друзей и сподвижников Пушкина, безнадежно терявший ведущее положение в литературной и общественной жизни. Вплоть до середины 1850-х годов образ Пушкина не имел особенной социальной значимости, проблемы интерпретации его личности и судьбы волновали лишь узкий круг литераторов и интеллектуалов. Но настал день, когда это достаточно келейное знание попало в центр ожесточенной и непримиримой политической борьбы. Предлогом послужило появление книги П. В. Анненкова «Материалы для биографии А. С. Пушкина» (1855). Труд Анненкова был первой научной биографией поэта и содержал целостную характеристику творческой личности Пушкина. Анненков держался в основном в русле концепции Белинского (Пушкин — «художник по преимуществу»), на выделение именно этой идеи критика и выстраивание соответственно ей биографии Пушкина придавали известной концепции новое звучание. Книга вызвала восторженные отзывы людей, хорошо помнивших живого Пушкина (И. И. Пущина, С. А. Соболевского, М. Н. Погодина, Н. И. Павлищева), и была высоко оценена интеллектуальной элитой. Среди подписавших подарочный экземпляр «Материалов…», который был поднесен Анненкову на торжественном обеде, устроенном в его честь, были И. С. Тургенев, И. И. Панаев, В. П. Боткин, Н. А. Некрасов, А. В. Дружинин, А. Ф. Писемский, А. Н. Майков, А. К. Толстой, Я. П. Полонский и другие. В то же время книга встретила неприкрыто враждебное отношение со стороны ведущих демократических критиков — Н. А. Добролюбова и Д. И. Писарева. Удар, нанесенный Писаревым, был ошеломляющ. Собственно, ничего принципиально нового Писарев не открыл. Он обыграл все тот же образ поэта-аристократа, блестящего, но поверхностного стихотворца, известный еще по полемическим выпадам 1830-х годов. Писарев этот образ высмеял и унизил, но сделал это остроумно и хлестко, в своем роде даже блестяще. Главная разрушительная сила этого образа Пушкина заключалась в том, что его фактическая основа была как бы бесспорна. «Чистым художником», служившим одному толькоискусству, считал Пушкина П. В. Анненков[224]. Эту точку зрения разделяли А. В. Дружинин и Н. Н. Страхов[225]. В. П. Гаевский утверждал, что Пушкин признавал «единственной целью своей жизни» наслаждение природой и искусством и пренебрегал «всеми другими целями, волнующими его современников»[226]. В том же духе высказывались М. Н. Катков, А. Станкевич и другие[227]. Показательно, что Писарев не делает попытки опровергнуть какие-либо положения эстетической критики, напротив, он охотно с ними соглашается. Но акцентируемые этой критикой черты творчества и личности Пушкина вызывают у него отнюдь не восхищение, а презрение и насмешку. Здесь столкнулись не два взгляда на Пушкина: столкнулись два мировоззрения, две идеологии, более того, две культуры, одна из которых отрицала другую и стремилась ее развенчать. Для нас сейчас важно, что в результате этой сшибки возник один из самых ярких образов Пушкина: образ-карикатура. «Так называемый великий поэт», «наш маленький и миленький Пушкин», «величайший представитель филистерского взгляда на жизнь», «легкомысленный версификатор», «ветхий кумир», «возвышенный кретин»[228]. Никто тогда не сумел заступиться за Пушкина, никто не смог предложить иной, но столь же яркий и, главное, общественно значимый образ поэта. Следующий всплеск общественного интереса к Пушкину пришелся на 1880 г. В этот год Москва торжественно праздновала открытие первого в России памятника Пушкину. С расстояния в сто с лишним лет с сочувствием и горечью наблюдаем мы за отчаянной попыткой русской интеллигенции сплотиться вокруг Пушкина, обозначить в общественной жизни России некую заповедную область, недоступную для политической борьбы и идеологического противостояния. Если бы интеллигенция сумела тогда добиться этого и тем самым заявить о себе как о самостоятельной и влиятельной общественной силе, быть может, вся история нашей страны пошла бы иным путем. Но история шла так, как шла, и братство независимых интеллектуалов распалось, не успев сложиться. Неудача кажется тем более трагически нелепой, что символ объединения — Пушкин — был выбран поразительно точно. И личность Пушкина, и его общественная позиция, и весь пафос его творчества как нельзя лучше подходили для того, чтобы родился миф о поэте мудром и терпимом, но и непреклонном в своем нежелании зависеть как от «властей», так и от «народа». Миф, в котором так нуждалось вечно раздраженное, разделенное на враждующие лагеря и жаждущее справедливости русское общество. Но это чисто теоретический, так сказать, нормативный подход. В реальности же из интеллектуальных споров, литературных дебатов, блестящих речей и банальных сентенций родились совсем другие мифы. Реконструировать их нам будет проще всего на материале посвященных Пушкину стихотворений, поток которых хлынул в периодику 1880–1890 годов. Они не могут, конечно, претендовать на полное и адекватное отражение процесса активной мифологизации Пушкина, толчок которому дали пушкинские празднества 1880 г., но мы и не ставим перед собой такой задачи. Массовая однодневная лирика репрезентативна по-своему: она дает срез наиболее расхожих штампов и представлений; она скользит по поверхности, но и вбирает все то, что на поверхности задерживается. Поэтому наиболее интересны с этой точки зрения не шедевры, не создания великих и выдающихся поэтов — выражение их ни на кого не похожего видения, а именно стихотворная беллетристика, непосредственно и незатейливо откликающаяся на злобу дня. Прежде всего обращает на себя внимание усиленное педалирование национально-патриотической тематики. Например:(А. Гангелин. «Памяти Пушкина»)
(Д. Минаев. «Поминки»)
(О. Чюмина. «К пятидесятилетней годовщине смерти А. С. Пушкина»)
(В. Мазуркевич. «К столетию дня рождения А. С. Пушкина»)
(И. Румянцев. «Пушкину»)
(М. «У подножия памятника»)
(1921)
Г. E. Потапова «Всё приятели кричали, кричали…»
(Литературная репутация Пушкина и эволюция представлений о славе в 1820–1830-е годы)
1830-е годы были во многом переломной эпохой в развитии русской литературы. Отвергались многие старые ценности и утверждались новые, пересматривались прежние литературные репутации. Не случайно в эту переломную эпоху интенсивнее, чем когда-либо, задумывались над факторами, определяющими читательский успех, славу писателя. Ведь представления о том, что такое литературная слава, каковы механизмы ее возникновения и распространения[266], — это немаловажная составляющая представлений о месте писателя в культуре и в обществе в целом, и исследование того, как эволюционировали представления о славе в ту или иную эпоху, могло бы оказаться любопытным во многих отношениях. В литературной полемике тех лет нередко возникали своего рода легенды о причинах славы того или иного писателя. Так, у Н. В. Гоголя в «Театральном разъезде после представления новой комедии» один персонаж, обозначенный как «литератор», следующим образом рассуждает о только что кончившейся комедии, в которой угадывается «Ревизор»: «…да ведь это все вздор, это всё приятели, приятели хвалят, всё приятели! Я уже слышал, что его чуть не в Фонвизины суют, а пиеса просто недостойна даже быть названа комедиею. <…> Просто друзья и приятели захвалили его не в меру, так вот он уж теперь, чай, думает о себе, что он чуть-чуть не Шекспир. У нас всегда приятели захвалят. Вот, например, и Пушкин. Отчего вся Россия теперь говорит о нем? Всё приятели кричали, кричали, и потом вслед за ними и вся Россия стала кричать»[267]. В этом монологе по-гоголевски гротескно преломилась одна из своеобразных легенд о Пушкине, пущенных в ход враждебной поэту критикой 1830-х годов. Отчасти эта легенда о славе, созданной приятелями, была перенесена и на Гоголя, который воспринимался петербургскими журналистами во многом как писатель пушкинского круга[268]. Разоблачать эту легенду сегодня уже ни к чему: время расставило все по своим местам. Но стоит повнимательнее присмотреться к ее глубинному смыслу, связанному, в конечном итоге, с той сменой представлений о писателе и его месте в обществе, которая происходила в русской культуре в 1820–1830-е годы. Для этого проследим сначала, как и кем создавалась легенда, пародированная Гоголем в «Театральном разъезде…». Чрезвычайно часто встречаются обвинения такого рода в разгоревшейся в 1830 г. полемике о «литературной аристократии» (так именовали пушкинский круг, сплотившийся около «Литературной газеты»). Например, Булгарин в «Северной пчеле» обвинял П. А. Вяземского в том, что он пишет «только панегирики своим друзьям и филиппики противу несогласных с ним во мнениях»[269]. В «Сыне отечества и Северном архиве» высмеивались приятели-литераторы Ряпушкин, П. Коврыжкин и барон Шнапс фон Габенихтс, в которых читатели легко угадывали Пушкина, Вяземского и Дельвига[270]. Другой противник «Литературной газеты», М. А. Бестужев-Рюмин, изобразил на страницах «Северного Меркурия» некую Аделаиду Антоновну Габенихтсину, владелицу нового магазина (под которым подразумевалась «Литературная газета»): «Если теперь поступает в продажу что-нибудь из рукоделья ее приятельниц, то Аделаида Антоновна так и рассыпается мелким бесом и не знает, как бы лучше расхвалить мастерство дорогой кумушки»[271]. Подобные выпады против пушкинского круга нередко встречаются и в «Московском телеграфе»[272]. Упрек в расхваливании друг друга предъявляли еще писателям-«арзамасцам». Так, в комедия А. С. Грибоедова и П. А. Катенина «Студент» (1817) литератор Беневольский мечтает: «Тут же встретятся мне авторы, стихотворцы, которые уже стяжали себе громкую славу, признаны бессмертными — в двадцати, в тридцати из лучших домов, я к ним буду писать послания, они ко мне, мы будем хвалить друг друга. О, бесподобно!»[273] Представление о приятелях, расхваливающих друг друга, было самым расхожим и в борьбе «Благонамеренного» с так называемым союзом поэтов (А. А. Дельвиг, Е. А. Баратынский, B. К. Кюхельбекер). Об их «самохвальстве» и «кругохвальстве» говорил на страницах «Благонамеренного» Б. М. Федоров в своих статьях и пародийных стихотворениях[274]. Аналогичные обвинения выдвигал против «союза поэтов» Булгарин в статье «Литературные призраки», помещенной в «Литературных листках»[275]. Применяемая к «литературной аристократии» памфлетная кличка «знаменитые друзья» заставляет вспомнить о литературных полемиках десятилетней давности, когда часто шло в ход это выражение, заимствованное журналистами из заметки А. Ф. Воейкова в № 13 «Сына отечества» за 1821 г.[276] Особенно часто такая кличка использовалась в статьях, направленных против Вяземского[277]. Сочинители этих статей обычно старались подчеркнуть, что, нападая на «авторов, которые обвились, как плющ, около великих талантов и под сенью их наслаждаются славою, ничем не заслуженною»[278], дарование ведущего поэта «новой школы» — Жуковского — они почитают. Но нередко за этими уверениями было ощутимо неприятие «школы Жуковского» в целом. В 1829 г. Н. И. Надеждин в статье о «Полтаве» применил к Пушкину слова из басни И. А. Крылова, в которой говорится о муравье, воображавшем себя великим, а на самом деле дивившем своими «подвигами» лишь свой муравейник[279]. Подобные толки возбудил и вышедший в 1829 г. сборник стихотворений Дельвига[280]. В 1830 г. пушкинский круг, включавший в себя и «арзамасцев», и членов «союза поэтов», объединился в «Литературной газете». Вполне естественно, что прежние упреки в «кругохвальстве» с удвоенной силой возобновляются врагами нового издания. Но в нападках начала 1830-х годов появляется и нечто новое по сравнению с первой половиной 1820-х годов. Конечно, сам по себе упрек в том, что какого-либо писателя не в меру расхвалили его друзья и сторонники, не имеет в себе ничего особенно характерного: этот упрек вечен. Однако к началу 1830-х годов во многом изменились сами представления русских критиков о норме отношений между писателем и публикой. Причину этого следует искать в постепенной демократизации литературы, во вхождении в русскую культуру массового читателя. Период салонного и кружкового бытования литературы кончается, и в свои права вступают законы книжного рынка[281]. В этих условиях утверждения журналистов о том, что слава Пушкина была сильно преувеличена его друзьями и потому нуждается в пересмотре, становятся одним из моментов борьбы против традиций «салонной», «аристократической» литературы вообще[282]. Демократизация литературы приводит к тому, что меняются сами представления о месте писателя в обществе — и не в последнюю очередь представления о том, что такое литературная слава, как и кем должна она создаваться. Прежде отношения между писателем и его читателями строились в представлении критиков иерархически. Писатель должен был ориентироваться на суд немногих беспристрастных знатоков, обладающих просвещенным вкусом. «Ищи людей, которые способнее других ценить твои работы: их суд есть голос современников и приговор потомства. Имей друзей, согласных с тобою в образе чувства, в желании действовать и в выборе цели», — советовал писателям В. А. Жуковский в 1808 г. и продолжал: «Непристрастная заслуженная похвала избранных, которых великое мнение управляет общим и может его заменить, вот слава истинная, продолжительная, достойная искания!»[283] Суждение знатоков противопоставляется суждению публики, врожденный вкус которой еще не отшлифован воспитанием. «Публика, милостивый государь, дама: она любит, чтобы ее водили под руку. Имеет вкус, но не отягощает его трудом сравнивать, избирать и потому часто бывает эхом любимого журнала. Сим расположением публики должно пользоваться, направляя его ко всему изящному посредством благоразумной критики», — писал в 1820 г. А. А. Бестужев[284]. Толпа склонна к предубеждениям, затмевающим ясность разума и вкуса. Жуковский в цитированной выше статье говорит, что рукоплескания толпы «повинуются внезапному побуждению», иназывает некоторые причины этих «случайных похвал»: «…один хвалит из дружбы, другой из жалости, третий из противоречия, четвертый в надежде подкупить, пятый от равнодушия <…> шестой из зависти, желая оскорбить или унизить соперника»[285]. Известность, основанная на суждениях толпы, — это лишь мнимая слава, или мода. Она преходяща, как преходящи по природе своей сами человеческие эмоции и заблуждения: «Слава, которой человек обязан заблуждению, есть иллюзия славы, которая разрушается при первых же лучах разума и истины»[286]. Истинная же слава основывается на суждениях ценителей, обладающих образованным вкусом. Она непреходяща, и время лишь способствует ее утверждению: «Слава как река, которая делается все более многоводной по мере удаления от истоков <…> и как родники, которые бьют все сильнее по мере того, как проходят века»[287]. Следует подчеркнуть, что ориентация на поэзию «для немногих» не являлась собственно элитарной или эстетской. Ведь она совсем не исключала мысли о широкой славе, время для которой настанет тогда, когда уйдут в прошлое сиюминутные заблуждения публики. Правда, в первой половине 1820-х годов критики-декабристы (и не только они) упрекали поэтов школы Жуковского в отсутствии общезначимого содержания, высоких гражданских идей и требовали от литературы «непритворного изложения чувств высоких и к добру увлекающих»[288]. Однако и самому Жуковскому вовсе не было чуждо убеждение в том, что поэзия должна пробуждать в человеке высокие чувства (конечно, не в декабристском понимании). В цитированной выше статье Жуковский говорит, что писатель, увлекшийся минутным успехом и забывший о требованиях истинного вкуса, «никогда не достигнет благородной цели писателя — пользы, распространения идей, благодетельных для человечества, наслаждений, совершенствующих душу»[289]. С другой стороны, самим декабристам не чужд критерий «образованного вкуса», а также представление о руководящей роли «ценителей» в восприятии литературных произведений массой «публики» (это доказывают приведенные выше слова из статьи Бестужева). Таким образом, в принципе схема соотношений между писателем и публикой здесь остается такой же, как у Жуковского. Не нарушают этой иерархической схемы и те критики, которые нападают на «кругохвальство» в среде «знаменитых» и в «союзе поэтов». Они по-прежнему апеллируют к просвещенному вкусу как к высшему авторитету в литературных вопросах. «Дружеские похвалы» вызывают их протест именно потому, что они якобы основываются на личных привязанностях, заставляющих пренебрегать беспристрастностью образованного вкуса. К 1830-м годам сама иерархичность прежней схемы соотношений между писателем, ценителями и публикой ставится под сомнение. Кс. А. Полевой замечал в 1829 г., что «в русской публике давно слышны жалобы на безотчетные похвалы сочинениям Пушкина»[290]. О том, что публика восстает против магии имен и хочет произвести определенную переоценку ценностей, свидетельствует хотя бы напечатанная в том же году в «Дамском журнале» эпиграмма по поводу издания Баратынским и Пушкиным «Бала» и «Графа Нулина»:
(III, 424)
(III, 424)
(VII, 133)
С. А. Фомичев Пушкин и масоны
«Когда в Петербурге было основано мальтийское приорство, выступавший на процессе с показаниями против Калиостро отец Казимир вновь назначается провинциалом в Россию, где папа легализовал упраздненный в 1773 году, но тайно продолжавший существовать иезуитский орден. В том же году из Парижа приезжает в Петербург и поступает на русскую службу гвардии поручик Жорж-Антуан Паркуа де Кальве. Потомки его принимают русское подданство. Один из них, Петр Иванович Паркуа, впоследствии был выслан в Сибирь якобы за сочувствие к декабристам, другой, Теодор Иванович, получил смертельную рану на дуэли с другом Жоржа Дантеса, приемного сына посла барона Геккерна. По свидетельству Чаадаева, поводом для дуэли послужило публичное обвинение барона Геккерна в том, что он будто бы состоит тайным шпионом иезуитов»[308]. «…Тютчев создает стихотворение „29-е января 1837“:* * *
Намечая в 1830 г. программу автобиографических записок, Пушкин под 1811 г. записывает: «Лицей. Открытие. Малино<вский>. Гос<ударь>. Куницын, Аракчеев. — Начальники наши. — Мое положение. — Философич<еские> мысли. — Мартинизм. — Мы прогоняем Пилецк<ого>» (XII, 308)[322]. Обычно, комментируя пункт «Мартинизм», вспоминают о лицейских профессорах-масонах Ф. М. Гауеншильде и Н. Ф. Кошанском, — между тем речь в записках Пушкина, очевидно, должна идти о некоторых идейных основах лицейского воспитания. Позже в записке «Исторический взгляд на Сперанского» (1826) Гауеншильд «поведал Меттерниху и о плане Сперанского, разработка которого якобы ему была поручена с целью преобразования русского духовенства. Сперанский предлагал основать масонскую ложу и обязать наиболее способных из духовенства участвовать в ней. По словам Гауеншильда, первым мастером ложи должен был быть сам Гауеншильд, на обязанности которого должна была лежать цензура трудов этих духовных братьев. Безусловно, не все может вызвать доверие в подобных сообщениях, но несомненно, что он был весьма осведомлен о деятельности Сперанского в ту пору. Впоследствии, уже после возвращения из ссылки, Сперанский продолжал поддерживать сношения с Гауеншильдом»[323]. Если вспомнить об участии Сперанского в составлении первоначального проекта Лицея, предназначенного, по его мысли, для воспитания высшего звена государственных чиновников в России, то в наметках пушкинских записок следует увидеть нечто большее, нежели воспоминание об учителях-масонах. Речь должна была, видимо, идти об общей духовной атмосфере, с самого начала утвердившейся в Лицее. Отражением ее, вероятно, стали (ср. предыдущий пункт пушкинского плана «Философические мысли») ранние произведения Пушкина, известные нам только по названиям: романы «Цыган» и «Фатам, или Разум человеческий», комедия «Философ». Мы имеем возможность отчасти расшифровать пушкинскую помету о мартинизме в плане автобиографических записок, обратившись к его статье «Александр Радищев» (1836): «В то время существовали в России люди, известные под именем мартинистов. Мы еще застали несколько стариков, принадлежавших этому полуполитическому, полурелигиозному обществу. Странная смесь мистической набожности и философического вольнодумства, бескорыстная любовь к просвещению, практическая филантропия ярко отличали их от поколения, которому они принадлежали. Люди, находившие свою выгоду в коварном злословии, старались представить мартинистов заговорщиками и приписывали им преступные политические виды. Императрица, долго смотревшая на усилия французских философов как на игры искусных бойцов и сама их ободрявшая своим царским рукоплесканием, с беспокойством видела их торжество и с подозрением обратила внимание на русских мартинистов, которых считала проповедниками безначалия и адептами энциклопедистов. Нельзя отрицать, чтобы многие из них не принадлежали к числу недовольных; но их недоброжелательство ограничивалось брюзгливым порицанием настоящего, невинными надеждами на будущее и двусмысленными тостами на франмасонских ужинах. Радищев попал в их общество. Таинственность их бесед воспламенила его воображение. Он написал свое „Путешествие из Петербурга в Москву“, сатирическое воззвание к возмущению, напечатал в домашней типографии и спокойно пустил его в продажу» (XII, 31–32)[324]. Вполне понятно, что «мистическая набожность» мартинистов с самого начала не привилась к Пушкину, чего нельзя сказать о «философическом вольнодумстве, бескорыстной любви к просвещению, практической филантропии», ставших отправными заветами его духовного развития. Масонское влияние, определившее лицейское воспитание, достаточно проницательно было отмечено в доносах. «Что скажем о нынешнем воспитании <…>, — писал 31 марта 1820 г. В. Н. Каразин министру внутренних дел гр. В. П. Кочубею, — натверживание молодым людям сумасбродных книг под именем божественной философии и пр., навязывание Библии нисколько не сделало их лучшими, а заставляло смеяться над религией или на нее досадовать. <…> В самом лицее Царскосельском государь воспитывает себе в отечестве недоброжелателей <…> из воспитанников более или менее есть почти всякий Пушкин, и все они связаны каким-то подозрительным союзом, похожим на масонство, некоторые же и в действительные ложи поступили…»[325] Позже в записке для Третьего отделения «Нечто о Царскосельском лицее и духе оного» Ф. В. Булгарин, давая политический портрет лицеиста («…он должен толковать о конституциях, палатах, выборах, парламентах; казаться не верующим христианским догматам и более всего представляться филантропом и русским патриотом»), самые истоки лицейского духа видит в мартинизме новиковской школы, определившей «первое начало либерализма и всех вольных идей»[326]. Масонскую закваску усматривал Булгарин и в деятельности Арзамасского общества, которое столь много значило в духовной и творческой биографии Пушкина: «Оно было ни литературное, ни политическое в тесном значении сих слов, но в настоящем своем существовании клонилось само собой и к той, и к другой цели. Оно сперва имело в намерении пресечь интриги в словесности и в драматургии, поддерживать истинные таланты и язвить самозванцев-словесников. <…> Оно было шуточное, забавное и во всяком случае принесло бы более пользы, нежели вреда, если б было направляемо кем-нибудь к своей настоящей цели. <…> Сие общество составляли люди, из коих почти все, за исключением двух или трех, были отличного образования, шли в свете по блестящему пути и почти все были или дети членов новиковской мартинистской секты, или воспитанники ее членов, или товарищи и друзья и родственники сих воспитанников. Дух времени истребил мистику, но либерализм цвел во всей красе! Вскоре это общество сообщило свой дух большой части юношества и, покровительствуя Пушкина и других лицейских юношей, раздуло без умысла искры и превратило их в пламень»[327]. Обычно это обвинение Булгарина расценивается как злобный навет. Но любое тайное или полутайное организационное образование в России невольно заимствовало какие-то формы именно от масонских организаций, ибо других общественных союзов просто не было в ее культурной жизни. След масонских ритуалов и обрядов, шутливо переосмысленных, мы обнаруживаем и в деятельности «Арзамаса». Как нам представляется, необходимо при этом иметь в виду ту реформу русского масонства, которая осуществлялась в первые годы после войны с Наполеоном. Тогда, в отличие от XVIII в., масонство в России перестало быть тайным и подвергаться правительственным преследованиям. Ложи множились, в них вступали люди разных сословий, и это отражало либеральные стремления времени, поиски организационных форм влияния на общество. Мистические устремления, усложненность ритуалов и системы, пришедших в прошлом веке на смену первоначальному английскому (иоанновскому) масонству, в том числе и в России (шведская и шотландская системы, розенкрейцерство, иллюминатство, тамплиерство), ныне кажутся излишними, отступающими от целей и задач подлинных «свободных каменщиков». 14 июля 1814 г. мастер ложи «Петра к правде» доктор Е. Е. Элизен обращается с письмом к великому мастеру Директориальной ложи Бёберу, где, в частности, пишет: «Долголетнее учение и чрезвычайные отношения удостоверили меня, что так называемые высшие степени нимало не состоят в связи с первоначальным чистым свободным каменщичеством, что они не только что в высочайшей степени излишни суть, но даже и вредны; что они, вместо облагораживания человеческого сердца, имеют последствием явное развращение нравов и легко могут сделаться вредными для государства <…> в Англии, а особливо в Шотландии было Свободное Каменщичество злоупотребляемо иезуитами для составления себе партии. Но они скрывали намерения свои под разными формами, распускали в Англии и во Франции, что Свободное Каменщичество есть продолжение Тамплиерского ордена, коего начальники из духовенства имели великие таинства и сокровища…»[328] Прямым результатом этого манифеста, с одобрением принятого большинством российских масонов, было образование в 1815 г. новой верховной ложи «Астрея», отложившейся от «Великой Провинциальной ложи» (8-й), которая в соответствии с решением Вильгельмсбадского конгресса масонов (1772) руководила всеми масонами в России и была организована по усложненной шведской системе. Новое уложение «устанавливало выборное начало в управлении масонского сообщества и клало в основу этого управления ответственность всех без исключения должностных лиц, их выборность, терпимость ко всем принятым масонским системам и равноправность всех представителей лож в великой ложе»[329]. Ложи, входившие в новый союз под верховенством «Астреи», работали обычно по системе раннего английского масонства трех степеней (ученик, товарищ, мастер). Согласно тому же уложению, союзные ложи обязывались «не иметь никаких таинств перед правительством», признавая «целью своих работ — усовершенствование благополучия человеков исправлением нравственности, распространением добродетели, благочестия и непоколебимой верности к государю и отечеству и строгим исполнением существующих в государстве законов»[330]. Между тем в поисках активных мер пореволюционному преобразованию российского общества в недрах некоторых масонских лож крепнут идейные контакты между будущими членами тайных декабристских организаций. Первая из них, «Союз спасения», возникла в ложе «Трех добродетелей», а ложа «Избранного Михаила» под влиянием ее «оратора» Ф. Н. Глинки постепенно превращалась в полулегальный орган «Союза благоденствия»[331]. Возникшее в год масонской реформы Общество арзамасских литераторов носило, конечно, вполне светский, литературный характер. Но, по-видимому, его организаторы, действительно хорошо знакомые с масонскими обрядами и начитанные в масонской литературе, кое-что из них почерпнули. Известно, что непременной принадлежностью арзамасских застолий был гусь. Пытаясь объяснить подобное пристрастие, обычно считают: «Город Арзамас издавна славился гусями; вот и стал гусь символом „Арзамаса“; его изобразили на печати общества; его же обычно подавали на ужин в конце заседания»[332]. Впервые гусь был упомянут на втором заседании «Арзамаса» во вступительной речи С. П. Жихарева: «Друзья! Помните ли предание древнего времени о Фениксе бессмертном? В нашем брате возобновилось чудо перерождения сей баснословной птицы! В едином токмо не сходствует он с нею — Феникс умирал Фениксом и воскресал Фениксом! Брат наш умер сердитою совою Беседы и воскрес горделивым гусем Арзамаса!»[333] Феникс, сова — все это шло от масонской атрибутики (как и обращение «брат», и сам ритуал «воскрешения» в ходе приема в общество). Оказывается, и гусь был небезызвестен в истории масонства: «Первые Великие ложи возникли в Англии <…> когда огромное большинство людей высшего и среднего класса не помышляло уже ни о чем, кроме отдыха от бесконечных смут. <…> С водворением новой династии жизнь страны входила в мирное русло: все нужное для ее спокойствия казалось достигнутым. От былого увлечения политикой теперь осталась простая склонность к общественности, привычка сходиться среди людей; развилась страсть к кружкам и клубам. Сатирический листок „Зритель“ („Spectator“), выходивший в Лондоне в начале десятых годов (XVIII в. — С. Ф.), высмеивая эту страсть, приводил длинный список существовавших будто бы в Лондоне обществ, среди которых фигурируют и клубы красавцев и уродов, „вечно существующее общество“, и „метафорические мертвецы“. <…> Андерсен, автор „Новой книги масонских конституций“, во втором издании ее, вышедшем в 1738 году, следующим образом рассказывает об основании „Великой Лондонской Ложи“: „после торжественного въезда в Лондон короля Георга I и усмирения в 1716 году восстания (якобитов, сторонников династии Стюартов. — С. Ф.) несколько Лондонских лож решили сплотиться вокруг одного Великого Мастера (Гроссмейстера) как центра единения и гармонии. Это были — ложа „Гуся и Противня“, ложа „Короны“, ложа „Яблони“ и ложа „Виноградной кисти“ (названия таверн, в которых они собирались). <…> В день Св. Иоанна Крестителя (в 1717 году) в таверне „Гуся и Противня“ состоялся первый банкет фракмасонов“»[334]. В данном описании общественной атмосферы, обусловившей возникновение первых масонских лож, угадывается определенная типологическая общность с настроениями русского общества послевоенной поры. Организационная реформа русского масонства, на которую мы обращали выше внимание, в деятельности «Арзамаса» приобретала откровенно пародийные, игровые черты. Пушкин, несомненно знакомый с самого начала деятельности «Арзамаса» с его протоколами, не мог не замечать в них шутливо инструментованной масонской стилистики и обрядности[335]. Трудно представить, что, вступая 4 мая 1821 г. (как отмечено в его дневнике) в ученики кишиневской ложи «Овидий», Пушкин был движим идеалами нравственно-религиозного возрождения: ничто в его творчестве этого не подтверждает. В исследованиях Н. К. Кульмана и П. Е. Щеголева распутаны некоторые противоречивые сведения, относящиеся к недолгому существованию ложи «Овидий». Согласно имеющимся документам, она официально была организована лишь 7 июля 1821 г. (два месяца спустя после принятия в нее Пушкина) под главенством генерала П. С. Пущина, имевшего третью масонскую степень (мастера), которую он получил в петербургской ложе «Соединенных друзей». 17 сентября, на основании соответствующего обращения, ложа «Овидий» была занесена под номером 25 в списки верховной ложи «Астрея», но 13 октября великий секретарь последней Вевель напоминал кишиневским братьям: «Прежде нежели которая ложа будет таким образом принята, производимые ее работы считаются временными и недействительными, если принятие не совершится, согласно параграфа 154». Указанный параграф устава предполагал инсталяцию (утверждение) вновь образованной ложи в присутствии особого доверенного от «Астреи» лица. Уже в декабре правительство обратило внимание на деятельность кишиневской ложи и предписало И. Н. Инзову разобраться в нарушениях установленных правил. Если в начале своего царствования Александр I воспринимал деятельность масонов терпимо и даже заинтересованно, то после бунта Семеновского полка в 1820 г., предполагая участие в нем масонов-офицеров (так и не доказанное следствием), император начал с подозрением относиться к «свободным каменщикам», особенно к состоящим в армии. В 1821 г. А. X. Бенкендорфом была передана царю составленная, как считают, М. Грибовским «Записка о тайных обществах в России», где говорилось, в частности: «В 1814 году, когда войска русские вступили в Париж, множество офицеров приняты были в масоны и свели связи с приверженцами разных тайных обществ. Последствием сего было, что они напитались гибельным духом партий, привыкли болтать то, чего не понимают, и из слепого подражания заводить подобные тайные общества у себя»[336]. Все это предопределило быструю расправу с кишиневской ложей, руководимой членом «Союза благоденствия» П. С. Пущиным и принявшей в нарушение правил (а по этим правилам информация о деятельности лож поступала в полицию) опального Пушкина и известных вольнолюбцев М. Ф. Орлова и В. Ф. Раевского. Уже 9 декабря П. С. Пущин официально закрыл ложу[337], но тем не менее был уволен в отставку. Со вступлением Пушкина в ложу «Овидий» связан один эпизод его творчества, до сих пор недостаточно проясненный. Мы имеем в виду его стихотворение, посвященное генералу П. С. Пущину:(II, 204)
М. В. Строганов «…Вампиром именован…»
Пушкинское стихотворение 1829 г. «Подъезжая под Ижоры…» почти не привлекает внимания исследователей. Обычно сообщается, что оно «обращено к шестнадцатилетней Екатерине Васильевне Вельяшевой, двоюродной сестре Ал. Н. Вульфа, которую Пушкин встретил в Старице и в Павловском, тверском имении ее деда Павла Ивановича Вульфа»[349]. Не учитывается, как правило, давно сделанное Т. Г. Цявловской замечание, что вчерне написанное 18 января — 17 февраля 1829 г. (время возвращения Пушкина с Ал. Н. Вульфом в Петербург) стихотворение было переработано вновь в Тверской губернии осенью 1829 г. Стихи 5–10, в частности, написаны между 16 октября и концом ноября (III, 1177)[350]. Важное само по себе, это замечание помогает осмыслить одну существенную деталь текста. Пушкин сообщает:(III, 151)
(III, 719)
(III, 720)
(VI, 56)
(VI, 497)[355]
И. В. Немировский Декабрист или сервилист?
(Биографический контекст стихотворения «Арион»)
По своей устойчивости и распространенности миф о «Пушкине-декабристе» сравним только с противоположным по содержанию мифом о «Пушкине-сервилисте», или, как деликатно выразился А. Блок, «Пушкине — друге монархии»[359]. Естественно, что обе эти точки зрения на пушкинскую личность, при всей их взаимной враждебности, имеют в виду примерно одинаковый набор обстоятельств жизни поэта и его произведений. Ни одна из них не обходится без рассказа о свидании Пушкина с императором Николаем I в Петровском замке в сентябре 1826 г., без анализа осложнившихся взаимоотношений поэта с друзьями в 1827–1829 гг., без обращения к обстоятельствам путешествия на Кавказ в 1829 г., без изучения последних лет жизни Пушкина. Очень часто интерпретация пушкинских произведений существенным образом зависит от того, внутри какой биографической парадигмы они рассматриваются. Так, например, «Медный всадник» может быть оценен как «апофеоз Петра» и абсолютизма вообще в рамках мифа о «Пушкине — друге монархии» или же как аллегория декабрьского восстания в рамках мифа «Пушкин — несостоявшийся декабрист». «Медный всадник», пожалуй, один из наиболее ярких примеров того, насколько жестко оценка произведения зависит от характера приписываемого ему биографического контекста. Но лишь очень немногие пушкинские тексты определенно и долговечно относятся только к какому-нибудь одному мифу. Любопытно при этом, что миф о «Пушкине-сервилисте» характеризуется более устойчивым набором соответствующих ему произведений. Так, по крайней мере до сих пор, никому не удалось оспорить, что в стихотворениях «Стансы», «Друзьям», «Герой», «Бородинская годовщина» Пушкин выказал свои симпатии просвещенному абсолютизму. Более сложно обстоит дело с произведениями, соответствующими альтернативному мифу о Пушкине как тайном декабристе. Здесь, в особенности в последние годы, пушкиноведы не оставили ничего бесспорно относящегося к этому и только к этому мифу. Даже «Послание в Сибирь», — казалось бы несомненное проявление декабристских симпатий Пушкина, — было недавно рассмотрено как призыв декабристам надеяться на царскую милость[360]. И только стихотворение «Арион», единственное до последнего времени, сохраняло репутацию своеобразного поэтического манифеста, в котором Пушкин выразил свою верность декабристам. Более того, это произведение традиционно рассматривается как обобщение размышлений поэта о собственном месте среди декабристов. Все в нем как будто дает основания именно для такого прочтения: написанное 16 июля 1827 г., три дня спустя после первой годовщины казни декабристов, стихотворение связано со многими декабристскими замыслами поэта. От этого общего положения некоторые исследователи делали следующий шаг и пытались рассмотреть «Арион» как аллегорическое изображение декабрьского восстания; даже всерьез поставлен вопрос, кого же Пушкин имел в виду под «кормщиком умным»: Пестеля или Рылеева?[361] Относительно недавно общий ход продекабристских интерпретаций стихотворения был нарушен скептическим замечанием В. В. Пугачева, исследователя, давно и плодотворно развивающего тему «Пушкин и общественное движение»: «Декабристы явно не узнали себя ни в „пловцах“, ни в „кормщике“. Анонимность „Ариона“ не могла обмануть сибирских мучеников. Публикация в „Литературной газете“ делала для них авторство совершенно прозрачным. Не узнать „таинственного певца“ они не могли. Никто из современников не увидел в стихотворении аллегорического изображения декабристов»[362]. Утверждение В. В. Пугачева о «прозрачности» авторства «Ариона» не кажется нам бесспорным. Вопросы о том, почему Пушкин опубликовал стихотворение, во-первых, только три года спустя после его написания и, во-вторых, анонимно, не просты, и мы предполагаем вернуться к ним в конце нашей работы. В целом же мысль исследователя представляется совершенно справедливой: аллюзионное, узкоаллегорическое восприятие «Ариона» было чуждо современникам поэта. Эта точка зрения не была доминирующей и в научном пушкиноведении до того момента, как в нем сложились те две альтернативные парадигмы, о которых речь уже шла. Однако уже в начале 1920-х годов утверждение Л. С. Гинзбурга о том, что «весьма возможно, что „Арион“ никакого отношения к декабристам не имеет и, создавая его, Пушкин думал только о поэте»[363], вызвало энергичные возражения Ю. М. Соколова, Н. Н. Фатова, В. В. Леоновича-Ангарского, Н. К. Пиксанова и некоторых других советских литературоведов, присутствовавших на выступлении Л. С. Гинзбурга. Дело в том, что и приведенная выше, и многие другие интересные мысли Гинзбурга об «Арионе» были изложены им не в статье, а в устном сообщении, прочитанном на заседании Пушкинской комиссии Общества любителей российской словесности в 1924 г. Если бы доклад был опубликован, то, возможно, не было бы необходимости в настоящей статье. Однако выступление Гинзбурга было забыто и о его содержании можно только догадываться, причем не столько по крайне конспективному, скупому изложению его в «Хронике», сколько по гораздо более пространно представленным там замечаниям его оппонентов. Обратившись к рукописи стихотворения, хранившейся тогда в Румянцевском музее, ученый обратил внимание на «стремление поэта переделывать текст, напр., замена слов „нас“ словом „их“ <…> или замена „я“ на „он“. <…> Получается впечатление, — отмечал докладчик, — что поэт хотел затушевать свою связь с декабристами, если стихотворение имело их в виду»[364]. К смыслу тех изменений, которые Пушкин вносил в употребление личных местоимений, мы еще вернемся. Здесь же хотелось бы подчеркнуть, что именно текстологические наблюдения над стихотворением менее всего укладываются в рамки «декабристской» интерпретации «Ариона». Помимо того, что уже сказано об этом Гинзбургом, нам бы хотелось обратить внимание на историю изменений строки 13 стихотворения. Первоначально в беловом автографе (единственном сохранившемся) она звучала так: «Гимн избавления пою» (III, 593). Затем в первом слое правки строка приобрела следующий вид: «Я песни прежние пою» (III, 593), а при последующем исправлении изменилась еще раз: «Спасен Дельфином, я пою» (III, 593). В последнем, третьем, слое поправок Пушкин самым существенным образом переработал все стихотворение, повсюду, где это было необходимо, заменив форму первого лица на третье: «Их было много на челне…» (III, 593) вместо «Нас было много на челну»; «А он — беспечной веры полн» вместо «А я, беспечной веры полн»; «Пловцам он пел» вместо «Пловцам я пел»; «Лишь он — таинственный певец» вместо «Лишь я — таинственный певец». Любопытно, что и из тринадцатой строки «Спасен Дельфином, я пою» «я» было исключено, однако глагол сохранил личную форму первого лица, получилось: «Спасен Дельфином, пою». В окончательном варианте текста строка была снова изменена, приобретя привычное для нас звучание: «Я гимны прежние пою» (III, 58). Колебания Пушкина в выборе строки 13 не прошли мимо внимания исследователей. Так, Т. Г. Цявловская, принадлежавшая к числу активнейших создателей мифа о «Пушкине-декабристе», писала об этом следующим образом: «Исследователь не может не остановить своего внимания на том, что самый ударный, выразительный стих „Ариона“ — „Я гимны прежние пою“ — появился в тексте далеко не сразу. Три известных нам варианта 13-го стиха, написанные в 1827 г., были заменены впоследствии тем стихом, ради которого, казалось бы, написано стихотворение. Когда? Быть может, только в 1830 г., перед публикацией стихотворения в „Литературной газете“ в том окончательном виде, который всегда и печатается? — Сказать трудно»[365]. Как видим, хотя Т. Г. Цявловская и признает ключевое значение строки 13 «Ариона» (стих, ради которого, казалось бы, написано стихотворение), она даже не пытается ответить на вопрос, чем определены колебания поэта в ее выборе. Не дал объяснения этому обстоятельству и Ю. П. Суздальский, с методологической точки зрения безусловный протагонист Т. Г. Цявловской. В своем исследовании, посвященном реконструкции культурного фона стихотворения, он только констатировал, что Пушкин в работе над стихотворением постепенно удалялся от античного мифа об Арионе и что окончательный вариант, кроме мотива чудесного спасения поэта, не содержит ничего общего с историей о рапсоде, спасенном чудесной силой своего искусства[366]. Это, может быть, чересчур категоричный вывод, поскольку и в своем окончательном виде пушкинское стихотворение содержит общий с мифом мотив «спасения из морской стихии», не говоря уже о том, что в обоих случаях речь идет о певцах, поэтах. Но, конечно, важно, что античный миф содержал не только мотив спасения (кстати, ни о какой буре речи в нем не идет), но и образ чудесного спасителя — Дельфина, — присутствующий в промежуточных вариантах стихотворения, но исключенный из окончательного текста. Наиболее же содержательные отличия пушкинского «Ариона» от древнегреческого мифа таковы: 1. В мифе рапсод Арион, возвращаясь на корабле с поэтического состязания, на котором он выиграл крупный денежный приз, попадает к разбойникам. У Пушкина поэт на «чолне» находится среди друзей и единомышленников. 2. В мифе разбойники покушаются на имущество и жизнь Ариона. У Пушкина источником общей, а не только для поэта, опасности является внезапно налетевшая буря. 3. Арион спасается, получив от разбойников разрешение исполнить свой гимн. Пение рапсода привлекает дельфина. Таким образом, вся история обретает особое дидактическое звучание: оказывается, что поэт избавляется от опасности силой своего искусства. Именно здесь Пушкин проявляет наибольшие колебания, раздваиваясь между желанием объяснить спасение «таинственного певца» вмешательством чудесного спасителя («Спасен Дельфином, я пою») или же просто действием слепых сил судьбы, которые случайно пощадили его одного. Последнее объяснение находится в наиболее резком противоречии с содержанием античного мифа, поскольку элиминирует не только роль чудесного спасителя, но и мотив спасительной силы самого искусства. 4. В древнегреческой истории Арион, принесенный дельфином к берегам Коринфа, был радостно встречен здесь местным тираном Пелиандром. У Пушкина же этот мотив «радостной встречи» полностью отсутствует, и это значимо, поскольку стихотворение включает в себя описание берега. 5. И наконец, в пушкинском стихотворении «гроза» («вихорь шумный») является не только источником опасности, но одновременно и средством спасения («на берег выброшен грозою»). Таким образом, в стихотворении выстраивается некоторая цепь случайностей: неожиданны как сама буря, так и спасение от нее. Это совмещение неожиданностей парадоксально усложняет всю ситуацию, подчиняя ее каким-то таинственным законам (отсюда «таинственный певец»). Нам представляется, что колебанием в решении вопроса о том, кому именно поэт обязан своим спасением, слепым силам судьбы, персонифицированным в образе «грозы», или же чудесному спасителю-«Дельфину», связано возникновение другой, столь же непростой проблемы выбора между «Гимном избавления» и «песнями (гимнами) прежними». «Избавление» предполагает более тесную связь с чудесным спасителем. Чем же определены пушкинские колебания? Очевидный ответ: динамикой судьбы поэта, по крайней мере тех ее трех лет, которые отделили время написания стихотворения от времени его публикации. Между тем в многочисленных работах, посвященных «Ариону» и написанных в рамках биографического подхода, не дается сколько-нибудь убедительного объяснения этим колебаниям. И не только потому, что большинство советских исследователей, занимавшихся «Арионом», разделяли миф о «Пушкине-декабристе». Мы попробуем изложить свою версию биографического контекста, значимого для понимания «Ариона», но нам важно это не столько для новой интерпретации стихотворения, сколько для выявления того, что не поддается объяснению ни в рамках любого из двух мифов о Пушкине, ни в рамках узкобиографического подхода вообще.
* * *
Во второй половине июня 1826 г. поэт получает от П. А. Вяземского письмо, где впервые утверждается, что Пушкин «остался цел и невредим в общую бурю», — вывод, целиком определенный тем обстоятельством, что следствие по делу декабристов практически закончено и Пушкин не был к нему привлечен. Значит, считает Вяземский, Пушкин теперь вправе обратиться с письмом к императору: «На твоем месте <…> я <…> сознался бы в шалостях языка и пера с указанием, однако же, что поступки твои не были сообщниками твоих слов, ибо ты остался цел и невредим в общую бурю; обещал бы впредь держать язык и перо на привязи» (письмо от 12 июня 1826 г. — XIII, 285; курсив мой. — И. Н.). С того времени, когда Пушкин узнает о масштабах декабрьской катастрофы и правительственных репрессиях, с ней связанных, его постоянно преследуют два противоречивых чувства: негодование на правительство и желание обратиться к императору с просьбой о прекращении собственного изгнания. Сделать это впрямую мешает идущее по делу декабристов следствие. Поэт понимает, что обратиться к императору непосредственно можно будет только тогда, когда будет установлена его невиновность (или степень вины не будет признана большой). В письмах мотивы «опасения» и «оправдания» постоянно связаны. «Я человек мирный. Но я беспокоюсь — и дай Бог, чтобы было понапрасну» (А. А. Дельвигу — 20-е числа января 1826 г. — XIII, 256); «Все-таки я от жандарма еще не ушел, легко, может, уличат меня в политических разговорах с каким-нибудь из обвиненных…» (В. А. Жуковскому. 20-е числа января 1826 г. — XIII, 257). Письмо к Жуковскому интересно, во-первых, выражением вызывающей независимости: «Теперь положим, что правительство и захочет прекратить мою опалу, с ним я готов условливаться (буде условия необходимы), но вам решительно говорю не отвечать и не ручаться за меня. Мое будущее поведение зависит от обстоятельств, от обхождения со мною правительства…» (там же). При этом Пушкин прекрасно понимает, что читать его письмо будет отнюдь не только Жуковский (отсюда признание в «неблагоразумности» послания). Во-вторых, тем, что здесь впервые ясно выражается желание Пушкина рассчитывать на «счастье», т. е. на счастливый случай («Письмо это неблагоразумно конечно, но должно же доверять иногда и счастию» — там же). В январе 1826 г., когда писалось это письмо, Пушкин весьма далек от того, чтобы идти на серьезные уступки по отношению к правительству. В дальнейшем эта позиция будет меняться, и поэт сначала попросит Жуковского показать цитированное выше письмо Н. М. Карамзину, а затем императору. Уже в начале февраля 1826 г. в письме к А. А. Дельвигу Пушкин сознается в том, что готов «вполне и искренно помириться с правительством» (XIII, 259). При этом 12 апреля Жуковский пишет ему чрезвычайно резкое письмо, где прямо говорится: «В теперешних обстоятельствах нет никакой возможности ничего сделать [для тебя] в твою пользу <…> не просись в Петербург. Еще не время» (XIII, 271). Намерение Пушкина обратиться к правительству с письмом, формальноадресованным Жуковскому, не вызвало никакого сочувствия последнего: «Я никак не умею изъяснить, для чего ты написал ко мне последнее письмо свое. Есть ли оно только ко мне, то оно странно. Есть ли ж для того, чтобы его показать, то безрассудно» (там же; курсив Жуковского). Полученное через два месяца письмо Вяземского стало, таким образом, для Пушкина своеобразным сигналом от друзей, что время договариваться с правительством пришло. В повторном обращении к поэту от 31 июля 1826 г. Вяземский говорит об этом еще более определенно, снова объясняя, почему он так считает: «Ты имеешь права не сомнительные на внимание, ибо остался неприкосновен в общей буре» (XIII, 289). Так образ морской бури из необязательного сравнения становится важнейшим мотивом переписки Пушкина — Вяземского, поскольку не просто повторяется, но и вписывается в поэтический контекст, — письмо Вяземского от 31 июля содержит стихотворение «Море», где говорится о волнах:(XIII, 287)
(XIII, 290)
В. С. Листов Миф об «островном пророчестве» в творческом сознании Пушкина
Опора на культурные, мифологические традиции — несомненная особенность пушкинского творчества. Она надежно выявляется во многих стихотворениях, на страницах прозы и драмы, в эпистолярном наследии. О том же свидетельствует обширный круг источников, отразивший — документально и мемуарно — весь жизненный путь поэта. Нужны ли примеры? Каждый, кто внимательно читал Пушкина, знает их множество. Культ Богоматери или пророчество Исайи, сказание об Иосифе Египетском или драма блудного сына, страсти Иова многострадального или новозаветный эпизод ухода рыбаков-апостолов — список таких обращений Пушкина к священной истории можно продолжать без конца. Но нас занимает не только и даже не столько ориентация пушкинского сознания на тот или иной текст великих Книг, сколько глубина и последовательность такой ориентации. Часто один и тот же поэтический образ, восходящий к священному писанию или преданию, как бы преследует Пушкина от времен лицейской юности до самых последних дней жизни, развивается, наполняется новыми смыслами, испытывается в разных контекстах. Одному из таких образов, оставивших, по нашему мнению, след в стихотворении «Я памятник себе воздвиг нерукотворный» (1836), и посвящен предлагаемый очерк.1
Начнем с двух простых утверждений, вовсе нынче не полемичных. Во-первых, стихотворение «Памятник» итоговое. В нем завершаются раздумья Пушкина о судьбах России и ее поэта, раздумья, прошедшие через всю жизнь. Тут историко-философское и моральное резюме всего, что наполняло течение пушкинской мысли от ее истока почти до самого устья; тут магистрал творчества. Во-вторых, стихи пророческие. Их мощные лучи проникают далеко за черту скорой гибели поэта, высвечивают грядущее, пока еще сокрытое от пушкинских современников. Можно без конца множить высокие эпитеты и употреблять превосходные степени — в этом нет необходимости. Поэтому скажем сразу: исходной точкой наших размышлений станет маленькая странность, по-видимому до сих пор не привлекавшая внимания истолкователей. Эта странность — кажущееся резкое масштабное несоответствие текста стихотворения его атрибуции в автографе. Под последней строкой белового автографа стихотворения Пушкин делает характерный завершающий прочерк и ставит: «1836 авг. 21. Кам. остр.»[391] Кажется, объяснить эту запись нетрудно. Совершенно ясно, что Пушкин написал стихотворение в августе 1836 г. на Каменном острове, т. е. в дачной местности под Петербургом. Сомнений быть не может — именно свое последнее лето поэт проводит с семейством на каменноостровской даче. Но так ли все просто? Перечитайте мысленно «Памятник», снова — в который раз! — убедитесь, как высоко парит стихотворение над временем и пространством. Почти два тысячелетия, прошедшие от горациева «Exegi monumentum», сопряжены в нем с будущим, продленным едва ли не до конца времен, — «…доколь в подлунном мире / Жив будет хоть один пиит». В строфах «Памятника» слышны отголоски многих языков и культур, прощупываются живые связи России с Западом и Востоком — дух захватывает от шага этой поэзии. И с этой-то высоты Пушкин почему-то различает дачную местность под Петербургом, ничем не примечательное течение жизни; все, что связано с записью, завершающей стихотворение, по первому впечатлению ведет к чисто бытовым реалиям. Размеренное дачное существование, глухой предосенний сезон; у Пушкина еще не кончился траур по недавно умершей матери; Наталья Николаевна уже начала помаленьку выезжать. Ее отлучки на «минеральные балы» — скромные полуофициальные приемы на водах, у императрицы — вызывают легкую зависть сестер. Они изредка ездят в театр, но больше скучают. Иногда врываются шумные ватаги молодых Карамзиных — все некстати. Прибаливают дети; нет денег, долги. Семейственная жизнь не располагает к увеселениям. Вот о чем должна была бы напоминать Пушкину строка о Каменном острове, будь она простой топографической формальностью. Но в этом случае Пушкин, может быть, просто не проставил бы место написания стихотворения, как не проставлено оно под многими его произведениями. Мы склонны видеть здесь не одно только топографическое указание, но преимущественно какой-то важный для автора намек, смысловой акцент. Такое предположение, если бы оно подтвердилось, заполнило бы отмеченную пропасть между нерукотворной высотой пушкинского стиха и низкой истиной, «скукой загородных дач», как говорил потом А. А. Блок. Можно привести немало примеров того, как Пушкин выставляет под стихами топоним не по простым фактическим соображениям, но движимый чисто художественными мотивами. Давно известно, скажем, что многие «южные» стихотворения 1820 г. помечены в автографах местами, явно противоречащими датам. Элегия «Погасло дневное светило…» завершена пометой «Черное море. 1820. Сентябрь», что не согласуется с письмом автора к брату Льву от 24 сентября того же года. Строго фактически либо время, либо место, указанное здесь Пушкиным, ошибочно. То же самое в стихотворении «Увы, зачем она блистает…» — в одном его автографе сразу два равноправных топонима: «Киев» и «Гурзуф». Столь же сомнительный «Юрзуф, 20 октября» проставлен под стихотворением «Мне вас не жаль, года весны моей…» — в тот день Пушкин уже в Крыму не был. Для нашей темы особенно важна условная топонимика в двух стихотворениях: «К чему холодные сомненья?..» и «Герой». Первое (оно же и послание к П. Я. Чаадаеву) Пушкин публикует в составе «Отрывка из письма к Д.» с пояснением, будто эти рифмы посетили его в Крыму на развалинах храма Дианы. Между тем стихотворение написано четырьмя годами позже и вдалеке от Крыма. Стихотворение «Герой» создано в Болдино, но помечено: «Москва» — Пушкин связывал содержание стихов с приездом Николая I в Москву, охваченную холерой в сентябре 1830 г.[392] Этот случай самый показательный. Авторская атрибуция произведения выступает здесь как некая художественная условность, как элемент образной ткани стихотворения. К этим стихам нам предстоит еще возвращаться; пока заметим только, что обе вещи — и «Герой», и «К чему холодные сомненья?..» — суть размышления поэта о двух истинах: истине высокой, поэтической, и истине низкой, приземленно-буквальной. А топоним в обоих стихах стоит как бы на границе двух миров — образного и буквального. И может читаться поэтому двойственно. Что-то подобное происходит, по нашему мнению, и с топонимом «Каменный остров» в автографе «Памятника». Простой, так сказать, «рукотворный» смысл пометы понятен: пусть стихотворение действительно написано летом 1836 г. на Каменном острове, и это факт биографии поэта. Но попробуем понять топоним и в другом, небытовом ряду, соотнести его с образным миром стихотворения. Мы условились в начале, что будем принимать «Памятник» как произведение пророческое, обращенное в грядущее, за черту земной жизни поэта. Значит, можно описать положение вещей так: некто, обладающий пророческим даром, находится на каменном острове, где ему приходит видение будущего. Попытаемся исходя из этого проникнуть в символический смысл ситуации и назвать первоисточник, на который здесь очевидно ориентируется Пушкин. Образ пророка, которого на острове посещает видение, мог иметь в пушкинские времена одну и притом совершенно ясную аналогию: Иоанн Богослов, автор Апокалипсиса. Остров как место, где будущее открывается пророку, обозначен уже в первой, вводной главе этого знаменитого раннехристианского сочинения: «Я, Иоанн, брат ваш и соучастник в скорби и в царствии и в терпении Иисуса Христа, был на острове, называемом Патмос, за слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа. Я был в духе в день воскресный и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил: Я есмь Альфа и Омега, Первый и Последний; То, что видишь, напиши в книгу…» (Апокалипсис. 1:9–11). И далее, на протяжении следующих 22-х глав, Иоанн описывает свои видения — страшный суд, борьбу сил небесных с дьявольскими, наказание грешников и возвышение праведных и, наконец, новое небо и новую землю как венец апокалиптической символики. Вот что является автору на острове Патмос (или Пафмос). Именно на ситуацию Апокалипсиса — пророк на острове — ориентируется Пушкин, когда ставит под своим пророческим «Памятником» весьма обязывающий в этом контексте топоним: «Каменный остров». Такой вывод, разумеется, требует серьезных подтверждений. Первое и главное из них мы найдем в письме Пушкина к А. И. Тургеневу от 7 мая 1821 г., отправленному из кишиневской ссылки в Петербург. Вот начало этого письма: «Не правда ли, что вы меня не забыли, хотя я ничего не писал и давно не получал об вас никакого известия? Мочи нет, почтенный Александр Иванович, как мне хочется недели две побывать в этом пакостном Петербурге: без Карамзиных, без вас двух да еще без некоторых избранных соскучишься и не в Кишиневе. <…> В руце твои предаюся, отче! Вы, который сближены с жителями Каменного острова, не можете ли вы меня вытребовать на несколько дней (однако ж не более) с моего острова Пафмоса? Я привезу вам за то сочинение во вкусе Апокалипсиса и посвящу вам, христолюбивому пастырю поэтического нашего стада…» (XIII, 29). Строки этого письма на полтора десятилетия старше стихотворения «Памятник». Они надежно свидетельствуют, что, во-первых, образ острова как места нахождения пророка прочен в сознании Пушкина и что, во-вторых, поэт уже явно соотносит, сближает в своих представлениях апокалиптический Патмос и петербургский Каменный остров. Конечно, Кишинев не буквально остров; конечно, под «жителями Каменного острова» здесь надо понимать царскую семью, проводящую лето за городом. Но само столкновение Патмоса и Каменного острова в одной пушкинской фразе знаменательно; оно не должно быть упущено в предыстории «Памятника». К тексту письма Тургеневу нам еще предстоит вернуться; пока же приведем доказательства того, что мотив островного пророчества не покидает Пушкина и в последующие годы. Быть может, нигде и никогда до «Памятника» Пушкин не сознавал так ясно свой дар, как в Болдино осенью 1830 г. Сравнение уединенного, холерными карантинами отрезанного от мира селения с островом, конечно, напрашивалось и с полной ясностью выступило в переписке поэта. «Я живу в деревне как в острове» (XIV, 121) — это из письма к А. А. Дельвигу от 4 ноября. И еще — это уже из письма к невесте от 11 октября: «Болдино имеет вид острова, окруженного скалами» (XIV, 115; подлинник по-французски). К середине болдинской осени Пушкин пишет диалогическое стихотворение «Герой» и отправляет его в Москву М. П. Погодину. В сопроводительном письме — знакомый образ: «Посылаю вам из моего Пафмоса Апокалиптическую песнь. Напечатайте, где хотите, хоть в Ведомостях — но прошу вас и требую именем нашей дружбы не объявлять никому моего имени. Если московская цензура не пропустит ее, то перешлите Дельвигу, но также без моего имени и не моей рукою переписанную…» (XIV, 121–122). В следующем, 1831 г. Пушкин снова упомянет Патмос — на этот раз в письме к П. А. Плетневу. Именем знаменитого новозаветного острова будет названо место карантинного заточения Плетнева, спасавшегося от холеры в усадьбе под Петербургом (XIV, 193). Достаточно. Совершенно ясно, что в сознании Пушкина, хорошо знакомого со Священным писанием, ситуация видения на острове была осознанна и активна. Она прослеживается не только в письмах, но и во многих произведениях. Островное видение присутствует и в «Медном всаднике» — ведь именно на острове стоит Тот, кто «дум великих полн», кто прозревает будущее. Близки по значению образы «острова малого» из заключения поэмы и «печальный остров — берег дикой» из таинственного стихотворного наброска «Когда порой воспоминанье…» (III, 243–244)[393]. Прямой апокалиптический сюжет находим и в другом известном «островном» произведении Пушкина — устной повести «Уединенный домик на Васильевском». Записавший ее Владимир Титов позднее вспоминал, что «честь вымысла» именно апокалиптических мотивов, связанных с «числом зверя 666», игроками-чертями и всей главной нитью рассказа, принадлежит Пушкину[394]. Заметим и то, что, кажется, замечено не было: в кульминационный миг повести пожар охватывает уединенный домик, и старая грешница, быть может убийца, сгорает без покаяния — родственность этого эпизода на острове и детали апокалиптической картины «страшного суда» кажется довольно близкой: в Откровении Иоанновом «от огня, дыма и серы» гибнут среди других те, кто не раскаялись в убийствах своих (Апокалипсис. 9:13–21). Но вернемся из области видений к реальной строке, завершающей стихотворение «Памятник». Пушкин знает, конечно, не только канонический текст Иоаннова Откровения, но и простой географический факт: остров Патмос реально существовал и существует в Эгейском море — независимо от того, верно ли предание о том, что римский император Домициан изгнал сюда христианского проповедника. Вполне доступен Пушкину и другой географический факт: Патмос есть остров скалистый, каменный. Об этом можно было прочесть в любом энциклопедическом справочнике, в записках любого из многочисленных путешественников к святым местам. Сошлемся, например, на выдержавший пять изданий к началу XIX в. путевой дневник русского монаха Василия Григоровича-Барского — одно из самых распространенных в пушкинское время сочинений. Подробнее мы скажем о нем в своем месте; сейчас же отметим описание Патмоса. То, что остров каменист, автор подчеркивает даже с некоторой назойливостью. Дома на Патмосе черны, утверждает Григорович-Барский, они выстроены из местного материала, «понеже весь остров черный раждает камень». И далее: «…есть пещера каменная от древле, в ней же святый Иоанн Богослов Евангелие и Апокалипсис написа». В похвале одному из патмосских монахов, пробовавших заниматься на острове земледелием, путешественник замечает, что он «прежде неплоден и сух камень уплодоноси» и тем облагообразил вид «убогаго и сухаго острова»[395]. Таким образом, игра вокруг «Памятника» упрощенно сводится к такой формуле: новозаветный Патмос есть от природы каменный остров, а петербургский Каменный остров отвечает легендарному и своим названием, и как местонахождение провидца. Подобное сближение двух островов, отмеченное в сознании поэта, было бы просто любопытным, если бы не два обстоятельства, такому сближению сопутствующих. Во-первых, Пушкин как бы ставит себя на место одного из самых почитаемых святых, и отсвет суда Божьего как бы падает на стихотворные строки. Во-вторых, среди линий пушкинского творчества, завершаемых «Памятником», видится и линия, связанная с провидческим даром автора, даром высоким, а главное, вполне осознанным. Оба эти обстоятельства заслуживают пристального изучения — даже независимо от пометы «Каменный остров» под текстом итогового стихотворения.2
Если провидческую линию творчества, по которой Пушкин пришел к «Памятнику», представить себе в виде древесного ствола, то, вероятно, окажется, что мощные его ответвления будут подчас не менее важны, чем основная вертикаль, ведущая от корней к вершине. Поэтому, продолжая наблюдения над пушкинским текстом, мы поведем наш рассказ от лицейских опытов к «Пророку» и «Герою», но по мере необходимости будем свободно отвлекаться в стороны. Ибо в мире пушкинского стиха, по нашему мнению, нет и быть не может закосневших, статических понятий «важное» и «второстепенное». Предчувствие пророческого дара посещало Пушкина уже очень рано, в юности, — творчество лицейской поры надежно доказывает это. Но тут далеко не все еще понято. И вот пример. В своей работе «Строфика Пушкина»[396] Б. В. Томашевский открыл странную, труднообъяснимую перекличку. Во всем стихотворчестве Пушкина больше нет, оказывается, строфы «Памятника» — нет этого шестистопного ямба с перекрестными рифмами, где последняя, четвертая, строка усечена до четырех стоп и завершена мужским окончанием. Из этого правила есть только одно исключение: завершающая строфа лицейского стихотворения 1815 г. «Наполеон на Эльбе»:(I, 118)
3
Стихотворение «Герой», написанное в дни «болдинской осени» 1830 г., уже упоминалось как важнейшее звено, связующее ранние прозрения Пушкина с его итоговым «Памятником». Сомневаться не приходится, напомним, поэт сам пишет в письме М. П. Погодину в Москву: «Посылаю вам из моего Пафмоса Апокалиптическую песнь…» (XIV, 121). «Песнь» эта необходима и в цепи наших наблюдений — хотя, конечно, стихотворение глубины бездонной и может быть понято совершенно иначе[401]. Нас занимает только патмосский мотив, роднящий «Героя» с «Памятником», и в этой связи некоторые источники и обстоятельства, важные для такого истолкования пушкинского стихотворного диалога. Почему Пушкин назвал «Героя» апокалиптической песнью? Как в этом стихотворении переосмыслены атрибуты болдинского затворничества? В чем смысл беспокойства поэта о цензурных трудностях при печатании вещи? Вот вопросы, которые займут наше внимание. На первый вопрос ответить вроде бы нетрудно: сразу слышится мотив, знакомый нам по лицейскому стихотворению. Когда Поэт в своем монологе говорит о Наполеоне:(III, 252)
(III, 251)
(III, 252)
* * *
Мы начали с утверждения, что «Памятник» есть стихотворение итоговое; затем проследили, как патмосская тема прошла через два десятилетия пушкинского творчества. Путь этот намечен нами пунктирно — мы отдаем себе отчет в том, что по ходу нашего изложения вопросов возникло, вероятно, больше, чем было получено ответов. Но есть ли вообще в пушкинском мире окончательные ответы? И все-таки на очереди вопрос, который сейчас, в заключение, необходимо поставить. Если мы утверждаем, что в «Памятнике» — итог всего творчества Пушкина, то, значит, мотив патмосского пророческого тайновидения должен найти в стихотворении свой отзвук. Есть ли такой отзвук в тексте самого стихотворения? Или вся наша догадка основывается только на топониме «Каменный остров» и общей родственности других пророческих стихов «Памятнику»? Нам кажется, что такой отзвук есть. Пушкин поздней поры, как известно, был особенно чуток к раннехристианской культурной традиции — обращался к поучениям Ефрема Сирина, делал выписки из житийной литературы; в последнем, по-видимому, незавершенном цикле стихов смело противопоставлял евангельское духовное начало официальному культу. Отчетливее всего это выступает в стихотворении «Мирская власть». Здесь не место поднимать старую проблему — входил или не входил «Памятник» в последний пушкинский стихотворный цикл. Достаточно будет только напомнить о близости «Памятника» и последних стихотворений. Одна из важных сторон этой близости — именно патмосская тема. Наиболее пророческие по своему смыслу стихи последнего цикла «Мирская власть» и «Когда за городом задумчив я брожу» тоже помечены топонимом «Каменный остров». Это не все. В «Мирской власти» стихи, посвященные картине распятия, основаны на тексте «Евангелия от Иоанна». Только там, в четвертом евангелии, сказано о близком присутствии при крестных муках «Марии-грешницы и пресвятой девы», о чем свидетельствует Иоанн, находящийся там же. Отрывок «Сосны» («Вновь я посетил тот уголок земли, где я провел…») помечен датой: «26 сентября». Можно предположить, что это не только дата написания стихов, но и день поминовения Иоанна Богослова. Кстати будет напомнить, что патмосского тайновидца церковная традиция полагала покровителем художников, и день 26 сентября считался их праздником[406]. Но обратимся к тексту самого «Памятника»: Первая же его строфа дает нам некий символический образ, вознесшийся выше Александрийского столпа. Этот столп вызвал к жизни целую литературу; обсуждались мотивы колоссального сооружения древней Александрии, Александрова колонна на Дворцовой площади в Петербурге, монумент, воздвигнутый Румянцевым в честь 1812 г., и, наконец, Вавилонский столп библейской книги «Бытие». Все соотнесения правомерны. Однако если вчитаться в пушкинские строки, то станет ясно, что поэт ставит тут смысловой акцент не на Александрийском столпе, чем бы он ни был, а на некоем образе, который выше этого монумента. Что же выше? Другими словами, каков образный эквивалент памятника, сложившийся в сознании Пушкина? В первой строфе «Памятника» главный мотив есть несомненно сравнение, сравнение двух высоких символов. Проще и прямее всего было бы, конечно, сравнение рукотворного столпа со столпом же. Но именно в Апокалипсисе дан образ нерукотворного столпа. В главе 3 мы находим обращение свыше к Иоанну; в нем сказано о суде над «сатанинским сборищем» и об отделении праведников, побеждающих искушения, от грешников. Голос свыше вещает пророку: «Се гряду скоро; держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего…» (Апокалипсис. 3:11–12). Образ праведника, послушного велению Божию и получающего достоинство нерукотворного столпа в грядущем храме, — очень близко связывает начальные строки «Памятника» с патмосским откровением. В этом же культурно-историческом русле можно понимать и некоторые другие мотивы пушкинского стихотворения. Но полный разбор всего этого смыслового слоя сейчас не входит в нашу задачу. Отметим только еще один патмосский мотив в следующей, второй строфе «Памятника». Для этого нам придется напомнить, как завершается Иоанново благовествование. В его последней главе Иоанн Богослов рассказывает о том, как Иисус, поручив апостолу Петру свою паству, т. е. церковь, покидает учеников и вообще жизнь земную. Следующую картину Иоанн дает глазами Петра и говорит о себе, любимом ученике Спасителя, в третьем лице: «Петр же, обратившись, видит идущего за ним ученика, которого любил Иисус <…>. Его увидев, Петр говорит Иисусу: Господи! а он что? Иисус говорит ему: если Я хочу, чтобы он пребыл, пока прииду, что тебе до того? <…> И пронеслось это слово между братиями, что ученик тот не умрет. Но Иисус не сказал ему, что не умрет, но: если Я хочу, чтобы он пребыл, пока прииду, что до того?» (Иоанн. 21:20–23). В этом отрывке Иоанн-тайновидец, покровитель художников и создатель божественного логоса, явно противопоставлен Петру, олицетворяющему, как известно, церковь. У Иоанна свое избранничество и свой путь — до самого второго пришествия. Апостолы сказали свое слово: «ученик тот не умрет». Иисус же не утвердил, но и не отрицал их мнения — впереди у Иоанна высокое видение на каменистом острове Патмос, и тем будет отличаться бессмертие его души от бессмертия других учеников: «То, что видишь, напиши в книгу…» (Апокалипсис. 1:11). К мере, характеру смертности и бессмертия Иоанна тут близко приходится пушкинское откровение:1980
Р. В. Иезуитова «Утаенная любовь» Пушкина
«Утаенная любовь» Пушкина принадлежит к числу величайших и все еще не разгаданных загадок пушкиноведения. Обращаясь к этому удивительному литературному феномену, мы вступаем в «тайное тайных», глубоко сокровенную жизнь Пушкина, касаемся тех ее сторон, которые помогают понять и осмыслить самые яркие и романтически возвышенные шедевры его поэзии. Пушкин оставил немало лирических признаний о сильной и мучительной страсти, пережитой им в молодые годы, для которой нашел емкую поэтическую формулу «утаенная любовь». В черновиках «Посвящения» к «Полтаве», воскрешая в памяти прекрасный женский образ, вдохновлявший его в годы юности, Пушкин писал:(V, 322)
(I, 208)
(I, 208)
(II, 146)
(II, 303)
(II, 147)
(II, 167)
(II, 255)
(II, 208)
(II, 209)
(II, 165)
(IV, 95)
(IV, 106)
(IV, 170–171)
(IV, 169)[417]
(II, 157)
* * *
Еще первыми исследователями, обратившимися к теме «утаенной любви», были определены строгие хронологические границы возникновения и функционирования в поэзии Пушкина особого комплекса лирических мотивов, образов и тем, охватывающих в своей совокупности широкий круг произведений преимущественно южного и отчасти одесского периода. Однако в работах последующего времени, в особенности в новейших, есть немало примеров произвольного толкования понятия «утаенности», стремления выйти за рамки данного периода жизни Пушкина и применить это понятие к произведениям более позднего времени, когда, на наш взгляд, тема «утаенной любви» утратила для Пушкина свое прежнее значение. Подобные расширительные тенденции можно наблюдать на примере работ, которые посвящены трем одесским увлечениям поэта, в разной степени соотносимых с «утаенной любовью». Первое из них, отразившееся в ряде лирических стихов осени 1823 — начала 1824 г., подробно охарактеризовано в статье П. Е. Щеголева «Амалия Ризнич в поэзии А. С. Пушкина». Здесь предпринята попытка установить круг произведений, относящихся к этой женщине[424]. Кратковременная, но бурная вспышка страсти к «негоциантке молодой» оставила тем не менее глубокий след в душе поэта. Ранняя смерть Амалии Ризнич придала этому чувству трагический оттенок, и лишь известие о казни декабристов, полученное одновременно с вестью о кончине Ризнич, на время отодвинуло это чувство на второй план. Все это отразилось в истории создания элегии 1826 г. «Под небом голубым страны своей родной…». Однако уже в черновых строфах «Воспоминания» (1828) этот прекрасный женский образ оживает вновь:(III, 654–655)
(II, 271)
(II, 786)
(V, 88)
(VI, 200)
(II, 328–329)
Я. Л. Левкович Жена поэта
(III, 224)
(VI, 171, 172)
(XV, 33)
И. С. Чистова К статье С. А. Соболевского «Таинственные приметы в жизни Пушкина»
В 1870 г. в «Русском архиве» была напечатана статья близкого друга Пушкина, библиофила и библиографа С. А. Соболевского о «странном <…> предсказании, имевшем <…> сильное влияние»[484] на поэта. Статью эту Соболевский писал, по всей видимости, незадолго до смерти (он умер 6 октября 1870 г.) — так во всяком случае следует из не публиковавшегося прежде письма к нему петербургского приятеля Пушкина конногвардейца П. Б. Мансурова, отправленного из Теплица летом 1870 г.; подробнее об этом письме мы скажем чуть позже, а пока напомним тот эпизод из биографии Пушкина, который привлек внимание мемуариста. Поздней осенью 1819 г.[485] (по другим данным — 1817-го[486]) Пушкин посетил известную петербургскую гадалку немку Кирхгоф, по профессии модистку, с успехом промышлявшую по приезде в северную столицу в самом начале 1810-х годов ворожбой и гаданьем. Популярность Кирхгоф была необычайно велика; известно, например, что в конце 1811 — начале 1812 гг. Александр I, предчувствовавший, что война с Наполеоном неизбежна, но в высшей степени этой войны не желавший, в своих попытках найти выход из затруднительного положения обратился за помощью к знаменитой прорицательнице. Этот любопытный эпизод был весьма подробно воспроизведен в воспоминаниях мемуариста К. Мартенса, в молодости офицера, которому довелось стать невольным свидетелем визита императора к гадалке: «Однажды вечером я находился у этой дамы, когда у дверей ее квартиры раздался звонок, а затем в комнату вбежала служанка и прошептала: „Император!“. — Ради Бога, спрячьтесь в этом кабинете, — сказала мне вполголоса г-жа Кирхгоф, — если император увидит вас со мною, то вы погибли. Я исполнил ее совет, но через отверстия, проделанные в дверях, вероятно, нарочно, мог видеть все, что происходило в зале. Император вошел в комнату в сопровождении генерал-адъютанта Уварова. Они были оба в статском платье, и по тому, как император поздоровался, можно было понять, что он надеялся быть неузнанным. Г-жа Кирхгоф стала гадать ему; хотя она говорила очень тихо, но я мог все-таки слышать. — Вы не то, чем вы кажетесь, — сказала она… — но я не вижу по картам, кто вы такой. Вы находитесь в двусмысленном, очень трудном, даже опасном положении. Вы не знаете, на что решиться. Ваши дела пойдут блестяще, если вы будете действовать смело и энергично. Вначале вы испытаете большое несчастье, но, вооружившись твердостью и решимостью, преодолеете бедствие. Вам предстоит блестящее будущее. В то время как она говорила, император сидел, склонив голову на руку, и пристально смотрел на карты. При последних словах он вскочил и воскликнул: „Пойдем, брат“ — и уехал вместе с ним в санях»[487]. Позднее, за год до декабрьских событий 1825 г., Кирхгоф объявила младшему брату декабриста И. И. Пущина М. И. Пущину, причастному к Северному обществу: «Странно говорят карты, вы будете солдат»[488], а за две недели до восстания предрекла смерть Милорадовича[489]. Пушкин узнал о Кирхгоф скорее всего от своих приятелей, принадлежавших к литературно-театральным кругам Петербурга. Актеры (особенно актрисы) были частыми гостями у гадальщицы. О своем визите к знаменитой вещунье поэт рассказывал друзьям; некоторые из них сохранили этот рассказ в своих воспоминаниях. Так, о визите Пушкина к Кирхгоф мы знаем со слов А. Н. Вульфа, П. В. Нащокина, Л. С. Пушкина и др.[490] «Я часто слышал от него самого об этом происшествии, — писал Соболевский, — он любил рассказывать его в ответ на шутки, возбуждаемые его верою в разные приметы. Сверх того, он в моем присутствии не раз рассказывал об этом именно при тех лицах, которые были у гадальщицы при самом гадании. <…> Для проверки и пополнения напечатанных уже рассказов считаю нужным присоединить все то, о чем помню положительно, в дополнение прежнего, восстановляя все то, что в них перебито или переиначено. Предсказание было о том, во-первых, что он скоро получит деньги; во-вторых, что ему будет сделано неожиданное предложение; в-третьих, что он прославится и будет кумиром соотечественников; в-четвертых, что он дважды подвергнется ссылке; наконец, что он проживет долго, если на 37-м году возраста не случится с ним какой беды от белой лошади, или белой головы, или белого человека (weisser Ross, weisser Kopf, weisser Mensch), которых и должен он опасаться. Первое предсказание о письме с деньгами сбылось в тот же вечер; Пушкин, возвратясь домой, нашел совершенно неожиданное письмо от лицейского товарища, который извещал его о высылке карточного долга, забытого Пушкиным. <…> Не менее странно было для него и то, что несколько дней спустя в театре его подозвал к себе Алексей Федорович Орлов (впоследствии князь) и <…> предлагал служить в конной гвардии»[491]. Желая восстановить истинную картину встречи Пушкина с Кирхгоф, Соболевский, до конца не доверяя себе, пытался найти подтверждение известным ему фактам в свидетельствах тех, кто, по преданию, сам бывал в располагавшейся недалеко от Морской квартире гадалки, — возможно, даже вместе с Пушкиным. Доказательством этому служитназванное выше письмо П. Б. Мансурова Соболевскому, написанное в ответ на вопросы адресата. Приведем его полностью: «Теплиц, 23 июля/4 августа 1870. Многоуважаемый Сергей Александрович, очень сожалею, что по причине моего отсутствия из Парижа я замедлил в сообщении Вам ответа на Ваше письмо. На вопрос, сделанный мне Вами насчет Пушкина, по давности времени мало могу припомнить; могу лишь достоверно сказать следующее: Пушкин был у знаменитой тогда карточной гадальщицы Кирхов вместе с Ник<итой> Всеволожским; Юрьев и я не присутствовали при этом. Предсказания Кирхов сделали на Пушкина довольно сильное впечатление, особенно сначала, но в скором времени оно, как нам казалось, совершенно изгладилось. Однако если кто из наших напоминал об этом, ясно видно было, что это ему неприятно; он всячески старался отклонить разговор и, когда не успевал, то сам первый хохотал весьма громко, но для тех, которые его хорошо знали, видно было, что хохот его был принужденный, что и заставляло нас совершенно прекращать всякий намек о прошедшем. Насчет предложения Алек<сея> Фед<оровича> Орлова поступить в военную службу ничего решительно сказать не могу, и это обстоятельство у меня в тумане. Очень жаль, что один из старых близких знакомых Пушкина — Яков Николаевич Толстой, скончавшийся два года тому назад в Париже, не мог вам своевременно передать некоторые подробности. У него были письма от Пушкина, и он мне читал некоторые из них отрывки; между прочим, Пушкин осведомлялся обо мне и других товарищах, но насчет предсказаний Кирхов ничего не было упомянуто. Куда после смерти Толстого девались эти письма, мне неизвестно. Вот все, что после 52 лет я могу припомнить и сообщить. Прошу вас верить моему уважению и преданности. Павел Мансуров»[492]. Павел Борисович Мансуров, участник Отечественной войны 1812 г., поручик Конно-егерского полка, страстный театрал, близкий кружку А. А. Шаховского, член «Зеленой лампы», литературно-театрального общества, в которое входили образованные молодые люди, увлекавшиеся поэзией, музыкой, сценическим искусством и не чуждые вопросов общественных, принадлежал к числу близких друзей Пушкина. С его именем связано одно из весьма вольных пушкинских посланий, запечатлевших эпикурейское времяпрепровождение петербургской «золотой молодежи», к которой поэт примкнул по выходе из Лицея и которая группировалась вокруг родственника Мансурова Н. В. Всеволожского, в чьем доме и собирались «ламписты». Приведенное выше письмо Мансурова к Соболевскому интересно во многих отношениях. Это еще один подлинный документ о Пушкине — письмо современника, хорошо знавшего поэта. Прежде всего следует обратить внимание на содержащееся в письме твердое заявление автора о том, что он не был с Пушкиным у Кирхгоф, — в справочной биографической литературе о поэте сведения на этот счет прямо противоположные и, как оказывается, ошибочные: и в «Летописи жизни и творчества А. С. Пушкина», подготовленной Т. Г. Цявловской (М., 1952; 2-е изд. Л., 1991), и в словаре Л. А. Черейского «Пушкин и его окружение» (Л., 1988) сообщается, что у гадальщицы немки Кирхгоф Пушкин был вместе с Мансуровым. Но фактическое уточнение, которое позволяет сделать письмо Мансурова к Соболевскому, весьма незначительно. Ценность мансуровского письма в другом — в содержащемся там развернутом описании реакции Пушкина на пророчества легендарной предсказательницы. За полвека, прошедшие со времени упомянутого им события, Мансуров забыл, естественно, реальные обстоятельства, этому событию сопутствовавшие; в его памяти запечатлелось иное — то, что было гораздо важнее бытовых подробностей — образ Пушкина, потрясенного услышанным от гадальщицы и в течение долгого времени продолжавшего испытывать над собой власть ее таинственных предначертаний. Рассказ Мансурова содержит не просто бытовой сюжет, а своего рода иллюстрацию к психологическому портрету поэта, подтверждающую значимость названного эпизода не во внешней, но во внутренней, душевной биографии Пушкина. Общаясь по окончании Лицея с «отчаянными» гусарами, — фрондерами, вольнодумцами и критиками, поэт стремится и в собственной личности воплотить черты столь привлекательного для него образа ироничного, трезвого рационалиста — но тщетно пытается он приглушить и умерить заложенную в него природой необычайную впечатлительность. Можно представить себе, как хотелось бы Пушкину отреагировать на предсказание Кирхгоф так, как это сделал Грибоедов, со смехом рассказывавший С. Н. Бегичеву о своем визите к гадалке в сентябре 1817 г.: «На днях ездил я к Кирховше гадать о том, что со мною будет; да она не больше меня об этом знает; такой вздор врет, хуже Загоскина комедий»[493]. Пушкин, как пишет Мансуров, тоже смеялся, когда заходил разговор о гадалке, но это была лишь неудачная попытка затушевать волнение, овладевавшее им всякий раз при упоминании имени Кирхгоф. Вера в существование непознанного, таинственного, чудесного принадлежала к скрытым душевным переживаниям поэта — попытку проинтерпретировать с этой точки зрения встречу Пушкина с Кирхгоф предпринял автор основанного на документальных материалах исторического романа «Дела давно минувших дней» (1888) П. П. Каратыгин, сын водевилиста и прозаика П. А. Каратыгина, историк и мемуарист, знаток александровской эпохи. Каратыгин, испытывавший большой интерес к мистическим явлениям, разного рода таинственным приметам, предсказаниям, оправдавшимся пророчествам, ввел в свой роман целую главу, посвященную Кирхгоф (глава V, «Ворожея»); центральное место в ней, естественно, занимает пушкинский сюжет[494]. «Шарлотта Федоровна Кирхгоф, вдова пастора (как говорили), приехала в Петербург на вербной неделе 1818 г. <…> Высокая ростом старуха лет 60-ти, она наружностью менее всего походила на колдунью. Довольно свежее лицо напоминало старушек Рембрандта, Жерара Доу или Деннера. <…> Черное шерстяное платье и таковая же шаль с узенькой турецкой каймой составляли ее постоянный, неизменный костюм. В знатные дома барыни приглашали ее к себе, посылая за нею свои кареты. <…> Кирхгоф на ее квартире посещали преимущественно мужчины, молодые и пожилые, и не только статские, но и гвардейцы. Многие шли к ней посмеиваясь, но выходили серьезные и угрюмые; предсказаньям не верили, называли их вздором, враньем, — а между тем этот вздор фиксировался у них в памяти, а предсказание было дамоклесовым мечом, добровольно навешенным над их собственными головами <…> …В приемную вошли Сосницкий и Пушкин. — …Неужели, Александр Сергеевич, это вас серьезно занимает? — Как сказки старой няни: сознаешь, что пустяки, а занимательно и любопытно. Не верю, но хотелось бы верить. — Ох вы, вольнодумцы! Не лучше ли сказать это не о нечистой силе, а о Боге! — засмеялся Сосницкий. — Скажу, перестановив те же слова, те же нянины сказки: верю, но хотелось бы не верить»[495]. Незамысловатый рассказ Каратыгина, не отличающийся ни глубиной изображения, ни литературным мастерством, тем не менее весьма любопытен; случайный биографический эпизод обретает в нем значение факта биографии духовной («…не верю, но хотелось бы верить»; «…верю, но хотелось бы не верить»). В беседах о серьезных предметах, которые были неотъемлемой частью бытия взрослеющего поэта, обсуждались как проблемы жизни внешней (уроки политической истории народов, прошлое, настоящее и будущее России, собственная роль в освобождении порабощенной родины), так и вопросы, касавшиеся жизни внутренней (мир чувств, движение таинственных сил души, способность раздвинуть границы эмпирического мира). Вероятно, это было типично для эпохи. Образец такой беседы находим, например, в записках Ф. Н. Глинки, зафиксировавшего свой разговор с весьма начитанной собеседницей Ниной Ахвердовой (родственницей известной П. Н. Ахвердовой — знакомой Грибоедова и Пушкина): «Целый день разговаривали мы о предметах очень важных: о жизни, ее условиях, цели, о назначении человека, о нездешнем, о внутреннем, о том, что видно только для души. <…> Поводом для этих разговоров были <…> речи ясновидящих, таинственные и возвышенные»[496]. Вспомним также, о чем разговаривали Онегин с Ленским:(V, 38)[497]
3 XX век: Ракурсы и варианты
Я. Л. Левкович Кольчуга Дантеса
Трагический эпилог жизни Пушкина составляет одну из печальных страниц русской истории. Безвременная смерть гения, настигшая его «во цвете лет», «в средине <…> великого поприща»[500], ошеломила в свое время современников и вот уже более полутора сотен лет привлекает внимание исследователей и любителей литературы. «Смерть поэта — вообще незаконна. Насильственная смерть — чудовищна. Пушкин <…> будет умирать столько раз, сколько его будут любить. В каждом любящем — заново. И в каждом любящем вечно» — так писала Марина Цветаева[501]. Но кроме «каждого любящего» поэта была еще любовь общепризнанная, официальная и потому как бы обязательная. Юбилейные праздники 1937 и 1949 гг. шли под знаком «наш Пушкин», «наш современник Пушкин». «Пушкин, — читаем у Б. В. Томашевского, — решительно модернизировался. Из него делали идеолога крестьянской революции, откликавшегося на последние лозунги наших дней»[502]. Исторические факты подчинялись превратно понятой злободневности. Модернизированный «наш современник» Пушкин вел себя в романах и пьесах, выходивших в 1930–1950-е годы, в полном согласии с требованиями, предъявляемыми положительному герою советской литературы. Он постоянно общается с простым народом (с крестьянами в деревне, с дворниками в городе, с капельдинерами в театре). Его главная вдохновительница — Арина Родионовна, которая не только подсказывает ему мотивы и образы стихотворений, но и обсуждает с ним политические события. В последний, трагический период своей жизни он обычно неудержимо весел и выступает как прямолинейный, не знающий сомнений и колебаний проповедник, стоящий на пьедестале непогрешимости и величия. Модернизировался не только образ Пушкина с его примитивно подаваемой «близостью к народу»[503], но и внешние приметы эпохи. Так, в рассказе В. Рождественского «Почетный гость» сцена в книжной лавке Смирдина напоминает продажу дефицитных изданий в наши дни. «Лохматая студенческая молодежь» толпится в лавке — ждет, когда привезут из типографии очередной том «Современника». Смирдин сообщает: только что пришел «целый воз» экземпляров издания, и успокаивает ожидающих: «Не толкайтесь, господа! Тише! Тише! Всем хватит!». А посетители «жадно хватают из рук приказчика еще пахнущие типографской краской пухлые книжки в светлой обложке» и с благоговением говорят: «Подумайте, сам Пушкин»[504]. Автору нет дела до того, что журнал Пушкина не нашел своего читателя и не имел большого успеха у публики. Рождественский строит сюжет априорно: Пушкин — передовой писатель своего времени; в пушкинскую эпоху рождалась передовая разночинная молодежь, которая вскоре приняла эстафету дворянских революционеров; передовая разночинная молодежь должна была чтить Пушкина и читать его журнал. Литература 1930–1950-х годов была питательной средой для рождения социально окрашенных мифов. Начиная с 1920-х годов рушились краеугольные для XIX в. нравственные постулаты, в том числе и такие понятия, как честь. Перевернутым поэтому оказалось представление о причинах, вызвавших дуэль поэта. В поле зрения исследователей в первую очередь попадали его конфликт с царем и светом, с ближайшими друзьями, материальные трудности, козни министра Уварова, — и только в последнюю очередь упоминалась истинная причина дуэли — защита чести своей жены и своей семьи. Именно в это время возникла и оказалась очень устойчивой легенда, в которой «нашему» Пушкину противостоял «не наш» (иноземец) Дантес. Согласно этой легенде, во время дуэли на Дантесе была кольчуга или еще какое-то защитное приспособление, и потому он не был убит, а отделался легким ранением. Нужно сказать, что современники думали иначе: они считали, что пуля, пробив руку Дантеса, натолкнулась на пуговицу его сюртука и рикошетировала. Правда, сведения, которые мы имеем об этом, крайне противоречивы, а сам разнобой мнений свидетельствует о том, что современники не придавали большого значения истории с пуговицей. О ней пишут Жуковский, Вяземский, С. Н. Карамзина, Либерман, Люцероде. Но одни (Карамзина) упоминают о сюртуке[505], другие (прусский посланник Либерман) — о мундире[506], третьи (Жуковский) — о «пуговице, которою панталоны держались на подтяжке против ложки»[507]. Не упоминают о ней только очевидцы-секунданты — Данзас и д’Аршиак. Легенда о кольчуге, несмотря на все старания специалистов ее опровергнуть, имеет широкое хождение, учителя рассказывают ее в школах, поэты сочиняют о ней стихи, она появляется в популярных биографических книгах. С ней связывают просьбу Геккерна об отсрочке дуэли на две недели: «Лишь страстное желание спасти Дантеса от пули, — пишет А. Гессен, — могло побудить Геккерна после получения им резкого и до крайности оскорбительного письма Пушкина обратиться к нему с просьбой о двухнедельной отсрочке дуэли: ему, видимо, нужно было выиграть время, чтобы успеть заказать и получить для Дантеса панцирь»[508]. Поддержал эту версию и известный литературовед П. Н. Берков. Рассказав историю с кольчугой и сообщив читателям, что советское пушкиноведение не приняло ее безоговорочно, он счел все же, что вопрос «не решен окончательно»[509]. Не так давно об этой легенде снова вспомнили авторы книги под многообещающим названием «В поисках истины», вышедшей во внушающем уважение издательстве «Юридическая литература»[510]. На эту последнюю публикацию откликнулся Игорь Стрежнев, посвятив «панцирной рубашке для Дантеса» одну из своих статей[511]. Стрежнев подробно излагает историю появления легенды, поэтому мы остановимся только на ключевых моментах ее возникновения и бытования. Легенда возникла в начале 1930-х годов. В доме писателей в Малеевке, где отдыхал в это время В. В. Вересаев, в одной из бесед речь зашла о дуэли Пушкина с Дантесом. Некий архангельский литератор тут же включился в беседу и рассказал, будто в Архангельске, в старинной книге для приезжающих он видел запись о том, что незадолго до дуэли Пушкина от Геккерна приезжал человек и поселился на улице, где жили оружейники. Рассказ, по-видимому, адресовался в первую очередь Вересаеву, который в это время работал над книгой о Пушкине. В беседе принимал участие писатель И. Рахилло. Сам Вересаев об этом разговоре не писал, и сообщенные ему сведения приводит Рахилло в статье «Рассказ об одной догадке»[512]. Из статьи Рахилло мы узнаем, что Вересаев поверил в эту историю и позднее безуспешно пытался вспомнить фамилию рассказчика. Рахилло рассказывает и о письме, полученном Вересаевым с Урала от какого-то инженера, который решил проверить версию с пуговицей с помощью эксперимента: «Устроив манекен и надев на него старый френч с металлической пуговицей, я зарядил пистолет круглой пулей и с десяти шагов, как это было на дуэли у Пушкина, выстрелил в пуговицу <…> пуля не только не отлетела от пуговицы, а вместе с этой самой пуговицей насквозь прошла через манекен»[513]. Фамилии инженера, приславшего ему это письмо, Вересаев не назвал, но еще в 1939 г. в журнале «Сибирские огни» была напечатана статья инженера М. Комара под названием «Почему пуля Пушкина не убила Дантеса»[514], из которой следовало, что эксперимент с манекеном был проделан именно им. Проверить версию о панцире попытался Б. С. Мейлах. По его инициативе в Архангельский архив был послан запрос с просьбой сообщить, имеются ли там сведения о пребывании в городе таинственного человека «от Геккерна». Ответ был отрицательный — никаких данных, подтверждающих рассказ «архангельского литератора», обнаружено не было. В 1963 г. легенда о кольчуге обрела новую жизнь — она была распространена аппаратом ТАСС по всем более или менее крупным газетам Советского Союза под сенсационным названием «Эксперты обвиняют Дантеса». Эксперты (правильнее было бы употребить единственное число) — это Сафронов, врач, специалист по судебной медицине, опубликовавший статью о дуэли Пушкина, где он обвинял Дантеса в преднамеренном убийстве поэта. Статья так и называлась «Поединок или убийство?»[515]. Чтобы придать своей гипотезе бóльшую убедительность, Сафронов попытался отвергнуть версию о пуговице. Он утверждал, что Дантес был одет в сюртук, на котором пуговицы располагались «в один ряд на средней линии груди» и, таким образом, «далеко отстояли от места удара пули в грудь Дантеса»; вторым его доводом был тот, что офицерские пуговицы делались из «тонкого олова, покрытого сверху тончайшими листками латуни», т. е. из мягкого металла, и, следовательно, от такой пуговицы пуля отскочить не могла. Сенсационное сообщение ТАСС проникло в зарубежную печать. Результаты не замедлили сказаться. Через три недели после этого в Пушкинский Дом приехал корреспондент венгерской газеты, заинтересовавшийся этим сообщением. 18 мая сообщение было напечатано во французской газете «Paris match»[516], а во французском журнале «Le ruban rouge»[517] появилась статья Флерио де Лангло «Дело Дантеса — Пушкина». Статья очень сочувственная по отношению к поэту, поведение Дантеса перед дуэлью трактуется в ней как «лукавое и отталкивающее». Автор приводит сообщение ТАСС и спрашивает, на каких документальных данных основана версия о кольчуге. Игнорировать этот вопрос нельзя, так же как нельзя считать, что наука не должна иметь отношения к этой легенде. Она прямо связана с биографией Пушкина потому, что уводит внимание от истинных причин гибели поэта и способствует неисторическому взгляду на исторические события и лица. В каждую эпоху подлецы имеют свой, свойственный этой эпохе исторический характер и свои стимулы поведения. Подлец в пушкинскую эпоху мог насмерть забить крепостного, обесчестить замужнюю даму или девицу (иногда идя даже на риск возмездия), но он не мог, отправляясь на поединок, надеть защитное приспособление — даже в случае легкого ранения оно было бы обнаружено, а это неизбежно привело бы к остракизму: ни один порядочный человек не подал бы ему руки, он был бы отрешен от общества. Версия Вересаева — Сафронова детально была еще раз рассмотрена и опровергнута Б. С. Мейлахом[518]. Не перечисляя всех приведенных им доводов, укажем, что он основывался на заключении о работе Сафронова, написанном крупнейшими специалистами по военному костюму и знатоками пушкинской эпохи Я. И. Давидовичем, Л. Л. Раковым и В. М. Глинкой. Они опровергали основные доводы Сафронова и утверждали, что однобортных сюртуков (так описывает одежду Дантеса Сафронов) в русской армии не было, а были двубортные с двумя рядами пуговиц; кроме того, офицерские пуговицы выливались из твердых сплавов — потому-то современники и соглашались с существовавшей версией ранения Дантеса. Несмотря на отпор, который дали легенде о кольчуге специалисты, она оказалась очень устойчивой. Правда, кольчуга была уже достаточно скомпрометирована. И тогда вместо нее на Дантесе появляется новый вид защитной одежды — кираса. Версия о кирасе была выдвинута в 1968 г. М. И. Яшиным, человеком, изучавшим историю последних дней Пушкина и обогатившим ее некоторыми новыми данными[519]. Для подкрепления версии о кирасе Яшин проводит скрупулезное исследование со ссылками на архивные документы — исходящие журналы Кавалергардского полка с записями результатов испытаний кирас как защитного средства от холодного и огнестрельного оружия. Мы узнаем, что кирасы испытывались в 1835–1836 гг. в полку, где служил Дантес, что одно из испытаний было проведено 18 мая 1836 г., т. е. всего за восемь месяцев до дуэли, и еще много других подробностей (например, где можно было заказать кирасу, сколько она могла стоить, кто и по чьим заказам их изготовлял); оставалось неясным только одно: каким образом можно было кирасу (а в 1830-е годы они изготовлялись из кованого железа) запрятать под военный мундир или военный сюртук, не изменив своего внешнего вида. Мы видели, что Сафронов вынес в заглавие своей статьи слово «убийство». Яшин пытался обосновать эту версию. Легенда о кольчуге — кирасе приобретает, таким образом, новый аспект: дуэль Пушкина трактуется уже как организованное убийство, в котором принимал невольное участие друг Пушкина, его секундант Данзас. Обвинения против Данзаса строятся на основе дуэльного кодекса. Яшин сообщает, что кодекс предписывал секундантам осмотреть одежду противника, пригласить врача на место дуэли, а непосредственно после нее составить подробный протокол поединка. Ни одно из этих правил не было выполнено. Соотнеся поступки Данзаса с дуэльным кодексом, необходимо выяснить, как относился к дуэльному кодексу сам Пушкин. В день дуэли в 10 часов утра у Пушкина еще не было секунданта, и в ответ на настойчивые напоминания секунданта Дантеса д’Аршиака поэт писал, что он «не согласен ни на какие переговоры между секундантами», так как не хочет «посвящать петербургских зевак» в свои семейные дела, что своего секунданта привезет только на место встречи и даже согласен заранее принять секунданта, которого выберет ему Геккерн, а также предоставляет противнику выбор часа и места дуэли. «По нашим, по русским, обычаям, — заключает поэт, — этого достаточно» (XVI, 225–226, 409–410). Это было демонстративное противопоставление дуэльного законодательства бытующей практике поединков в России, а Пушкин был опытным дуэлянтом. Отказ Данзаса от осмотра одежды Дантеса Яшин называет «игрой в благородство». Нам кажется, что слово «игра» следует вычеркнуть. Мы не знаем ни одной дуэли и ни одного литературного описания дуэли, когда бы секунданты осматривали одежду противника, — подобная проверка могла поставить проверяющего в смешное положение, вызвать пересуды, возмущение и даже новую дуэль. В качестве примера «неукоснительного выполнения» правил дуэли Яшин приводит известный поединок Шереметева с Завадовским, когда Завадовский «отдал своему секунданту Каверину часы, чтобы ничем не быть защищенным»[520]. Поведение Завадовского — скорее бравада, чем следование кодексу. Мы знаем, что Пушкин во время дуэли имел на себе часы[521], а Лермонтов перед дуэлью взял у Е. Г. Быховец на счастье и положил в карман золотое бандо[522], и, однако, мы не сомневаемся в их благородстве. Возможно, что протокол, составленный на месте, прибавил бы некоторые подробности к нашему знанию обстоятельств поединка, но вряд ли следует обвинять друга Пушкина, как это делал Яшин, в том, что он «даже не знал толком, куда ранен Дантес, следовательно, и не осматривал его, хотя был должен настоять на составлении протокола поединка»[523]. У Данзаса была другая забота — скорей доставить раненого Пушкина домой. Отсутствие врача причинило Пушкину лишние страдания, но нельзя писать, что это «сыграло трагическую роль», — поэт был ранен смертельно. Вот так случайный разговор в доме литераторов в начале 1930-х годов породил легенду, которая держалась в пушкиноведении более пятидесяти лет. Но кто же был тот «литератор», который подбросил Вересаеву и Рахилло сюжет об улице Оружейников в Архангельске и о посланце Геккерна, и почему все это было рассказано именно в присутствии Вересаева? На первый вопрос ответ был найден И. Стрежневым. «Литератор из Архангельска» — это Владимир Иванович Жилкин, поэт, делегат Первого съезда Союза писателей, один из первых на Севере членов писательского союза. И, как пишет Стрежнев, «все сказанное им в памятный В. Вересаеву и И. Рахилло вечер было не что иное, как мрачная шутка, мистификация, в которую вылилось характерное для Жилкина неприятие всяких досужих выдумок»[524]. Почему объектом мистификации был выбран маститый писатель и уже известный пушкинист Вересаев? В 1924 г. он выпустил ряд новелл о Пушкине[525], в 1928 г. издал третьим изданием свою известную книгу «Пушкин в жизни», а в следующем, 1929 г. появилась его программная статья «В двух планах»[526]. Можно себе представить, что другие собеседники, собравшиеся тогда в Малеевке, слушали в первую очередь откровения метра, тем более, что у Вересаева была своя, особая позиция в пушкиноведении. В том же 1924 г., когда вышли новеллы Вересаева, Маяковский написал свое стихотворение «Юбилейное», где резко выступил против «хрестоматийного глянца», т. е. против приглаженного и прилизанного облика Пушкина, бытовавшего в школьных программах и нравоучительных повестях. Это был протест против хрестоматийности классика, заслужившего вечную благодарность потомков, против стремления «подменить научное изучение Пушкина преданностью, благодарностью и юбилейным елеем»[527]. В стихотворении «Юбилейное» была впервые выдвинута формула «живой Пушкин» («Я люблю вас, но живого, а не мумию»). Популярной эта формула стала благодаря работам Вересаева, который почти одновременно с Маяковским выступил против «почитателей-идолопоклонников» поэта и биографов, которые исследуют личность великого человека, «стоя на коленях»[528]. Вересаев иронизировал над «каноническим образом личности Пушкина», «фальшивым и совершенно не соответствующим действительности»[529]. Но когда Вересаев пытается изобразить «живого Пушкина», эта правильная мысль оборачивается пасквилем. В статье «В двух планах» и в предисловии к книге «Пушкин в жизни» он утверждает «поразительное несоответствие между живой личностью поэта и ее отражением в его творчестве»[530]. Первая, черновая формулировка этого тезиса появилась в 1924 г. В послесловии к своим новеллам он указывал на «несовпадение поэта с человеком в плане реальной жизни»: «…то, что в жизни, в непосредственном переживании человека было затемнено страстью или пристрастием, что было мелко, серо, нередко дрянно, пошло и даже грязно — все это у поэта претворялось в божественную незатемненность духа, глубочайшее благородство и целомудренную чистоту»[531]. В новеллах Пушкин предстает как отравленный эротизмом циник, обладатель крепостного гарема. Столь же непривлекателен и его гражданский облик: «В вопросах политических, общественных, религиозных Пушкин был неустойчив, колебался, в разные периоды был себе противоположен. Эти все вопросы слишком глубоко не задевали его»[532]. Мировоззрение поэта не было, конечно, застывшим, оно менялось вместе со временем, но животрепещущие вопросы эпохи, в частности политическое устройство общества, всегда волновали его. Антиисторичность «хрестоматийных» дореволюционных интерпретаций заменялась антиисторичностью нового образца. Эту антиисторичность, неуважение к прошлому, непонимание бытовых реалий и уловил, очевидно, в работах Вересаева или его рассуждениях в Малеевке В. И. Жилкин и подбросил ему легенду о кольчуге. Пафос исследователей, поддавшихся на эту мистификацию, — разоблачение врагов поэта, поэтому так устойчиво и держалась легенда о кольчуге. Но история рассудила поэта и его врагов, и ее драматические страницы отныне незачем превращать в эффектную мелодраму, в ходе которой Пушкин и его друг «храбрый Данзас» выглядят простофилями, не сумевшими разглядеть кирасу под сюртуком противника. Пытался ли Данзас спасти Пушкина? Молва уверяла потом, что по дороге на Черную речку он ронял пули, надеясь, что кто-нибудь увидит их и догадается, куда и зачем едут сани с Пушкиным и сани с Дантесом. И. И. Пущин писал И. В. Малиновскому из Сибири 14 июля 1840 г.: «Последняя могила Пушкина! Кажется, если бы при мне должна была случиться несчастная его история <…> то роковая пуля встретила бы мою грудь: я бы нашел средство сохранить поэта-товарища, достояние России…»[533] Хочется верить, какие-то действия предпринимал Данзас не только по дороге к Черной речке, но и на месте дуэли. Один из авторов книги «Тайны гибели Пушкина и Лермонтова» Д. А. Алексеев убежден, что был только один способ облегчить последствия дуэли — ослабить губительное действие пули и «окончить поединок первым легким ранением». Этот способ состоял в том, чтобы уменьшить заряд пороха пистолетов. Автор приводит эпизод из повести А. Марлинского «Испытание», где один из секундантов, «желая сохранить жизнь поединщикам», уверяет, что на шести шагах «…лучше уменьшить заряд по малости расстояния»[534]. Миф это или реальность — мы никогда не сможем узнать. Если в истории дуэли была тайна, то ее унес в могилу друг Пушкина Данзас. Непоправимое случилось. Пушкин был отличный стрелок, но Дантес выстрелил долей секунды раньше. И с таким ранением, какое было у Пушкина, тогдашняя медицина справиться не могла.Т. И. Краснобородько История одной мистификации
(Мнимые пушкинские записи на книге Вальтера Скотта «Айвенго»)
В 1963 г. Пушкинский Дом приобрел у московского пенсионера, в прошлом учителя, Антонина Аркадьевича Раменского томик первого русского перевода романа Вальтера Скотта «Ивангое, или Возвращение из крестовых походов», на страницах которого были автографы Пушкина: начало монолога князя из первого замысла «Русалки» («Как счастлив я, когда могу покинуть…»), фрагмент одной из «декабристских» строф «Евгения Онегина» («Одну Россию в мире видя…»), несколько рисунков, владельческая надпись Пушкина и его же дарительная — Алексею Алексеевичу Раменскому. Экземпляр был в очень плохом состоянии: он представлял собою неправильно и неумело переплетенные две (из четырех) частей смирдинского издания романа 1826 г. Когда-то книга, видимо, была залита водой, переплет ее слегка покоробился, но более всего оказались попорченными именно листы с автографами: они прорваны, покрыты грязью, и сами записи почти «угасли», они едва заметны и скорее угадываются, чем читаются. Такое состояние книги последний владелец объяснял ее необычной, сложной судьбой. По его словам, роман был подарен в 1829 г. прадеду Антонина Раменского — Алексею Алексеевичу, который учительствовал в селе Мологине Старицкого уезда Тверской губернии. Пушкинская реликвия передавалась Раменскими из поколения в поколение. В Отечественную войну село Мологино, где они жили, горело при отступлении советских войск; сгорел и учительский дом. После войны, в 1945–1947 годах, Антонин Аркадьевич предпринял розыск дедовской библиотеки и обнаружил роман Вальтера Скотта в подвале старой церковной сторожки. Как рассказывал сам Раменский, книга «растрепалась, держалась на нитках, сшивавших ее. Она была в грязи, масле, листочки были склеены. В сторожке заправляли, должно быть, тракторы, а может быть, и танки во время войны»[535]. Пушкинских записей на этой книге Раменский тогда не заметил, но отложил ее и, среди прочих книг, оставил у родственников в Вышнем Волочке. Через пятнадцать лет остатки дедовской библиотеки перевезли в Москву, и тут-то Антонин Аркадьевич рассмотрел записи на романе Вальтера Скотта. О находке сразу же сообщили журналисты — в «Литературной газете», «Вечернем Ленинграде», «Литературной России»[536]. Из профессиональных пушкинистов-текстологов первой увидела автографы Т. Г. Цявловская. Со слов владельца она и записала приведенную здесь версию чудесной находки книги. С согласия Раменского в лаборатории Института марксизма-ленинизма листы с записями расчистили, отреставрировали и сфотографировали[537]. В прочтении и транскрипции автографов Т. Г. Цявловской помогал С. М. Бонди. Заключение московских текстологов было положительным: записи на книге, кроме плана на последней странице, сделаны рукою Пушкина. Академия наук приобрела книгу для Пушкинского Дома; рукописи присвоили архивный шифр — ф. 244 (А. С. Пушкина), оп. 1. № 1733, и она обрела свое постоянное место в Пушкинском хранилище, среди автографов поэта. А вскоре Т. Г. Цявловская опубликовала во «Временнике Пушкинской комиссии» большую статью об уникальной находке[538]. Изучив автографы на книжке и сопутствующие им семейные воспоминания Раменских, Т. Г. Цявловская заключила, что они «обогатили пушкиниану целым рядом неизвестных доселе данных»[539]. Позволю себе напомнить основные выводы исследовательницы, так как это необходимо для дальнейшего изложения. Во-первых, ею были установлены новые биографические факты: посещение Пушкиным весной 1829 г. имения Грузины Новоторжского уезда Тверской губернии, которое принадлежало Константину Марковичу Полторацкому (о том, что Пушкин знал его, прежде не было известно). В круг пушкинских знакомых был введен и сотрудник Н. М. Карамзина (также неизвестный ранее факт) Алексей Алексеевич Раменский — сельский учитель, которому Пушкин подарил роман Вальтера Скотта. Во-вторых, дарительная надпись на этой книге и семейные предания Раменских, по мнению Т. Г. Цявловской, давали новый «материал для размышления над возникновением замысла „Русалки“»[540]. В-третьих, новонайденный документ пополнял пушкинскую графику новыми рисунками: портретом неизвестного, изображением весов и виселицы с пятью повешенными. Причем последний рисунок Т. Г. Цявловская считала лучшим пушкинским изображением казни декабристов. Наконец, последний вывод исследовательницы сводился к тому, что в книге из библиотеки Раменских обнаружились «новые данные по творческой истории „Евгения Онегина“, новый авторский текст шести стихов одной из „декабристских строф“ романа и неопровержимое свидетельство, что эти строфы <…> были написаны уже к марту 1829 года»[541]. Все эти данные, подкрепленные авторитетом Т. Г. Цявловской, вошли в исследовательский оборот, стали широко использоваться авторами популярных краеведческих работ о пребывании Пушкина на Тверской земле, а имя А. А. Раменского, которое прежде ни разу не встречалось в обширной мемуарной и эпистолярной пушкиниане, попало в справочник Л. А. Черейского «Пушкин и его окружение», первое издание которого появилось в 1975 г. Приблизительно в это же время у Антонина Аркадьевича Раменского обнаружились новые пушкинские реликвии. Среди них — первый том романа А. П. Степанова «Постоялый двор. Записки покойного Горянова, изданные его другом Н. П. Маловым» (СПб., 1835) с владельческой надписью Пушкина, гусиное перо и перочистка поэта, его дорожный подсвечник, бумажник и серебряная чайная ложечка, которые Раменский преподнес в дар Московскому музею А. С. Пушкина[542]. Позднее, в 1977 г. Раменский передал Всесоюзному музею А. С. Пушкина в Ленинграде четвертый том романа «Постоялый двор» (также с владельческой надписью Пушкина) и еще несколько реликвий из своей «пушкинской коллекции». Книга А. П. Степанова осталась в фондах музея; что же касается «мемориальных предметов», то авторитетные музейные эксперты, в числе которых был крупнейший искусствовед В. М. Глинка, члены ученого совета музея, выразили серьезные сомнения в подлинности этих вещей, принадлежности их пушкинской эпохе, и в экспозицию Ленинградского пушкинского музея они не попали. Однако бесценные пушкинские реликвии учителей Раменских по-прежнему возбуждали внимание журналистов и краеведов, и время от времени статьи о них появлялись в массовых изданиях[543]. Авторы этих публикаций, как правило, были знакомы с А. А. Раменским и более или менее добросовестно излагали его рассказы. В 1984 г. в книге А. Г. Никитина «Пушкин и Урал» неожиданно появилась новая версия чудесной находки русского издания «Айвенго» с пушкинскими записями, и эта версия слабо согласовывалась с тем, что Раменский рассказывал раньше Т. Г. Цявловской: «Осенью 1941 года политрук Красной Армии Антонин Раменский, рискуя жизнью, пробрался в уже оставленное с боями родное село и вынес из горящего дома часть пушкинских реликвий. Антонин Аркадьевич увез их в Москву. Хотел сдать в архив или музей. Но архивы эвакуированы, музеи закрыты. Да и задерживаться в столице нет возможности. И Раменский, вооружившись саперной лопаткой, зарыл свой клад во дворе детской больницы близ проспекта Мира. Ведь тогда еще никто точно не знал, сколько времени продлится война. Оставлял Раменский свой мологинский клад ненадолго, а пролежал он до 1946 года, когда вернулся в Москву Антонин Аркадьевич и разыскал столь необычное сокровище»[544]. В конце концов, эти истории можно было бы оставить без внимания, если бы в обширной пушкиниане семейные предания и в полном смысле слова «рукотворные» реликвии из дома Раменских постепенно не приобретали характера достоверности, если бы легенды, которые долгое время существовали, говоря пушкинскими словами, «домашним образом», не стали претендовать на роль непреложных фактов пушкинский биографии и творчества. Показательный пример — огромная публикация «Обратить в пользу для потомков…» в «Новом мире»[545]. Читателям журнала предложили семидесятитрехстраничную аннотированную опись уникальных архива и библиотеки, которые якобы хранились до войны в доме учителей Раменских. По утверждению публикатора, этот «Акт» был составлен в 1935–1938 гг. комиссией Ржевского краеведческого музея, педтехникума и гороно. Подлинник его (как и все собрание Раменских) погиб во время войны, а копия отыскалась в 1968 г. в Павловском Посаде во время ремонта одного из домов. В течение трех лет комиссия изучила и описала в «Акте» сотни листов архивных документов, начиная с XV в., богатейшее собрание рукописных и старопечатных книг, русской периодики XVIII–XIX вв. (около пяти тысяч томов), 136 (!) листов рукописей Пушкина, около 10 000 (!) писем: Карамзиных, Муравьевых, Вульфов, Вревских, В. А. Жуковского, И. И. Лажечникова, О. А. Кипренского, И. И. Левитана, М. А. Бакунина, С. В. Перовской, Э. Л. Войнич, М. В. Фрунзе, Дмитрия и Марии Ульяновых…[546] Словом, документ, опубликованный «Новым миром», казалось, призван был свидетельствовать о том, что Раменские на протяжении двухсот лет, говоря пушкинскими словами, были связаны с людьми, «коих имя встречается почти на каждой странице истории нашей». Но вскоре было доказано, что целый ряд опубликованных в «Акте» писем: А. Т. Болотова, А. Н. Радищева, О. С. Чернышевской, Марко Вовчок, А. И. Герцена — и факты, в них заключенные, являются фальсификацией[547]. Упоминается в аннотированной описи 1935 г. и книга Вальтера Скотта «с автографами, стихотворением, отрывком из десятой главы „Онегина“ и рисунками повешенных декабристов»[548]. Поразительно: работники Ржевского гороно, музея и педтехникума сумели не только прочитать густо зачеркнутую черновую скоропись, но и уверенно определить, что это фрагмент десятой главы пушкинского романа в стихах! Разумеется, и в этот раз не обошлось без новой «пушкинской реликвии». В «Акт» была включена копия письма, которое Пушкин якобы отправил Алексею Алексеевичу Раменскому 22 июля 1833 г. О том, что текст этого письма — подделка, причем неудачная, убедительно писал С. А. Кибальник. Тогда же он вскользь высказал предположение, что и «надпись на русском переводе „Айвенго“ представляет собой местами более, а местами менее умелую подделку под пушкинский почерк»[549], но гипотезу свою не аргументировал. О том, что после «безответственной публикации» в журнале «Новый мир» стало особенно актуальным проведение повторной экспертизы автографов на книжке Вальтера Скотта, писал С. А. Фомичев, отмечая, что «без распространенных рассуждений о контактах Пушкина сРаменским не обходится <…> ни один очерк о тверских страницах в жизни поэта»[550]. Между тем во втором издании словаря «Пушкин и его окружение» рядом с фамилией Раменского появилась звездочка, означающая гипотетичность знакомства Пушкина с ним, и указание, что свидетельства об отношениях Пушкина с Раменским «требуют тщательной проверки»[551]. Как видим, в этой истории остаются «и», над которыми следует расставить точки. Прежде всего это касается вопроса о подлинности записей на книге Вальтера Скотта. В отличие от ряда других «реликвий» из так называемого архива Раменских, фальсификация которых доказана определенно, эта по-прежнему продолжает оставаться «пушкинской» и, защищенная авторитетом Т. Г. Цявловской, С. М. Бонди, Н. В. Измайлова, не исключена до сих пор из фонда подлинных рукописей поэта. Записи на «Айвенго», прежде всего «декабристские» (рисунки и шесть стихов из «Онегина»), в научных исследованиях стоят в одном ряду с автографами из пушкинских рабочих тетрадей[552]. Словом, необходимость повторного критического, научного анализа этого документа очевидна. Проблема, однако, состоит в том, что именно следует подвергнуть экспертизе. Тексты? Они, безусловно, пушкинские: сохранились черновые автографы и отрывка «Как счастлив я, когда могу покинуть…» (ПД, № 84), и «онегинских стихов» («Одну Россию в мире видя…») (ПД, № 171). Для каждого из рисунков, даже плана на последней странице книги[553], без труда можно обнаружить аналогии в рукописях поэта. Почерк? Следует отметить, что до появления этой «находки» пушкинисты не встречались со случаями сознательной подделки почерка поэта. Нам известны фальсификации пушкинских текстов — например, зуевское «окончание» «Русалки», попытки «дописать» десятую главу «Онегина». Известны и случаи атрибуций рукописей И. И. Пущина, А. Д. Илличевского, Н. М. Коншина, Льва Пушкина, А. П. Керн, Е. Н. Вульф как пушкинских, но эти случаи были все-таки результатом невольных заблуждений, основанных на сходстве почерков, а не сознательной спекуляцией. Графологическая экспертиза как таковая не может быть единственным и достаточным доводом в пользу подлинности документа. К тому же ее надежность для таких дефектных записей, как на «Айвенго», — едва видимых или тщательно зачеркнутых, весьма проблематична. В 1963 г., благодаря А. А. Раменского за книгу с собственноручными записями Пушкина, Н. В. Измайлов, в то время заведующий Рукописным отделом Пушкинского Дома, писал, в частности, о его находке: «Автографы „неказистые“ с виду, но изумительные по содержанию»[554]. Внимание Т. Г. Цявловской, С. М. Бонди, самого Н. В. Измайлова оказалось полностью направленным на содержание записей. Их, текстологов, увлекла тогда трудная задача прочтения тщательно зачеркнутых и почти невидимых строк. Эти ученые были людьми высокой культуры и строгих этических принципов. Они подошли к новонайденному документу с позиции презумпции невиновности. Вряд ли они могли допустить возможность такой сознательной спекуляции на имени Пушкина. Но именно слова Н. В. Измайлова о «неказистости» внешнего вида подсказали мне иное направление исследования книги. Объектом повторной экспертизы стала прежде всего формальная сторона, «внешность» книги — как отдельных элементов записей на русском переводе «Айвенго», так и их совокупности. Для сравнения были взяты все книги с какими-либо записями Пушкина. Эта в определенном смысле рутинная работа (было обследовано около 70 книг) дала замечательные результаты. Оказалось, что не экстремальные условия хранения сделали автографы грязными и «неказистыми»: они нарочито были сделаны такими[555]. Рассмотрим более подробно записи на титульном листе книги «Ивангое, или Возвращение из крестовых походов». Первая помета — владельческая. Она и должна была появиться раньше других, т. е. тогда, когда Пушкин книгу купил. Мы видим сокращенно написанное слово «St. Pet.», фрагмент утраченного текста (возможно, здесь был указан год) и собственно подпись — «Александр Пушкин». Отметим, что место приобретения книг Пушкин никогда не обозначал: вряд ли в этом была необходимость. Все покупки, как правило, делались им в петербургских или московских книжных лавках. В редких случаях (их всего четыре) Пушкин отмечал особые, раритетные экземпляры. Так, на карте Екатеринославской губернии 1821 г. его рукой написано: «Карта, принадлежавшая Императору Александру Павловичу. Получена в Симбирске от А. М. Загряжского 14 сент.<ября> 1833» (ПД, № 702)[556]. Широко известна запись на «Путешествии из Петербурга в Москву» А. Н. Радищева: «Экземпляр, бывший в тайной канцелярии, заплачен двести рублей» (ПД, № 1608)[557]. Любопытна отметка на томе сочинений Никколо Макиавелли: «Achété dans une vente publique (avec de sots commentaires au crayon»[558]. Покупка двухтомника Кольриджа совпала с днем смерти английского поэта, и, видимо, пораженный этим «странным сближением», Пушкин отметил его: «Купл.<ено> 17 июля 1835 года, день Демид.<овского?> праздн.<ика>, в годовщину его смерти»[559]. Но если даже допустить, что помета «St. Pet.» на «Айвенго» — тот единственный случай, когда Пушкин обозначил место покупки книги, то само слово он бы так не написал. В сохранившихся французских письмах поэта были выявлены следующие написания имени российской столицы: «St.-P.» (ПД, № 505, 506), «StP.» (ПД, № 1373, 1467), «StP.b.» (ПД, № 570, 629, 1520), «P.b.» (ПД, № 628, 634), «St.Petersbourg» (ПД, № 636, 639, 779, Прил. № 47), «Petersbourg» (ПД, Прил. № 42). Как видим, нет ни одного сокращения, которое совпадало бы с надписью на титульном листе «Ивангое». Более того — написав «Санкт-Петербург» по-французски, он должен был сделать и владельческую запись также по-французски (во всяком случае, в письмах Пушкина и официальных документах эта закономерность прослеживается четко). Но французских владельческих надписей на книгах личной библиотеки Пушкина нет, как нет и такой, как на «Айвенго», русской — «Александр Пушкин». В пушкинской библиотеке около четырех тысяч томов, лишь 27 из них имеют владельческие надписи, и только в двух вариантах: «Пушкин» и «А. Пушкин». Правда, на парижском издании басен Фенелона 1809 г. написано «Александр Пушкин» (ПД, № 1599). Это самый ранний из известных пушкинских автографов — детский, возможно, долицейский. И если предположить, что томик Фенелона был подарен Пушкину-мальчику, то психологически объяснимо, что десяти-одиннадцатилетний ребенок обозначил собственную книгу своим полным именем — Александр Пушкин. Итак, детальный анализ владельческой надписи на «Айвенго» не выявил в ней ни одного признака пушкинских помет подобного рода. Обратимся теперь к дарительной записи на этом же листе. Два обязательных элемента такой надписи — имя того лица, к кому она обращена («Ал. Ал. Раменскому»), и дарителя («Александр Пушкин») — разделены стихотворными строками:
Н. И. Михайлова «Шоколад русских поэтов — Пушкин»
Пушкин смотрит вдаль поверх одного из томов полного собрания сочинений Ленина, политико-экономического справочника «Советский Союз», школьных учебников обществоведения, истории СССР, физической географии СССР, новейшей истории, русской литературы. Подле Пушкина — глобус, баночки с тушью и клеем, палехский стаканчик с карандашами и кисточками, палитра, линейка, пучок сухих колосьев пшеницы, букварь, открытки с изображением октябрятского, пионерского и комсомольского значков, цветные нитки, портновский сантиметр, маленький компьютер, ручное сверло, моток проволоки… Пушкин смотрит поверх композиции, составленной из этих вещей, и сам он — вернее, репродукция с его известного портрета работы О. Кипренского — включен в композицию открытки — складня из трех створок. Когда все они свернуты, то на первой створке видишь надпись: «С окончанием средней школы». Развернешь — и увидишь Пушкина в окружении всех названных выше предметов. Развернешь еще — и прочтешь поздравление и напутствие выпускнику средней школы: «Осталась позади волнующая пора экзаменов. Сегодня в этот торжественный день… Школа помогла тебе… Страна получит огромный резерв… Пусть каждая страница твоей биографии… на благо нашей социалистической Родины!..». Здесь же место для подписей — директора школы, классного руководителя, секретаря комсомольской организации. И внизу три розы — две желтые, одна красная. Закроешь створку — и снова Пушкин смотрит вдаль… Открытку выпустило издательство «Плакат» в Москве в 1988 г. Художник — М. Занегин. Тираж — 2 000 000 экземпляров.(VI, 49)
(III, 424)
(III, 224)
(III, 321)
(VI, 42)
Возвращение в мир молвы
(«Барышня-крестьянка» в народных пересказах)
Публикация О. Р. Николаева
Активное проникновение произведений Пушкина в крестьянскую среду характерно для пореформенной эпохи, так называемой эпохи этнографического перелома. В это время усиливается влияние города на деревню за счет развития явления отходничества, возникновения «литературы для народа» и т. д. В крестьянской среде появляется новая форма коллективного времяпрепровождения: чтение вслух[577]. Чтение светской литературы приходит на смену религиозному чтению. Соответственно появляются и новые социокультурные типы в организме деревни, одним из которых становится грамотный крестьянин, поживший в городе (иногда «полированный» питерец), имеющий библиотеку дешевых и лубочных изданий, читающий их вслух на деревенских встречах, да еще и умеющий отпустить пару глубокомысленных «городских» фраз по поводу прочитанного. В ряд новых подобных персонажей входили и деревенские стихотворцы, и щеголи городского пошиба — знатоки мещанского любовного этикета, а позднее, во время первой мировой войны, даже «газетные старушки», читающие односельчанам сводки с мест военных действий и знакомящие их с политической информацией. Народная повествовательная традиция, естественно, в таких условиях изменилась. На основе лубочных рыцарских романов возникла авантюрная сказка. Дешевые издания русских классиков и многочисленные лубочные переделки произведений Гоголя, Пушкина, Тургенева и т. д. привели к появлению любопытнейшего феномена: литературный текст получает бытование в устной форме. Народная традиция отбирала подобные тексты в соответствии с господствующими в то время в крестьянской среде эстетическими вкусами. Во второй половине XIX в., по свидетельствам корреспондентов Тенишевского бюро, в составе многих крестьянских библиотек оказывались полные собрания сочинений (дешевые) Пушкина, Некрасова, Тургенева[578]. Небольшое количество стихотворений Пушкина было включено в программу церковно-приходских школ. Основным источником пушкинских текстов для крестьян являлись лубочные картинки и лубочные переделки[579]. К началу XX в., можно утверждать, сформировалась народная версия национального культурного мифа о Пушкине. Специфика ее до сих пор не прояснена и не осознана наукой. Имя поэта прочно вошло в крестьянский кругозор, зачастую оказываясь символом литературы вообще. Попытки народной ментальности освоить и по-своему пересоздать феномен Пушкина воспроизведены в двух произведениях Б. В. Шергина «Пушкин пинежский» и «Пушкин архангелогородский». Народное сознание произвело своеобразный отбор пушкинских текстов. Ряд стихотворений получил в определенной обработке широкое бытование: «Узник», «Черная шаль», «Романс» (два последних прежде всего благодаря необыкновенному их распространению в лубочных картинках и близости к жанру жестокого романса). Особая судьба выпала на долю сказок Пушкина; по сообщениям корреспондентов Тенишевского бюро, их «знают даже безграмотные старухи»[580]. Любопытно, что пушкинские тексты зачастую заменили собой народные сказки, которые использовал поэт в качестве источников своих переложений: «Сказка о царе Салтане» — сюжет «Чудесные дети» (ВС 707[581]), «Сказка о мертвой царевне» — сюжет «Чудесное зеркальце» (ВС 709). Еще более замечателен факт включения некоторых пушкинских образов в фонд народной сказочной формульности, что позволяет им появляться в текстах самых разнообразных сюжетных типов. Так, например, мотив коварного навета на сказочную героиню почти неизбежно вызывает не традиционную, а пушкинскую формулу: она родила «не мышонка, не лягушку, / А неведому зверюшку». Проза Пушкина в меньшей степени получила распространение в крестьянской среде: охотно читались «Дубровский», «Капитанская дочка», «История Пугачевского бунта»[582], очевидно вследствие пристрастия народа к разбойничьей и военно-исторической тематике. Повесть «Дубровский» активно бытовала и в устной форме. Из «Повестей Белкина» выбор пал исключительно на «Барышню-крестьянку». Нам пока неизвестны факты бытования других повестей, в то время как новелла с переодеванием и счастливой развязкой не только читалась и пересказывалась как текст, принадлежащий Пушкину, но и потеряла признак авторской принадлежности, распространяясь как самостоятельное занимательное повествование, т. е. как сказка. Произошло своеобразное возвращение «истории», услышанной и записанной Иваном Петровичем Белкиным, в мир молвы: «каждая из белкинских историй достоверна именно как рассказ (молва), прошедший через множество уст и ушей»[583]. Почему же «усадебный анекдот», рассказанный «девицею К. И. Т.», стал столь популярным и оказался отвечающим вкусам крестьян? Легче всего объяснить этот факт крестьянской тематикой повести, хотя Пушкиным она обыгрывается весьма своеобразно и уж никак не является доминантной. Более привлекателен фабульный интерес «Барышни-крестьянки»: четкое новеллистическое построение с неожиданным поворотом («пуантой») в финале. Мотив переодевания в разных его модификациях хорошо известен народной традиции. Это обычай ряженья, новеллистическая (бытовая) сказка, лубочная авантюрная, беллетристика и даже некоторые сюжеты житийной литературы: героиня-святая в мужской одежде подвизается в мужском монастыре (Феодора Александрийская, Евфросиния). Агиографические мотивы вошли в состав народных легенд, один из подобных сюжетов учтен в указателях как сюжет сказочный (ВС 884 **). В бытовой сказке мотив переодевания обычен для сюжетных типов группы «Верность и невинность» (ВС 880–884), но здесь героиня всегда переодевается в мужскую одежду. Смена одежды как смена социального статуса (высокий — низкий) характерна для сюжета ВС 905 А *, где бессердечная, капризная королева перенесена во сне на место кроткой, постоянно избиваемой мужем сапожницы, а сапожница — на ее место; сапожник укрощает королеву. Очевидно, пушкинская разработка мотива переодевания воспринималась как еще один и при этом непохожий на известные вариант традиционного повествовательного приема. Пушкинская «Барышня-крестьянка» могла примыкать в народном бытовании к циклу новеллистических сюжетов о судьбе. Аналогий здесь не обнаруживается, но сама тема неожиданных поворотов судьбы, ведущих у Пушкина к счастливой развязке, в контексте сказочных представлений о предуказанности и предназначенности воспринималась народным сознанием с обостренным интересом и, возможно, даже в контрастном ореоле (ср. сюжет «Предназначенная жена» — ВС 930 А). Кроме того, «Барышня-крестьянка» привлекла народное внимание любовной тематикой. Во второй половине XIX в. крестьяне активно осваивают мещанский любовный этикет, занесенный в деревню из города. В крестьянскую среду проникает жанр альбома с набором речевых формул любовного обхождения, изложением языка жестов, цветов, взглядов. Альбомная культура (вместе с играми в фанты, «флирт» и т. д.) завоевала деревню в 20–30-х годах XX столетия, в настоящее время сохранившись в школьной среде (девичьи альбомы учениц 5–8 классов). Приобщение крестьян к «грамматике любви» осуществлялось в сфере речевого, поведенческого и даже эпистолярного этикетов. Крестьяне в это время начинают писать письма — любовные объяснения мещанского образца, в культурном организме деревни появляется и особая функция: сочинение для неграмотных девушек любовных писем, которую выполняли односельчане, пообтершиеся в городах и усвоившие там образцы эпистолярной любовной культуры. Любопытно, что С. А. Клепиковым учтено 6 лубочных картинок по мотивам пушкинской повести, причем все они исключительно с изображением сцен свиданий Алексея Берестова с Лизой. Лубочные картинки сопровождались и цитированием пушкинских диалогов[584]. Как видим, «Барышня-крестьянка» включалась лубочными авторами именно в традицию «грамматик любви» для крестьян. Таким образом, повесть Пушкина при всем своеобразии ее художественного решения была в народном осмыслении типологически близка традиционным или же популярным в то время культурным и художественным явлениям. Мы публикуем два текста пересказов «Барышни-крестьянки», обозначающих полюса народного осмысления пушкинского произведения. С одной стороны, текст сказочника И. Ф. Ковалева, непосредственно восходящий к оригиналу Пушкина. Получив сборник сочинений Пушкина при окончании школы за успехи в учебе, И. Ф. Ковалев знал многие произведения практически наизусть. С другой стороны, текст, записанный фольклорной экспедицией Ленинградского гос. педагогического института им. А. И. Герцена в июле 1987 г. от Клавдии Терентьевны Клишковой (1917 г. р., в дер. Жданово Западнодвинского района Тверской области). Рассказ Клишковой не восходит прямо к пушкинской повести; он вообще оценивается ею как сказка. В деревне сказочницы жила «старушка портниха», «бабка Анисья», которая «сильно читала романы, всякие разные» и их пересказывала односельчанам. Но на вопрос собирателя, не является ли «романом» записанный от нее текст, Клавдия Терентьевна ответила: «Не-е, это сказка». Пересказ «Барышни-крестьянки» И. Ф. Ковалева публикуется по книге: Ковалев И. Ф. Сказки / Записи и коммент. Э. В. Гофман, С. И. Минц // Летописи Государственного литературного музея. М., 1941. Кн. II. С. 224–229; текст К. Т. Клишковой — по записи, хранящейся в фольклорном архиве кафедры русской литературы Российского гос. педагогического университета им. А. И. Герцена.
1. Пересказ И. Ф. Ковалева
В одной отдаленной губернии жил богатый помещик Иван Петрович Берестов. Он раньше служил в военном ведомстве, а потом он подался в отставку и приехал в свою деревню, где было у него имение, и выстроил суконную фабрику. И на эти доходы он жил очень богато и хорошо. Все соседи-помещики его любили и обожали, и он со всеми ладил. Но только не ладил с одним соседом-помещиком, Муромским Григорием Ивановичем. Тот тоже жил в Петербурге, и промотав и проиграв свое имение, и так как у него больше не было возможности жить в Петербурге, то он также решил приехать жить в свое имение. Но тот был слишком форсистый, несмотря на то что он ставил, как говорят, последние копейки на ребро. Он устроил шикарный сад на английский лад. У него была дочь Лиза, к которой тоже выписал из Англии няню, которая ухаживала за ёй все время и учила ее на английские манеры. У его в саду все дорожки были посыпаны желтым песком и была полная чистота и порядок. Когда приезжали гости к помещику Берестову, то его богатству завидовали и хвалили его, но он говорил с насмешкой, что «где мне так жить, как у меня сосед Муромский Григорий Иванович, он живет на английский лад и на большую ногу, а мне бы жить хоть сытно». И эти слова Ивана Петровича часто доносили до Муромского Григория Ивановича, и поэтому они не имели промежду себя дружбы и один к одному не ходили, даже опасались встретить нечаянно. И вот в одно осеннее ясное утро приезжает его сын, из военной службы, молодой барин Алексей Берестов. Его очень любили все окружающие барышни, так как он был парень бравый. Он каждое утро имел привычку ходить на охоту в лес, не столько на охоту, сколько на прогулку. Также часто слышала об ём Лизавета Григорьевна, но повстречаться ей никак не удавалось, но признавалась, если сходить в ихнее село, то считала неприличным: «Как будто я за ним гоняюсь». За Лизой ухаживала ее прислуга Настя, которой она открывала всю тайну. И Настю Лиза очень любила. И вот в одно время Настя одевала Лизу и говорит: — Позвольте мне сегодня, Лиза, сходить в гости к Берестовым. — Это зачем? — Потому что поварова жена именинница сегодня, и меня они сегодня приглашали на обед. — Господа в ссоре, а вы вздумали гоститьця. — А нам какое дело до господ. И вот Лиза согласилась ее отпустить и просила посмотреть на молодого Берестова, постаратьця хорошенько его рассмотреть, на что Настя давала свое согласие. По возвращении с обеда Насти Лиза с нетерпением ожидала ее возвращения. Когда стала расспрашивать, а Настя стала говорить, кто был там в гостях. — Да мне какое дело до ваших гостей, ты мне сказывай скорей, видала ли ты молодого Берестова? — Видала. — Ну, как он тебе понравился? — Очень хороший. — Он, говорят, очень угрюм и невесел. — Да, нет, это пустяки, наоборот, он очень веселый. С нами даже играл в горелки. — Да полно, Настя, ты врешь. — Воля ваша, Лиза, я не вру. Да что вздумал, — словит и начнет целовать. — Нет, ты врешь, Настя. — Воля ваша, я не вру. — Да, ведь он, говорят, влюблен в одну петербургскую барышню, от которой имеет кольцо и имеет переписку. — Я не знаю, как с людьми, а с нами был очень любезен и весел. — Как хочется мне посмотреть, Настя, этого Алексея Берестова! — Так за чем же дело? Не так далеко деревня Тугилово. Лишь только стоит сходить. — Тогда что ж подумает Берестов, я за ним гоняюсь. Нет, вот что: я наряжусь крестьянкой, и он меня тогда не узнает, а я посмотрю. — Вот самое лучшее! И Настя ей купила синей китайки и сшила при помощи других придворных девчат моментально сарафан и платок: «А я говорить по-деревенски умею». И когда примерила Лиза приготовленный для ей наряд, посмотрела в зеркало и сама себе очень понравилась и вышла во двор пройтись босая. Но горе было в том, что ее непривычные ноги не могли ходить по земле, потому что ощущалась сильная боль. Но это горе невеликое, а Настя ей и тут помогла: «Я сейчас сбегаю к Трофиму-пастуху. Он тебе моментально сплетет пару лаптей». Настя сняла с Лизиной ноги мерку и сбегала к пастуху и заказала по мерке пару лаптей. И наутро чуть стала заря брезжиться, пастух заиграл в рожок, а Настя выбежала к нему, и он ей подал пару лаптей, и она ему дала в награду полтину денег. Тогда Настя нарядила Лизу крестьянкой и велела итти с кузовом за грибами. И вот Лиза встала рано утром и пошла в рощу, только стало солнце всходить. Взошла в рощу и остановилась. Все-таки ей стало немножко жутко и робко. Еще хотела пойти дальше, как на нее залаяла собака, и Лиза тут закричала и завизжала. Как вдруг ей из-за кустарника показался молодой охотник и сказал: — Не бойся, душенька, моя собака не укусит. — А кто ее знает, барин, я собак очень боюсь. — Нет, моя собака умная, она не укусит. Ты чья будешь? — спрашивает молодой барин. — Я из деревни Тугилово, дочь Василья-кузнеця. — А как тебя звать? — Акулиной. А вы барин Берестов? — Нет, я не барин, а я коминтер, — все не выговариваю, ну, слуга барина. — Конечно, ты барин, не обманывай меня, я ведь понимаю, что барин, что прислуга. — А откуда набралась такой премудрости? Тебя ли не моя знакомая Настя научила? Потому что Лиза проговорила несколько слов по-барски. — Почему ты надо мной подозреваешь, барин? Разве я не бываю на барском дворе? Я часто там бываю и часто слышу их разговор. Но вас можно легко отличить от слуги. Во-перьвых, ты и баешь не по-нашему, и одет не так. И вот молодому Берестову сразу понравилась Акулина, и он хотел ее обнять, и она вдруг отпрыгнула от него, а у ее за плечами болтался на веревочке кузовок: «С тобой, барин, проболтаешь — и грибов не наберешь. Прощенья просим. Ты иди в сторону, а я пойду в другую». Но Берестов взял ее за руку и задержал: — Я завтра же приду к вашему отцу и посещу его. — Нет, сделай милость, пожалуйста, не приходи. Когда мой отець Василий-кузнец узнает, что я наедине в роще с барином болтаю, то он меня изобьет до полусмерти. — Так когда же у нас будет обратно свидание? — А я как-нибудь время выберу, обратно приду за грибами в рощу. — А когда же? — Да хоть завтра. И вот оне попрощались. И она ранним утром возвращалась из рощи с прогулки. Кто мог подумать, что семнадцатилетняя барышня так рано утром могла ходить в лес на прогулку. Но ее Настя уже ожидала. Чуть только она успелапереодеться, как ее повстречал отець Григорий Иванович и похвалил за раннюю прогулку: «Нет ничего полезнее для молодой девицы, как ранняя прогулка. Тот человек долго живет на свете, кто рано встает и гуляет на чистом воздухе». И она рассказала Насте все подробно, как встретила молодого барина, а Настя спросила: — Ну, как он вам понравился? — Очень понравился, Настя. Но уж она было раскаялась и не хотела идти больше, но так как боялась, что он придет в Тугилово и будет разыскивать Василья-кузнеця дочь и посмотрит рябую Акулину, то он сразу догадается, в чем дело. А поэтому она решилась обратно идти. Когда она пришла на следующее утро, то ее уже Берестов ожидал с полчаса. И у их стали свидания очень частыя. И Берестов, не замечая себя, стал влюблятця в барышню-крестьянку, милую Акулину. Но она взяла с его слово, чтоб он никогда ее не разыскивал и не расспрашивал о ней. Он ей обещал, а с ей спросил: «Ты будешь ли ко мне ходить на свидания?» Она сказала: — Буду. — Побожись. — Вот тебе святая пятница, буду! И вот в одно осеннее ясное утро Берестов взял несколько гончих собак и мальчишек с трещотками и поехал на охоту, а Муромский Григорий Иванович посмотрел на хорошую погоду, вздумал объехать свои владения и вдруг нечаянно наехал на Берестова. Не так далеко повстречался с ним, на пистолетный выстрел. Тогда делать было нечего, Муромский подъехал и поздоровался, и так же ему ответил поклоном Берестов, хоть не так с охотою, как медведь по приказанию своего вожатого. И вот, когда мальчишки затрещали в трещотки, выскочил заяц. Берестов выстрелил, а Муромского его куцая кобыла так испугалась и понесла его во всю конную рысь, а потом так вкруте повернула к оврагу, что Муромский не усидел и вылетел из седла, и упал на мерзлую землю, и очень сильно ушибся. Тогда он стал проклинать свою кобылицу и эту раннюю прогулку, а между тем увидел Берестов своего соседа, и он подъехал к нему и помог ему встать: «А может, вы сильно очень ушиблись, Григорий Иванович?» Он ему признался: «Да, я ушибся и ушиб слишком ногу». Тогда Иван Петрович попросил его к себе в гости на обед, и он уже не смел отказаться от своего соседа и поехал к нему. Когда он отобедал, то у Берестова попросил дрожки, так как он верхом ехать не мог. А их пригласил обязательно обех с молодым Берестовым. Когда же въехал на двор к себе, то выбежала к нему навстречу его любимая шалунья-дочь Лиза и спрашивает: — Откуда ты приехал и чьи у тебя дрожки? — А вот уж ни за что не отгадаешь. Это дрожки Берестовых. Я был у них в гостях. А завтра они оба будут у нас. У Лизы по телу даже пробежал мороз. — А ты должна их обязательно принять и познакомитьця с молодым барином. — Нет, папа, я ни за что им не покажусь и не выйду. — Это еще что за вздор? — Нет, я ни за что не покажусь. Отець с ней не стал спорить, так как знал ее капризы. А на другой день призвал к себе Лизу и спросил: — Ну как, примешь гостей Берестовых? — Я приму и покажусь, если только ты мне дашь слово, что никакого вида не покажешь, как я к ним покажусь. — Ну, обратно задумала какие-нибудь капризы. Ну да ладно. Ей не хотелось казаться, чтобы не узнал Берестов ее, и очень хотелось посмотреть, как он будет вести себя у господ. И она при помощи Насти украла у своей няни-англичанки коробку с белилами и так набелилась и так завила свои волосы и всклочила, что ничуть не похожа была на Лизу. А сама себя перетянула очень сильно ремнем. В назначенное время въехал на шести лошадях Иван Петрович Берестов, а молодой Берестов приехал вследом за ним верхом. Когда Муромский их усадил за стол, то послал за Лизой. Молодой Берестов тоже много слыхал о Лизе и с нетерпением ждал ее появленья. И он думал, что идет Лиза, а тут как раз взошла няня-англичанка, но вскоре за ней пришла и Лиза, столь набеленная, так перетянутая, и волосы ее были вспудрены, что ничуть не похожа была на ее. Отец хотел засмеяться и что-то сказать, но вдруг вздумал данное ей обещание, закусил губу и замолчал. Старый Берестов при здорованье поцеловал ее руки, а молодой барин только коснулся пальчиков, и почувствовал он ее руки дрожь. И Лиза во время обеда очень мало говорила и говорила только по-французски нараспев. По окончании обеда, когда уехали Берестовы, Лиза разрядилась. Отець призвал ее и долго смеялся над ней и говорит: «Вот, дочка, тебе очень идут белила. И что ты вздумала это дурачить Берестовых?» Но одна ее няня-англичанка была очень недовольна, потому что узнала, что белилась ее белилами, и думала, что насмех. Будет смеятьця на ее белила. Но когда Лиза ее убедила, что она взяла на насмех, так как оне мне очень потребовались, тогда она помирилась и ее простила и еще вдобавок дала коробку белил. А на другой день рано утром Лиза пошла в рощу в указанное место на свидание с Берестовым. А Берестов уже был там. — Ну как, барин, был в гостях у наших господ? — Был. — Ну как. Чай, очень понравилась наша барышня? — Нет, не особенно. — Ну, барин, ты врешь. Она такая хорошая, беленькая. А правда ли, барин, что люди говорят, что я на ее похожа? — Брось ты такую чушь говорить, она против тебя урод уродом. — Ну что ты, барин. Нет, это ты смеешься! Разве можно меня сравнить с барышней. Она человек, чисто одета, образованная, а вдобавок грамотная, а я простая деревенская девчонка! — А если хошь, то и тебя выучу грамоте. — Пожалуй! Когда же мы займемся? — Когда угодно. — А хоть сейчас. И молодой Берестов вынимает записную книжку и начинает ей писать азбуку-буквы. И Акулина очень скоро поняла буквы, а на следующий день уже начинает читать некоторые слова по складам. И вскоре после этого у их уже завязалась переписка, а почтальоном была Настя, а почтой служило дупло дуба. А между тем у старых господ, ихних отцов, дружба все увеличивалась и увеличивалась, и оне, наконец, решили сосвататьця. Отець Лизы думал, если Лиза выйдет за Берестова, то она будет счастлива, потому что он слишком богатый, а Берестов думал наоборот: «Хотя она не так из богатых, но она ни в чем не виновата, потому что ее отець почти все промотал и перьвой сумел заложить в кредит последние именья. Но только остались не промотаны брильянды после матери, которые надевает теперь при появлении хороших гостей Лиза». И так же была она одета в эти брильянды при Берестовых. Но он завидовал, что у его дядя знаменитый граф, который в его время играл большую роль. И вот в одно прекрасное время Берестов призывает своего сына Алексея к себе в кабинет и говорит: — Ну что ж, Олеша, ты и перестал говорить о военном мундире, или тебе уже не нравится военная служба, хочешь быть статским? — Да, папа, я хочу быть послушным сыном тебе. — Вот это хорошо, — так как отцю не нравилась эта военная служба. После некоторых разговоров отець ему сказал: — Ты знаешь, мой милый сын, зачем я вас к себе призвал? — Не знаю. — Я вас перьвым долгом намерен женить. — На ком же? — На Лизавете Григорьевне Муромской. — Я жениться не намерен и не хочу. — А я хочу вас женить. — Она мне не нравится. — После понравится. — Я не могу ее устроить счастье. — Эта забота будет не твоя. Я устрою счастье. Но Алексей наотрез отказался отцу от женитьбы. Тогда отець говорит: «Так так-то, такой ты покорный сын? Только что говорил, что я буду вас слушать. Прошло несколько минут, уж не хочешь слушать. Если только ты не послушаешь, то я промотаю все имение и тебе не дам ни одной копейки денег и прогоню тебя с глаз долой. Иди и шатайся. Вот тебе сроку на три дня, иди и думай». Старый Берестов был очень сурового характера, что скажет, то его уже не переворотишь. Но и сын его был такой же характер, как и отець, что скажет, то его уже не переворотишь, и не хотелось ему очень жениться не на милой невесте. Он долго думал, что трудно с отцом бороться, и не хотелось быть ему нищим. И вот он думал, думал и решил все-таки жениться на крестьянке, Василия-кузнеча дочери: «Я, мол, буду работать совместно с Васильем-кузнецём чернорабочим и будем кормиться совместно с милой Акулиной». И он тут же взял написал письмо Акулине большими буквами и снес в дупло и признался ей в любви и просил ее руки, и сам не спал почти всю ночь и обдумывал, как поступить лучше. И вот он решил съездить к Муромскому Григорию Ивановичу и объясниться ему во всем лично с ним. И он оседлал рысака, сел верхом и приехал безо всякого докладу во двор именья Муромского. И спрашивает слугу: «Дома Григорий Иванович?» Тот отвечает: — Нет. — Как досадно! А Лизавета Григорьевна дома? Он немного подумал и сказал: «Все равно, пойду к ней самой объяснюсь, еще лучше». И он безо всякого докладу взошел в ее комнату и остолбенел. Что он видит. Сидит милая Акулина в белом утреннем платьице на окне и читает его письмо. Она так увлеклась в чтении этого письма, даже не слыхала, как взошел молодой Берестов. Когда она обернулась, хотела убежать, а он ее схватил и начал целовать и кричит: «Милая Акулина!» — а потом смёшивается и называет: «Лизавета Григорьевна». И с ней тут же была эта мадам-англичанка, и она не знала, на что подумать. И в это же самое время взошел Григорий Иванович Муромский и увидел эту сцену и сказал: «Да ведь у нас уже, кажется, все налажено». И, конечно, молодой Берестов больше уже не отказывался от своей женитьбы. Они оба не верили, что когда-нибудь сойдутся и будут жить вместе. Берестов не верил, потому что ему никогда отець не позволит жениться на крестьянке. А Лиза, наоборот, думала, потому что промежду отцов такая ссора, и потому ей никогда не быть замужем за Берестовым. А впоследствии, как говорится, сама судьба свела их, и оне поженились по любви и по согласию. И задали пир, как говорится, на весь мир, и я там был, вино-брагу пил, по усам текло, а в рот не попало.
2. Пересказ К. Т. Клишковой
Жил царь. И у царя был сын… Ну и вот, у царя был сын. И сын етат хадил па ахоты, гулял везде. Адин царь жил так, как вот ŷ Жданаве, а другой как у друой дяревне. А ŷ етава царя был сын. Сильна был хароший, красивый. А ŷ тарова царя была дочка, тожа харошая, харошая, красивая дочка. Ну и от этат царёв сын ŷсё ходить на ахоты. Ходить, а тут, у тарова царя яво видють и гаварять, што «у царя, — гаварять, — сильна красивый сын. У того. Вот што бы с табой познакомится б». Ета… на ету на царя, другова царя на эту дочку. «Аёв-аёв, как жа яво б увидеть, этава б царя», — тая уже деука, валнуется. Што как бы яво увидеть. Тагда… А яшо жил на дяревне кузнец. У кузница была дочка Лиза, простая была. Ну и вот эта тагда… Што ж эта? «Знаете што, — гаварить, — дайте я, — гаварить, — па-дяревенски аденуся», — эта ужу ŷтарова царя дочка. «Как он пайдёть на ахоту, а я к яму выйду навстречу. Мол, как па грибам». Лапти адела ана, адёжу такую. Ну, как дерявенская деучонка, эта царёва дочка. И видить, баринав сын идёть. С сабакай, с ружьём. У паходы ходить. Прагуливается. Щас ана к яму навстречу. «Ой! Меня сабака ваша спугала. Што эта, барин, вы так ходите? Вы с сабакам не хадите, а то я ŷроде пугаюсь». Барин загляделся на яё и пандравилась ана яму. Лапти адеты, ŷсё. Аёв-аёв. Стал там с ей разгаваривать, ŷсё, па-харошему. Где вы живёте да как? — На! А во! Кузняца, кузняцова дочка Лиза, — ана ужо эта гаварить, кузняца там называя, — дочка Лиза. — Как же вы живёте? Ну, давай, мы будем с табой устрячаться. — Эта уже барин. — Вы, — гаварить, — граматная? — Не, няграматная, ня адной буквы ня знаю. — Ана. А сама граматная. — Тагда… Ну ладна, заутра мы стренемся. Ат такое-та уремя, у таком-та месте. Я, — гаварить, — с вам пагаварю. Пришла дамой, и не даждаться тагда даже и дня, кагда бы устретиться. И барин ня знаить ничаво, што эта дочка ходить, схадила. Ну назаутрия апять она, адяёть эты лапти, сарафан. Всё. Пашла. Пашла, ужо и барин этат идёть с ёй устрячаться. «Ну, давай, — гаварить, — я тебе буду граматы учить». Што скажить, ана сразу запаминаить. Буквы все запаминаить. Писать паказываить — всё запаминаить. Так быстра-та панимаить, так учится! Ну и вот ана там хадила, скока, раза три схадила. Тагда этат царь приглашать, хочет как-та пазнакомить с сваей, с етай. (Ана ня знаить, што…) Царь ня знаить, што ана ужо с им знакома, с этым, с сынам. А хочеть как-та, их хочеть как-та свесть ŷ места. Двых. Пажанить. Тагда… А как ана? Гаварить: — Я буду приглашать вот етава с сынам к себе ŷ гости. Ана: — Ты што, папа, не приглашай. — (Што сын придёть и узнаить яё.) — Ты што, папа, не приглашай, ня нада. — Ну как не приглашай, — приглашу. — Ну приглашай яво без сына. — Ну как, с сынам нада пригласить. Ну как… — Ну, ну, ладна. Ну знаешь, — гаварить, — папа, ну приглашай, угашай. Толька ничаво ты мне не скажи, какая ль я ня выйду. — Кагда ане придут ŷ гости, ана выйдет с сваей комнаты. — Какая я ня выйду, ты мне ничаво не скажи. Ну што ж, нада выхадить. Пришли ŷ гости. Вот она узяла, навесила разные бриленты, накрасилась, што она там толька не навесила! Штоб как хуже и не была б. Ну, ой как аттудава. Ну её, ухади. Как вышла, царь спугался, а дал слова, што будить малчать. Што такое с ей палучилась? Уся абвесивши. Ну… А етат, чтоб пагаварил бы он с ёй бы етат ужо, сынау атец. А он дажа атвярнулся ат яё[585]: «Акулина мая куда лучшей». Ета Акулинай сама себя называла. «Лучшей!» Ну да, Акулина. Вот я сказала Лиза… «Куда, — гаварить, — лучшей…» Или Лиза… чёрт яво… Ну эта вся равно, што Акулина, то и Лиза. «Куда — гаварить, — лучшей. Я с такой буду жанится. Нада ана мне такая. Чу! Какая». Дажа не пондравилась она яму. Пришёл дамой и гаварить сваёму атцу: «Не, ня нада ана мне, и в какую ня нада! Ну ня буду!» Ну, царь заставляеть сына жаниться. Ну, што яму делать? Тагда он надумался што сделать: «Напишу щас записку и перядам, што ня думай, ты мне ня нада, ня буду я тебе замуж брать. Тагда не! пака буду передавать, снясу я сам эту записку в еную комнату, где ана спить. Вот эта царёва дочка. А пайду на свидание к сваей Акулины… К этай». Ну и што, пашёл. Приходить ŷ эту комнату. На, Акулина сидить[586]. Эта царёва дочка. Ой, ухватился он за яе! «Ой! Акулинушка ты мая!» А как эта так палучилась? Ну и вот так и палучилась. И пожанился на этой. Ну там, где ня так, падправите. Ну вот так и пожанился.
— А от кого Вы переняли эту сказку, Клавдия Терентьевна? Кто рассказал ее? — А ета давно. От ета у нас жила такая старушка, партниха. Ана сильна читала раманы, ŷсякие разные. Но эта сказка ваабше. — Это сказка? — Ауа. — Не роман? — Не, эта сказка. — А какие она рассказывала романы еще? — А вот. Ой, харошие.
А. Битов, Р. Габриадзе Пушкин за границей
(фрагменты)
Свободу Пушкину
Я в Париже, Я начал жить, а не дышать.Вот уже почти два века мы перемываем Пушкину кости, полагая, что возводим ему памятник по его же проекту. Выходит, он же преподносит нам единственный опыт загробного существования. По Пушкину можно судить — мы ему доверяем. Рассчитываясь с ним, мы отвели ему первое место во всем том, чему не просоответствовали сами. Он не только первый наш поэт, но и первый прозаик, историк, гражданин, профессионал, издатель, лицеист, лингвист, спортсмен, любовник, друг… В этом же ряду Пушкин — первый наш невыездной. Тема «Пушкин и заграница» достаточно обширна, но и очевидна, чтобы долгим текстом отнимать здесь площадь у свободного рисунка. Достаточно сказать, что Пушкин много раз хотел за границу и столько же раз его не пустили. Еще в 1820 г. молодой Тютчев живо обсуждает с Погодиным слух о том, что Пушкин сбежал в Грецию[587]. Это и тогда было неудивительно. В 1824-м, уже в Михайловском, Пушкин пробует и так и сяк переменить участь, изобретает себе «аневризм», который лечат лишь в Германии. Получен окончательный отказ, болезнь тут же проходит. Желание не проходит. «Плетнев поручил мне <…> сказать <тебе>, что он думает, что Пушкин хочет иметь пятнадцать тысяч, чтобы иметь способы бежать с ними в Америку или Грецию. Следственно, не надо их доставлять ему» (А. А. Воейкова — В. А. Жуковскому)[588]. Желание увидеть Европу перерастает в страсть хотя бы пересечь границу. Ему уже равно, что в Париж, что в Китай.Эпиграф из Дмитриевак главе I «Арапа Петра Великого»
(III, 191)
22 апреля 1989 г. Париж

Пушкин в Испании




Грузия как заграница

Я не помню дня, в который бы я был веселее нынешнего.Слова Пушкина о Тифлисе[591]
1
Пушкин не был в Испании, однако написал о ней так, что каждый русский, попав после него и вместо него в эту страну, прибудет именно с пушкинским багажом и будет бормотать: «Я здесь, Инезилья, с гитарой и шпагой…» или «Шумит, бежит Гвадалквивир…»; в который раз поразится он точности поэта, не смущенный тем, что и шпаги-то нет и что Гвадалквивир — речка, имя которой вдвое шире ее самой. Такова сила воображения! Зато певцом Кавказа Пушкин нам кажется бесспорным: сам первый увидел, сам первый написал. Слава автора «Кавказского пленника» преследовала его всю жизнь, долго заслоняя другие сочинения. Между тем и тут мы недооцениваем меру его воображения. И «Кавказский пленник» (1821), и «Не пой, красавица, при мне…» (1828) написаны человеком, все еще на Кавказе не побывавшим. «Сцена моей поэмы должна бы находиться на берегах шумного Терека, на границах Грузии, в глухих ущелия Кавказа, — я поставил моего героя в однообразных равнинах, где сам прожил два месяца» (XIII, 28). И в Грузию-то попасть не так просто. Он хотел туда в 1819-м, просидел два месяца в ее ожидании (как его герой) в Минеральных Водах в 1820-м — так и не разрешили; в 1826-м ему опять захотелось… «Из Петербурга поеду или в чужие края, то есть в Европу, или восвояси, то есть во Псков, но вероятнее в Грузию…» (XIII, 329) — пишет он брату 18 мая 1827 г. В апреле 1828-го они с князем Вяземским подают прошение на имя государя об определении в действующую армию на Кавказ… И вот результат: «Искренно сожалея, что желания мои не могли быть исполнены, с благоговением приемлю решение Государя Императора и приношу сердечную благодарность Вашему превосходительству за снисходительное Ваше обо мне ходатайство. Так как следующие 6 или 7 месяцев остаюсь я, вероятно, в бездействии, то желал бы я провести сие время в Париже, что, может быть, впоследствии мне уже не удастся» (Пушкин — Бенкендорфу, 21 апреля 1828 г.) (XIV, 11). Россия! В проблему поездки поэта в пределах империи включены: сам Государь, его брат великий князь Константин (категорически против!), начальник Третьего Отделения генерал Бенкендорф… Вот из воспоминаний чиновника этого отделения: «Когда ген<ерал> Бенкендорф объявил Пушкину, что Его Величество не изъявил на это соизволения, Пушкин впал в болезненное отчаяние, сон и аппетит оставили его, желчь сильно разлилась в нем, и он опасно занемог. Тронутый вестью о болезни поэта, я поспешил к нему. <…> Человек поэта встретил нас в передней словами, что Александр Сергеевич болен и никого не принимает. — Кроме сожаления о его положении, мне необходимо сказать ему несколько слов. Доложи Александру Сергеевичу, что Ивановский хочет видеть его. Лишь только выговорил я эти слова, Пушкин произнес из своей комнаты: — Андрей Андреевич, милости прошу! Мы нашли его в постели худого, с лицом и глазами, совершенно пожелтевшими. — Правда ли, что вы заболели от отказа в определении вас в турецкую армию? — Да, этот отказ имеет для меня обширный и тяжкий смысл… <…> — Если б вы просили о присоединении вас к одной из походных канцелярий: Александра Христофоровича или графа Нессельроде… это иное дело, весьма сбыточное, вовсе чуждое неодолимых препятствий. — Ничего лучшего я не желал бы!.. И вы думаете, что это можно еще сделать? — воскликнул он с обычным своим воодушевлением. — Конечно, можно. <…> — Превосходная мысль! Об этом надо подумать! — воскликнул Пушкин, очевидно оживший. — Итак, теперь можно быть уверенным, что вы решительно отказались от намерения своего — ехать в Париж? Здесь печально-угрюмое облако пробежало по его челу. — Да, после неудачи моей я не знал, что делать мне с своею особою, и решился на просьбу о поездке в Париж. <…> Мы обнялись»[592]. Так Париж и Грузия становятся в судьбе Пушкина на некоторое время синонимами недоступности, т. е. и Грузия становится заграницей. Париж, возможно, и достижим, если воспользоваться «правом каждого дворянина на выезд». Но это значит поставить себя в положение невозвращенца. Грузия, выходит, еще более недостижима, ибо в пределах империи решения власти неоспоримы. Впрочем, и Грузия доступна, если стать сотрудником Третьего Отделения… И в те времена это толкуется однозначно, как в наши: «Пушкину предлагали служить в канцелярии Третьего Отделения!»[593] — восклицает в своей записной книжке Н. В. Путята. Невыездной, невозвращенец, сотрудник — ничего себе выбор! Весь набор. Границы свободы, обретенной Пушкиным после возвращения из ссылки, не только определились, но и замкнулись. Год мечется невыездной Пушкин, делая предложения чудесным невестам — Ушаковой, Олениной, будто они тоже Париж или Грузия. Успевает, однако, написать «Полтаву». Наконец, он делает предложение Наталье Гончаровой и удирает на Кавказ без всякого разрешения ни женитьбы, ни поездки… «Когда я увидел ее в первый раз, красоту ее только что начинали замечать в обществе. Я ее полюбил, голова у меня закружилась; я просил ее руки. Ответ ваш, при всей его неопределенности, едва не свел меня с ума; в ту же ночь я уехал в армию. Спросите, — зачем? Клянусь, сам не умею сказать; но тоска непроизвольная гнала меня из Москвы: я бы не мог в ней вынести присутствия Вашего и ее» (Пушкин — будущей теще, в первой половине апреля 1830 г.) (XIV, 75).2
Необыкновенное чувство свободы и молодости охватило его. Встречи с друзьями, простота и равенство военных биваков, свобода реальной войны — будто это Петербург был казармой, а здесь — увольнительная. Пушкин играет в обретенную свободу, как дитя. Он без конца переодевается — то в черкеску, то в красный турецкий фесс, то в странный маленький цилиндр, обвешивается шашками, кинжалами и пистолетами. Казалось бы, сейчас ему полюбоваться пропущенными кавказскими красотами — невтерпеж! «Едва прошли сутки, и уже рев Терека и его безобразные водопады, уже утесы и пропасти не привлекали моего внимания. Нетерпение доехать до Тифлиса исключительно овладело мною». Тридцатилетие свое он встречает по дороге в Душети, увязая в грязи по колено. «Блохи, которые гораздо опаснее шакалов, напали на меня и во всю ночь не дали мне покою» (VIII, 455). Тифлис надолго запомнил поэта! Он бросился в глаза не только его поклонникам — простые люди кивали головами и расспрашивали, кто это. Он выходил на рассвете в нижнем белье покупать груши и тут же поедал их без всякого стеснения, шатался по базару в обнимку с татарином, нес охапку чуреков… Из всех его непривычных здесь нарядов самым ярким был плащ свободы, который развевался за ним. Этот ветер, раздававшийся вслед за поэтом, ослепительный его смех запомнили люди, не ведавшие ничего о его поэзии. Были и другие радости — тифлисские бани, пиры со старыми русскими и новыми грузинскими друзьями, был ими устроенный первый и последний в его жизни 30-летний юбилей, «праздник в европейско-восточном вкусе»… Вот свидетельство одного из участников: «Тут была и зурна, и тамаша, и лезгинка, и заунывная персидская песня, и Ахало, и Алаверды (грузинские песни), и Якшиол, и Байрон был на сцене, и все европейское, западное смешалось с восточно-азиатским разнообразием в устах образованной молодежи, и скромный Пушкин наш приводил в восторг всех, забавлял, восхищал своими милыми рассказами и каламбурами. Действительно Пушкин в этот вечер был в апотезе душевного веселия, как никогда и никто его не видел в таком счастливом расположении духа…»[594] Но и это была еще не вся радость, к какой рвался Пушкин… Сильнее всего манило его поле боя!
Воинственность Пушкина в этом походе просто поразительна. Как ни стерегут его от опасности, он умудряется ускользнуть и оказаться в первых рядах, с саблей наголо или подхватив пику убитого только что казака. И он просто вне себя от того, как быстро бегут турки, чуть ли не топает ногой в детском гневе: когда же, когда удастся ему столкнуться с врагом один на один! Столкнуться, ему, слава Богу, не удастся, но нам достанутся строки:
Но и это была еще не вся радость, к какой рвался Пушкин… Сильнее всего манило его поле боя!
Воинственность Пушкина в этом походе просто поразительна. Как ни стерегут его от опасности, он умудряется ускользнуть и оказаться в первых рядах, с саблей наголо или подхватив пику убитого только что казака. И он просто вне себя от того, как быстро бегут турки, чуть ли не топает ногой в детском гневе: когда же, когда удастся ему столкнуться с врагом один на один! Столкнуться, ему, слава Богу, не удастся, но нам достанутся строки:
(III, 199)
3
Короче, вся эта авантюра с путешествием в Арзрум была едва ли не самой безмятежной и счастливой во всю пушкинскую жизнь. Доказательство тому возвращение, как в зеркале повторившее предотъездные страсти. Уже в дороге читает он русские журналы, где «…всячески бранили меня и мои стихи… Таково было мне первое приветствие в любезном отечестве» (VIII, 483). Первым делом — к невесте. «Вдруг стук на крыльце, и вслед за тем в самую столовую влетает из прихожей калоша. Это Пушкин, торопливо раздевавшийся»[596]. Вторым — письмо от Бенкендорфа: «Государь Император, узнав, по публичным известиям, что Вы, милостивый государь, странствовали за Кавказом и посещали Арзрум, высочайше повелеть мне изволил спросить Вас, по чьему позволению предприняли Вы сие путешествие. Я же со своей стороны покорнейше прошу уведомить меня, по каким причинам не изволили Вы сдержать данного мне слова и отправились в закавказские страны, не предуведомив меня о намерении Вашем сделать сие путешествие» (14 октября 1829 г.) (XIV, 49). Пушкин — Бенкендорфу 7 января 1830 г.: «Так как я еще не женат и не связан службой, я желал бы сделать путешествие либо во Францию, либо в Италию. Однако если это мне не будет дозволено, я просил бы разрешения посетить Китай с отправляющейся туда миссией» (XIV, 56).
Через десять дней приходит отказ императора с замечательной мотивировкой, что такая поездка слишком расстроит его денежные дела и в то же время отвлечет его от его же занятий.
В марте 1830-го Пушкин вынужден объясняться по поводу еще одной самовольной отлучки, на этот раз в Москву. В том же месяце, соблюдая на сей раз дисциплину, он просится в Полтаву, и император «решительно запрещает ему это путешествие» (XIV, 75).
Симметрия во всем: на Кавказ не пускают автора «Кавказского пленника», в Полтаву — автора «Полтавы»…
И ему ничего не остается, как отправиться в Болдино, написать там ВСЕ, как перед казнью («Есть упоение в бою и бездны мрачной на краю…»), и — жениться.
Так и останется Грузия — единственной в его жизни «заграницей». Такой она, с легкой его руки, достанется в наследство и всей последующей русской поэзии, всегда искавшей и находившей в Грузии единственное прибежище и место отдохновения от имперских гонений.
Пушкин — Бенкендорфу 7 января 1830 г.: «Так как я еще не женат и не связан службой, я желал бы сделать путешествие либо во Францию, либо в Италию. Однако если это мне не будет дозволено, я просил бы разрешения посетить Китай с отправляющейся туда миссией» (XIV, 56).
Через десять дней приходит отказ императора с замечательной мотивировкой, что такая поездка слишком расстроит его денежные дела и в то же время отвлечет его от его же занятий.
В марте 1830-го Пушкин вынужден объясняться по поводу еще одной самовольной отлучки, на этот раз в Москву. В том же месяце, соблюдая на сей раз дисциплину, он просится в Полтаву, и император «решительно запрещает ему это путешествие» (XIV, 75).
Симметрия во всем: на Кавказ не пускают автора «Кавказского пленника», в Полтаву — автора «Полтавы»…
И ему ничего не остается, как отправиться в Болдино, написать там ВСЕ, как перед казнью («Есть упоение в бою и бездны мрачной на краю…»), и — жениться.
Так и останется Грузия — единственной в его жизни «заграницей». Такой она, с легкой его руки, достанется в наследство и всей последующей русской поэзии, всегда искавшей и находившей в Грузии единственное прибежище и место отдохновения от имперских гонений.
18 апреля 1990 г.

Заключение
М. H. Виролайнен Культурный герой нового времени
1
«Легенды и мифы о Пушкине»… В самом названии этой книги скрыта проблема: можно ли всерьез говорить о легендах и тем более мифах применительно к тому, кто является героем Нового времени, героем секуляризованной культуры? Мифология не случайно ассоциируется с глубокой древностью: она является законной принадлежностью «традиционных» культур, ориентированных на воспроизведение канонического порядка вещей. Вновь и вновь актуализируясь в ритуалах, мифы служили этим культурам как мощный инструмент поддержания миропорядка. Представление о самом себе как о проявлении вечных законов космоса — вот что воплощал в мифах древний мир. Иное дело культуры Нового времени, в которых традиции разрушены или поколеблены, космос осмыслен заново и сам взгляд на то, каким должен быть природный или социальный порядок, еще только вырабатывается или постоянно обновляется. Такие культуры не могут опереться на от века существующую мифологию — а между тем нуждаются в ней для собственного обустройства, для закрепления своих новых норм. Эта нужда чрезвычайно настоятельна, и удовлетворить ее может только рождение новых мифов. Европа Нового времени столкнулась с этой проблемой, как только стал рушиться средневековый порядок. Геоцентризм — и гелиоцентризм, теоцентризм — и антропоцентризм, вера в бессмертие души — и неверие в него, вера в единого Бога, трансцендентного миру, — и пантеистическое верование в Бога, растворенного в природе. Эти и множество других оппозиций, заключающих в себе кардинально противоположные друг другу картины мира, — вот безумная система отсчета, в которую попадал человек того времени, когда средневековая и возрожденческая картины мира конкурировали на равных, взаимно опровергая друг друга. Средний человек, который не становился апологетом того или иного взгляда, а просто жил в мире и пытался в нем ориентироваться, остро нуждался в новой мифологии, не тождественной ни старой церковной схоластике, ни новым гуманистическим воззрениям. И такой миф был создан Шекспиром. Им был создан мир близнецов, в котором все двоится и нуждается в различении, нуждается — но ежеминутно провоцирует к ложному отождествлению. Нераспознаваемые близнецы-братья, мужчины под видом женщин и женщины под видом мужчин, сон под видом смерти и смерть под видом сна, добродетель под видом порока и порок под видом добродетели, комедия под видом трагедии и трагедия под видом комедии, жизнь под видом театра и театр под видом жизни… Будь то комедийный сюжет «Сна в летнюю ночь» или трагический сюжет «Гамлета», задача различить двоящийся мир, опознать что есть что и кто есть кто остается главнейшей. Она составляет то центральное испытание, которое определяет сущность шекспировского мифа как мифа переходного времени. Но этот миф не знает счастливого исхода, когда неразличимый хаос умиротворяется, переходя в стабильный космос. Символический финал шекспировского мифа — Просперо, бросающий волшебный жезл в море, человек, отказывающийся от способности управлять природными и социальными стихиями. Подобный финал можно считать в высшей степени знаменательным для мифа секуляризованной культуры. Ибо, единожды отложившись от церкви, европейская культура раз и навсегда отложилась от устойчивого миропорядка как такового. В противоречие с ним вступил самый пафос обновления, присущий ей с этих пор. Но на каждом витке, в каждый следующий момент обновления культура оглядывалась назад, и потребность ее в мифологии становилась все более и более острой. Вступая в XIX столетие, Европа уже отчетливо сформулировала эту потребность: романтизм вполне сознательно обратился к мифу, и изучая, и пропагандируя его. Следующий всплеск такого сознательного интереса произошел на следующем рубеже: Ф. Ницше, Р. Вагнер, З. Фрейд как бы заранее отвечали на запрос XX века. Секуляризованная Россия в своей осознанной и неосознанной, сформулированной и несформулированной заинтересованности в мифе проходила те же этапы, что и Европа Нового времени. Церковный раскол спровоцировал мифотворчество протопопа Аввакума, главное напряжение воли которого заключалось в воссоединении распадающегося надвое мироздания, в скреплении единой скрепой сакрального, освященного преданием измерения бытия и другого его измерения — измерения бытового и профанного, неудержимо стремящегося обрести автономию[597]. В XIX в. — мифотворчество Пушкина, Гоголя, Достоевского, на пороге XX в. — мифотворчество символистов, затем — мифы тоталитарного государства… Итак, интерес секуляризованной культуры к мифу налицо, но несомненно также и то, что сделать миф своим безусловным достоянием она так и не смогла. Не случайно о мифах Нового времени мы почти всегда говорим в некоем условном, порой даже — в переносном смысле. Некоторые причины такого положения вещей здесь необходимо указать, предварительно оговорив, каков же тот не условный, не переносный, а более или менее строгий смысл, который вкладывается в понятие «миф». «Мифом» мы будем называть реальность, обладающую следующими четырьмя качествами. Первое. Миф воплощается в слове. (Греческое mythos означает слово, предание, сказание, речь.) Но словесное повествование составляет лишь один аспект бытования мифа. Это обстоятельство мы хотим особенно подчеркнуть, ибо начиная с «Поэтики» Аристотеля и кончая современным бытовым словоупотреблением миф сплошь и рядом толкуется именно как словесная — и только словесная — реальность. Второе. Миф воплощается в материи и действии. Это происходит благодаря исконному единству мифа и ритуала[598] — ритуал же есть действие, всегда охватывающее материальное бытие, разворачивающееся не только в сознании или в слове — но и в самой плоти мира[599]. Миф поэтому не может быть измышлен или сочинен: он рождается через претерпевание. Третье. Воплощаясь в слове, действии и материи, миф в то же время несводим к своим воплощениям: он только отчасти обнаруживает себя в них. Миф родится из сокровенных и потаенных первооснов жизни. Неизреченный и невоплощаемый, исток мифа относится к области того, что мы называем «сакральным», «мистическим». Это таинство жизни, это сокровенная мировая воля, которая лишь затем превращается в различение мира, логическое объяснение его и действование в нем. Четвертое. Неизреченная и сокровенная основа мифа, пройдя через слово, действие и материю, воплотившись в них, становится моделью мирового порядка — моделью, которая указывает пути и способы превращения хаоса в космос. Эту важнейшую прагматическую функцию мифа Е. М. Мелетинский определяет как функцию по регулированию и поддержанию определенного природного и социального порядка. В качестве модели часто выступают события мифологического прошлого[600]. Итак, миф есть слово о мире; миф есть плоть мира; миф есть неизреченное и невоплощаемое начало мира; миф есть законодательная модель мира. Только все эти четыре качества в их совокупности составляют то, что мы будем здесь называть мифом. (Легендой же будем называть то, что возникает и существует в одной только плоскости словесного. Легенда изначально рождается как повествование, как рассказ. Она может опираться на то, что действительно было, но имеет бóльшую степень свободы от него. Миф, порвавший с первоосновой, из которой он родился, перестает быть мифом. Легенда может как угодно удаляться от реальности, о которой она повествует, обрастать вымышленными подробностями. Но она всегда относится к области исключительного, она лишена законодательных полномочий мифа. Таким образом, главными свойствами легенды, отличающими ее от мифа, являются ее чисто повествовательная природа и ее преднамеренная или спонтанно возникшая «сочиненность».) Вернемся теперь к вопросу о том, почему секуляризованная культура, так остро нуждаясь в мифе, всегда испытывала трудности, взаимодействуя с ним. Исчерпать здесь этот вопрос мы, разумеется, не сможем. Поэтому коснемся лишь тех причин, которые имеют прямое отношение к нашему предмету. Причины эти тесно связаны с вышеназванными качествами мифа. Мифы «традиционных» культур рождены из сакрального источника, составляющего сердцевину культурного космоса. Антропоцентризм Нового времени поставил на центральное место не просто человека как такового, но человека как индивидуальность. Она-то и стала источником порождения новых мифов. Сакральная же сущность мифа — сущность явственно осознаваемая — провоцировала его творцов поддаться главнейшему искусу Нового времени — искусу самосакрализации. Недаром протопоп Аввакум сам написал свое Житие. Недаром Гоголь всем, кто пожелает приобрести его портрет, рекомендовал купить вместо него (а стало быть, в качестве эквивалента ему) гравюру с Рафаэлева «Преображения». В тех же случаях, когда автор соблюдал дистанцию по отношению к творимому им или заново воплощаемому мифу (т. е. избегал самосакрализации), его создание чаще всего обретало только одну — словесную — ипостась. Таковы, например, «Доктор Фаустус» или «Иосиф и его братья» Т. Манна, где миф остается в одной только плоскости словесного повествования, а значит, и не становится мифом в том полном смысле, о котором мы говорили. В фундаментальное противоречие с культурным космосом Нового времени вступает и то качество мифа, которое было обозначено как его способность служить законодательной моделью мира. Установка на воспроизведение этой модели обеспечивала «традиционным» культурам принцип «вечного возвращения», благодаря которому каждое индивидуальное событие обретало свой сущностный смысл лишь в той степени, в которой оно отождествлялось с раз навсегда предзаданной мифом универсалией[601]. Этот принцип мифа противоречит главному принципу истории, как ее понимает Новое время: он противоречит принципу новизны, которая теперь придает основной сущностный смысл событию. Подлинная сущность события теперь заключается в том, что вследствие него в мире появляется нечто, чего никогда прежде в нем не было. Принцип истории как чистой, совершеннойновости и принцип мифа как вечной универсалии — они оказываются полярно противоположны друг другу[602]. Полярность эта, конечно, чрезвычайно затрудняет взаимодействие — однако не исключает его. Более того: ретроспективный взгляд на мифологическую реальность обнаруживает в ней некую особую точку, в которой тенденция мифа и тенденция истории могут пересечься между собой. В этой точке стоит тот, кого современная наука называет культурным героем. Вчитаемся в характеристику архаического культурного героя, данную Е. М. Мелетинским: «Мифическая эпоха — это эпоха первопредметов и перводействий: первый огонь, первое копье, первый дом и т. п. <…> актам первотворения соответствуют в архаических мифологиях жившие и действовавшие в мифическое время герои, которых можно назвать первопредками-демиургами — культурными героями. <…> Первопредок-демиург — культурный герой, собственно, моделирует первобытную общину в целом, отождествляемую с „настоящими людьми“». Архаические мифы творения, «во-первых, повествуют о возникновении того, чего раньше не было <…> или что было недоступно для человека, и, во-вторых, особое внимание уделяется внесению упорядоченности в природную <…> и социальную <…> сферу, а также введению обрядов, долженствующих перманентно поддерживать установленный порядок. И вот эта самая упорядоченность специфически связана с деятельностью культурных героев. Иными словами, их специфика не сводится к добыванию культурных благ, культура включает в себя и общую упорядоченность, необходимую для нормальной жизни в равновесии с природным окружением. <…> постепенно „биография“ культурного героя сама приобретает парадигматический характер»[603]. Итак, культурный герой приносит в мир новость — и если эпоха допускает, чтобы новость случилась не однажды, не только в момент первотворения, значит, в ней есть место мифическому культурному герою, который может появиться даже тогда, когда «первые времена» уже миновали. Но совершение того, «чего раньше не было», — не единственное требование к культурному герою. Другое, не менее настоятельное, заключается в том, что принесенная им новость должна остаться в мире как норма. В соединении этих двух требований и находится точка пересечения мифа и истории. Сказанное дает основания полагать, что с возможностью появления культурного героя связан главный шанс секуляризованной культуры на обретение мифа. И думается, что Пушкин реализовал этот шанс.2
Представление о том, что Пушкин — «первый», по-школьному прочно закрепилось в нашем сознании. Он и «первый поэт» (т. е. «лучший», «главный» поэт), и «создатель русского литературного языка», и «первый реалист»…[604] При ближайшем рассмотрении это первенство оказывается, конечно, весьма сомнительным: понятно, что поэтов нельзя классифицировать по табели о рангах, понятно, что новая языковая норма вообще не формируется единолично — равно как и новое литературное направление. Но все эти разоблачения почему-то все равно не мешают где-то на уровне подсознания относиться к нему как к «первому». Вероятно, именно такое отношение заставило Гоголя сказать свою сакраментальную фразу: «Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа: это русский человек в его развитии, в каком, он, может быть, явится через двести лет»[605]. В сущности, Гоголь провозгласил здесь Пушкина нашим культурным предком, и об этом же говорил Достоевский, подхвативший гоголевские слова: «Пушкин как раз приходит в самом начале правильного самосознания нашего, едва лишь начавшегося и зародившегося в обществе нашем после целого столетия с петровской реформы, и появление его сильно способствует освещению темной дороги нашей новым направляющим светом. В этом-то смысле Пушкин есть пророчество и указание»[606]. Достоевский уже вполне отчетливо указывает на Пушкина как на того, кто принес в русский мир новость, ставшую нормой, причем нормой для всей русской культуры, а не какого-то одного лишь, частного ее проявления (хотя бы даже и такого значительного, как литература). Но почему же единодушное признание этой новости всеми, кто обращен лицом к Пушкину, до сих пор так и не помогло нам отчетливо сформулировать, в каком, собственно, отношении он был первым? А между тем ответ на этот вопрос несомненно приблизил бы нас к пониманию пушкинского мифа. И почему сам Пушкин не дал нам подсказки? Среди тех, кто оставляет свое имя в мировой истории, встречаются «люди образа» и «люди пути». Можно, не прочтя ни строчки Байрона или Гете, иметь все же достаточно выразительное представление о них, ибо в европейской памяти запечатлелись образы «мятежного Байрона» и «олимпийца Гете». Оба они, конечно, проходили через разные жизненные и творческие этапы, но итоговой доминантой в сознании современников и потомков оказался не пройденный ими путь, а именно могучий образ каждого. И это не случайность: оба сознательно работали над созданием собственного образа. Показательно, что обиталище Гете в Веймаре (хочется сказать: резиденция Гете) так легко превратилось после его смерти в музей. Уже при жизни великого старца оно было «музейным пространством», в котором все предметы внешнего мира служили выражению внутреннего мира их хозяина. Ничего подобного нельзя сказать ни об одном пушкинском жилье[607]. И Гете, и Байрон — оба они были мифотворцами, переиначившими в соответствии со своими культурными установками традиционные мифы. Святотатственно пытавшего тайны творения и провалившегося за это в тартарары Фауста народной легенды Гете привел к спасению — и монументальность его творения стала одной из важнейших характеристик его личности. Байрон оспорил библейский канон — и дерзкое богоборчество тоже осталось в памяти как одна из главнейших черт личности мятежного лорда. «Людьми образа» были и великие русские мифотворцы — протопоп Аввакум и Николай Васильевич Гоголь. При всей значимости для Аввакума христианской категории «пути», образ его остался в культурной памяти как константа, запечатленная его собственным автопортретом. И хотя в гоголевском творчестве отчетливо различимы этапы движения (классификация которых подсказана им же самим), смеющийся и плачущий Гоголь — это два лика единого образа российского Януса. «Люди образа» сами создают миф о себе и сами этот миф предъявляют. Но заметим: и олимпийство, и богоборчество, и самоличное написание собственного жития, и по житийному канону формируемое подвижничество писателя — все это проявления той или иной ипостаси самосакрализации. И еще: стремление к исчерпывающей предъявленности тоже противоречит сущностной природе мифа[608]. Ибо предъявленная часть мифа — это, пользуясь избитым сравнением, — только верхушка айсберга. Автобиографическая проза Пушкина скупа не только потому, что обстоятельства вынудили его уничтожить иные бумаги. Исчезнувшие рукописи тоже могут нести разную семантическую нагрузку. Сожжение второго тома «Мертвых душ» — жест колоссального значения, он вписан в текст жизни Гоголя. Сожженные же бумаги Пушкина составляют фигуру умолчания, в его жизненной и творческой позиции далеко не единственную: этот величайший мастер слова никогда не стремился воплотить в словесной субстанции всю полноту бытия (в отличие от Аввакума, для которого слово, в соответствии с христианской традицией, было всем, или от Гоголя, чаявшего посредством слова преобразить жизнь, которую для этого «всю, сколько ни есть», надобно было уловить, замкнуть в слове). Кристаллическая ясность пушкинского слова существует в контексте свободного дыхания мира, неизреченного и словесной фиксации не подлежащего. Глубины духовных и творческих импульсов, по Пушкину, не надлежит «пересказывать», тем более — объяснять и комментировать. Для тех же, кто стремится соприкоснуться с ними, достаточно оставить иногда ключи, указывающие на те реальности, через взаймодействие которых высекаются сокровенные смыслы (скажем, дата «19 октября», поставленная под знаменитым письмом Чаадаеву и — одновременно — под «Капитанской дочкой»). Не то у Гоголя. Начиная с «Ревизора» его тексты постоянно обрастали авторскими комментариями типа «Театрального разъезда…» или «<Авторской исповеди>», в которых автор, чрезвычайно озабоченный проблемой «организации аудитории», настойчиво разъяснял природу и назначение своих творческих усилий. Не менее активным «самокомментированием», комментированием собственной жизни занимался и другой великий русский мифотворец — протопоп Аввакум. Пушкинское же мифотворчество оказывается как бы даже нарочито непредъявленным («Шиш потомству» — XII, 336). Чего стоит один только факт неопубликованности маленьких трагедий как цикла. Вероятно, за этим стоит большая уверенность в том, что по подлинном востребовании потаенные связи выйдут на свет, ибо единожды совершенное уже не может исчезнуть. И все же было бы неверно утверждать, что установка на создание своего образа была вообще чужда Пушкину. Именно ею ознаменован, например, начальный этап его пути, совпавший с периодом байронизма. Но он остался этапом, сполна пережитым — и преодоленным. А «ролевое поведение», присущее Пушкину в Петербурге и южной ссылке, вовлекало «образ поэта» в романтическую игру с различными, иногда противоречившими друг другу «образами личности». Само несовпадение этих образов носило принципиальный характер. Подчеркивалось, «что ум высокий можно скрыть / Безумной шалости под легким покрывалом» («К Каверину», 1817–1828 — I, 27). Поэтому ретроспективный взгляд на Пушкина не уловит одного заданного им самим образа — он обнаружит калейдоскоп образов, сменяющих и оспаривающих друг друга. Вот Пушкин — «шалун-поэт»[609], «беспутная голова»[610], «бешеный сорванец»[611], «проматывающий» свой талант[612], затевающий «всякий день дуэли; слава Богу, не смертоносные»[613]. Такой образ возникает в сознании современников не спонтанно: он формируется самим Пушкиным с изрядной нарочитостью. Родителям поэт объясняет: «Без шума никто не выходил из толпы»[614], а приятелям рассказывает про себя «самые отчаянные анекдоты»[615]. С образом Пушкина-бретера соперничает образ Пушкина-Ловласа[616], вечно влюбляющегося героя переписки образованных барышень[617], и образ Пушкина-повесы, о похождениях которого на берегах Черного моря рассказываются легенды в детских и девичьих[618]. Пушкин, предающийся «площадному вольнодумству»[619], — и Пушкин, «отлично добрый господин», «обыкновенно приходящий в монастырь по воскресеньям», мирно попивающий наливку со святогорским игуменом Ионой, по словам которого, «он ни во что не мешается и живет, как красная девка»[620]. А вот ни с чем не сравнимый, почти сказочный образ Пушкина на ярмарке: «…в ситцевой красной рубашке, опоясавши голубою ленточкою, с железною в руке тростию, с предлинными черными бакинбардами, которые более походят на бороду, так же с предлинными ногтями, с которыми он очищал шкорлупу в апельсинах и ел их с большим аппетитом, я думаю, около ½ дюж.»[621]. Другой вариант этого предания: «Видели его на ярманке в красной рубашке с косым воротом (обложенным золотым газом) и в таковых же портах. Перед ним и за ним были друзья его нищие. В правой и в левой руке держал он по апельсину и так сдавил их, что сок тек и по рубашке и по порткам. Капитан-исправник заметил ему, что это неприлично для благородного человека. Вместо того чтобы послушать умных речей г. капитана-исправника, он (такой разбойник!) стал еще смеяться над ним»[622]. Этот ярмарочный Пушкин весьма далек от господина поэта, беседующего на петербургской набережной с месье Онегиным. Тут — «панталоны, фрак, жилет — / Всех этих слов по-русски нет» (VI, 16). Впрочем, Пушкин рядился и по-молдавански — в Кишиневе, и по-гречески — в Одессе. Без числа примеряются литературные маски: изгнанник Байрон и изгнанник Овидий, заточенный Андре Шенье… К собственному автопортрету прилаживается то облик Вольтера, то Робеспьера, то Наполеона, то Данте. Пушкин-монах и Пушкин-арап, Пушкин-старик и Пушкин-женщина, Пушкин-юродивый и даже Пушкин-конь — такова феерия автозарисовок[623]. Примеры можно множить, но, как видим, они никак не дают единого монументального образа, пригодного для запечатления на скрижалях истории. Ибо Пушкин не был человеком образа: он был человеком пути. Пушкинский миф не формировался как образ самого себя: он осуществлялся и складывался как результат пути, а этот результат, этот итог всегда, до последней смертной минуты, оставался открытым. Здесь не было запланированности и преднамеренности, сложившееся целое не было известно наперед. Это еще раз подтверждает родственность пушкинского мифа мифу классическому. Такой миф не только оплачен бытием: бытием оплачен и миф-образ. Но образ легко отлучаем от бытия, он потому так хорошо усваивается и запоминается, что имеет самостоятельное значение. Миф пушкинского типа можно реконструировать, пересказать на тот или иной лад — но это будет лишь сколок, лишь версия. Потому что этот миф тождествен пройденному пути, он тождествен тому фрагменту бытия, в котором осуществился, он неотлучаем от него (вспомним второе из названных нами четырех качеств мифа). Путь, пройденный Пушкиным, не воспроизводит никакой универсалии: он создает ее. И в этом смысле Пушкин является для новой русской истории классическим культурным героем. Универсалия эта была обнаружена Н. В. Беляком, и мы позволим себе изложить здесь некоторые положения его доклада, посвященного данной теме[624]. Выявленные им этапы пушкинского пути не есть этапы его творчества самого по себе или самой по себе его жизни. В них явлено то нераздельное единство жизни и творчества, к которому всегда стремились русские писатели. Итак, вот эти этапы. Первый — детство, период дотворческий, предтворческий. Второй — период поэзии, он продолжается до 1825 г., когда совершен третий принципиальный шаг: создание «Бориса Годунова», выход к драматургии. 1830 г. — следующий рубеж: написаны «Повести Белкина», освоена область прозы. В 1833 г. «Историей Пугачева» открывается поприще Пушкина-историка. Выход «Современника» в 1836 г. знаменует начало общественной деятельности Пушкина-журналиста. Последний, седьмой, этап, как и первый, лежит за пределами собственно творчества: он связан с событиями дуэльной истории 1836–1837 гг., когда Пушкин становится культурным героем в прямом смысле этого слова. Дитя — поэт — драматург — прозаик — историк — общественный деятель — культурный герой[625]. Так выглядит путь, пройденный Пушкиным, и мы постараемся показать, что по отношению к секуляризованной культуре этот путь действительно является универсалией. В работе «История и будущность теократии», имеющей знаменательный подзаголовок «Исследование всемирно-исторического пути к истинной жизни», Владимир Соловьев указал на три верховные власти, оформлением которых завершилось развитие иудейской теократии: это власть первосвященника, царя и пророка. По Соловьеву, с наступлением христианской эры эти три власти соединяются во Христе, но затем, с развитием христианской культуры, они вновь разделяются: «Каким образом и на каком основании обособилась в христианстве власть священников, обладающих по преимуществу ключами прошедшего, — усвоителей совершенной жертвы, хранителей закона Божия, свидетелей предания, оракулов „света и непорочности“; как затем привзошла в Церковь власть христианских царей, обладающих преимущественно ключами настоящего, долженствующих деятельно проводить христианские начала в действительную жизнь народов; как, наконец, появились особые ревнители совершенной жизни, абсолютного идеала — пророки, обладатели ключами будущего, сначала в образе святых подвижников, а потом и в других формах; — обо всем этом мы будем говорить во втором томе этого сочинения — в истории новозаветной»[626]. Однако второй том так и не был написан, и триада, выстроенная Соловьевым, подверглась дальнейшему культурологическому осмыслению уже помимо него. Вяч. Иванов указал на соборное взаимодействие сфер священства, державства и пророчества, связанное с взаимодействием мира и хора, пророчественной общины, орхестры[627]. Несколько переинтерпретируя предложенное Ивановым понимание орхестры, можно увидеть в ней особую, четвертую, власть: народ. И если продолжить предложенную Соловьевым соотнесенность с прошлым, настоящим и будущим, то эта четвертая власть окажется обладающей «ключами всегдашнего» — особой консервативной силой, охраняющей норму как то, что должно быть всегда. Соловьев указывал, что в теократическом государстве иерархически верховное место принадлежало пророку. Триада, следовательно, выглядела следующим образом: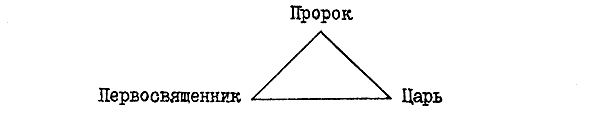 Эта иерархия менялась по мере удаления государства от теократической идеи. Понятно, что с наступлением секуляризованной эпохи она имела уже принципиально иной вид. Изменилось не только иерархическое соотношение, но и сущность самих позиций.
В 1985 г. А. М. Панченко был сделан доклад «Царь — Священник — Поэт», в котором осмыслялось значение этой триады в русских условиях[628]. В досекуляризованной Руси, трактующей идею Третьего Рима прежде всего в теократическом смысле, на вершине государственной власти стоит не одна, а две фигуры: царь и патриарх (= первосвященник). Процесс секуляризации однозначно вытесняет священническую власть на второстепенное место. В пушкинскую эпоху оформляется другая содержательная трансформация: культурный архетип пророка берет на себя поэт. Теперь триада выглядит так:
Эта иерархия менялась по мере удаления государства от теократической идеи. Понятно, что с наступлением секуляризованной эпохи она имела уже принципиально иной вид. Изменилось не только иерархическое соотношение, но и сущность самих позиций.
В 1985 г. А. М. Панченко был сделан доклад «Царь — Священник — Поэт», в котором осмыслялось значение этой триады в русских условиях[628]. В досекуляризованной Руси, трактующей идею Третьего Рима прежде всего в теократическом смысле, на вершине государственной власти стоит не одна, а две фигуры: царь и патриарх (= первосвященник). Процесс секуляризации однозначно вытесняет священническую власть на второстепенное место. В пушкинскую эпоху оформляется другая содержательная трансформация: культурный архетип пророка берет на себя поэт. Теперь триада выглядит так:
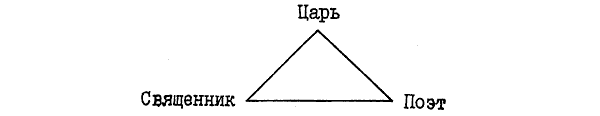 В культурной иерархии поэт начинает играть роль, которую некогда исполнял пророк, а позже первосвященник. По отношению к царю поэт, таким образом, оказывается и его «парой», и его «конкурентом».
Если к этим трем ключевым позициям добавить четвертую, подсказанную построением Вяч. Иванова, получится символическая культурологическая схема, охватывающая все ведущие силы секуляризованной русской реальности, — схема, в которой будет виден и ее общеевропейский, общехристианский генезис. Царь здесь будет обозначать фигуру, определяющую норматив государственной, политической, общественной жизни в ее настоящем; поэт — фигуру художника (в широком смысле слова), создающего то, чего раньше не было, ориентированного на новизну, т. е. на настоящее и будущее; священник — фигуру, ориентированную на настоящее через прошлое, охраняющую традицию и память; народ — всех тех, ради кого и с помощью кого осуществляются направляющие и регламентирующие функции трех первых фигур.
Изобразим эту схему графически:
В культурной иерархии поэт начинает играть роль, которую некогда исполнял пророк, а позже первосвященник. По отношению к царю поэт, таким образом, оказывается и его «парой», и его «конкурентом».
Если к этим трем ключевым позициям добавить четвертую, подсказанную построением Вяч. Иванова, получится символическая культурологическая схема, охватывающая все ведущие силы секуляризованной русской реальности, — схема, в которой будет виден и ее общеевропейский, общехристианский генезис. Царь здесь будет обозначать фигуру, определяющую норматив государственной, политической, общественной жизни в ее настоящем; поэт — фигуру художника (в широком смысле слова), создающего то, чего раньше не было, ориентированного на новизну, т. е. на настоящее и будущее; священник — фигуру, ориентированную на настоящее через прошлое, охраняющую традицию и память; народ — всех тех, ради кого и с помощью кого осуществляются направляющие и регламентирующие функции трех первых фигур.
Изобразим эту схему графически:
 Как видим, здесь возможно еще одно, центральное, место, о значении которого будет сказано чуть позже.
Жизненный (он же творческий) путь Пушкина является универсалией потому, что он проходит через все эти ключевые позиции.
Детство — это период, когда он еще слит с общим, простым, непосредственным и в этом смысле народным бытием.
Как поэт он вступает в ту самую позицию, о которой говорил А. М. Панченко.
Как драматург он полностью реализует «протеическое» начало, с помощью которого воплощаются все четыре «столпа» русской жизни[629], — и в этом отношении оказывается в центральной позиции, в которой «фокусируются» все остальные.
Как прозаик Пушкин уже в новом качестве возвращается в позицию «народного»: его «Повести Белкина», написанные «в паре» с маленькими трагедиями, в противовес последним отстаивают (и отстраивают) эпическое пространство с заданными в нем нормами простого общежития.
Как историк Пушкин выполняет функцию, генетически восходящую к священству (вспомним Пимена).
Как журналист и общественный деятель он оказывается в прямой конкуренции с царем (отношения с которым в этот период не случайно обостряются до чрезвычайности, и отнюдь не по частным причинам), ибо берет на себя функции формирования общественного сознания и общественной жизни.
И наконец, дуэльная история, прямое действование не по первому яростному импульсу, но продуманное и выверенное, осуществленное с полной ответственностью за каждый шаг[630]. Волею судеб это финал жизни, итог пути, по завершении которого Пушкин снова оказывается на позиции, обозначенной в нашей схеме как центральная, но теперь это позиция культурного героя.
Пора подытожить сказанное и попытаться определить, в каком, собственно, смысле можно говорить о Пушкине как о культурном герое.
Мистический смысл подсказывается мыслью того же Владимира Соловьева: «Триединый способ богочеловеческого соединения, заложенный в первого Адама и вполне раскрывшийся во втором (т. е. во Христе. — М. В.), заключает в себе начало трех властей, образующих в своем неслиянном и нераздельном соединении истинную теократию»[631]. Но этот смысл говорит не о порождении мифа — он свидетельствует лишь о том самом воспроизведении универсалии, о котором было сказано выше. Мы не найдем в нем перекрестья мифа и истории, которое явилось бы ответом на запрос Нового времени. Этот смысл может канонизировать Пушкина, но отнюдь не объяснить, почему он — «первый». Ибо следование Христу — норма православной жизни, а не ее новость.
Поищем поэтому ответа, лежащего в иной плоскости: в плоскости исторической.
Процесс секуляризации в России начался с раскола и завершился петровскими реформами. Надвое раскололась тогда не только Церковь: раскололся сам русский культурный космос.
Никон провел свою реформу, когда в России только что победил теократический и соборный принцип, отстаиваемый боголюбцами, ратовавшими за воцерковление всей полноты русской жизни. Реформа, поставившая под сомнение церковный обряд, вырывала важнейшее звено из единой связи, осуществлявшей сквозную включенность жизни в канон. Ускользая из-под канона, бытие неизбежно теряет свою целостность. Единожды пренебрегший соборной волей, Никон уже через несколько лет лишился того места в государственной иерархии, которое обеспечивал ему теократический принцип при вступлении на патриарший престол. А еще полвека спустя не только патриаршество оказалось упраздненным, но и сама русская соборность — не в административном, а в духовном ее смысле — стала утопией, ибо культура утратила единую скрепу, сама разделилась на «верхнюю» и «нижнюю», «церковную» и «светскую». И этот раскол культуры превзошел по своим последствиям послуживший ему основанием раскол церкви.
«Верхняя» и «нижняя», «церковная» и «светская» культура — каждая из них тяготеет к одному из полюсов, обозначенных на нашей символической схеме:
Как видим, здесь возможно еще одно, центральное, место, о значении которого будет сказано чуть позже.
Жизненный (он же творческий) путь Пушкина является универсалией потому, что он проходит через все эти ключевые позиции.
Детство — это период, когда он еще слит с общим, простым, непосредственным и в этом смысле народным бытием.
Как поэт он вступает в ту самую позицию, о которой говорил А. М. Панченко.
Как драматург он полностью реализует «протеическое» начало, с помощью которого воплощаются все четыре «столпа» русской жизни[629], — и в этом отношении оказывается в центральной позиции, в которой «фокусируются» все остальные.
Как прозаик Пушкин уже в новом качестве возвращается в позицию «народного»: его «Повести Белкина», написанные «в паре» с маленькими трагедиями, в противовес последним отстаивают (и отстраивают) эпическое пространство с заданными в нем нормами простого общежития.
Как историк Пушкин выполняет функцию, генетически восходящую к священству (вспомним Пимена).
Как журналист и общественный деятель он оказывается в прямой конкуренции с царем (отношения с которым в этот период не случайно обостряются до чрезвычайности, и отнюдь не по частным причинам), ибо берет на себя функции формирования общественного сознания и общественной жизни.
И наконец, дуэльная история, прямое действование не по первому яростному импульсу, но продуманное и выверенное, осуществленное с полной ответственностью за каждый шаг[630]. Волею судеб это финал жизни, итог пути, по завершении которого Пушкин снова оказывается на позиции, обозначенной в нашей схеме как центральная, но теперь это позиция культурного героя.
Пора подытожить сказанное и попытаться определить, в каком, собственно, смысле можно говорить о Пушкине как о культурном герое.
Мистический смысл подсказывается мыслью того же Владимира Соловьева: «Триединый способ богочеловеческого соединения, заложенный в первого Адама и вполне раскрывшийся во втором (т. е. во Христе. — М. В.), заключает в себе начало трех властей, образующих в своем неслиянном и нераздельном соединении истинную теократию»[631]. Но этот смысл говорит не о порождении мифа — он свидетельствует лишь о том самом воспроизведении универсалии, о котором было сказано выше. Мы не найдем в нем перекрестья мифа и истории, которое явилось бы ответом на запрос Нового времени. Этот смысл может канонизировать Пушкина, но отнюдь не объяснить, почему он — «первый». Ибо следование Христу — норма православной жизни, а не ее новость.
Поищем поэтому ответа, лежащего в иной плоскости: в плоскости исторической.
Процесс секуляризации в России начался с раскола и завершился петровскими реформами. Надвое раскололась тогда не только Церковь: раскололся сам русский культурный космос.
Никон провел свою реформу, когда в России только что победил теократический и соборный принцип, отстаиваемый боголюбцами, ратовавшими за воцерковление всей полноты русской жизни. Реформа, поставившая под сомнение церковный обряд, вырывала важнейшее звено из единой связи, осуществлявшей сквозную включенность жизни в канон. Ускользая из-под канона, бытие неизбежно теряет свою целостность. Единожды пренебрегший соборной волей, Никон уже через несколько лет лишился того места в государственной иерархии, которое обеспечивал ему теократический принцип при вступлении на патриарший престол. А еще полвека спустя не только патриаршество оказалось упраздненным, но и сама русская соборность — не в административном, а в духовном ее смысле — стала утопией, ибо культура утратила единую скрепу, сама разделилась на «верхнюю» и «нижнюю», «церковную» и «светскую». И этот раскол культуры превзошел по своим последствиям послуживший ему основанием раскол церкви.
«Верхняя» и «нижняя», «церковная» и «светская» культура — каждая из них тяготеет к одному из полюсов, обозначенных на нашей символической схеме:
 Каждая из позиций теперь обособилась, единой нормы не стало.
Единой скрепой своего жизненного сюжета, единой скрепой своего жизненного пути Пушкин воссоединил их заново — но уже в совершенно новом качестве. Пушкинский путь возвращает русской культуре утраченное единство, но возвращает не в результате движения вспять, а через фундаментальную историческую инверсию. Вот суть этой инверсии. В досекуляризованной Руси личность (любая личность, будь то простолюдин или царь, священник или мирянин) обымается началом родовым и соборным, существует внутри него. В результате секуляризации личность отпадает от родового и соборного, противопоставляя ему индивидуалистическую тенденцию. Пушкинский путь указывает, что личность, прошедшая через искус индивидуализма, способна восстановить родовой и соборный принцип — но теперь уже внутри себя. И если теократия обеспечивала единство культуры через церковность (и церковную соборность), а следовательно, через священство, то отныне ответственность за «исправление путей» русской жизни берет на себя литература, словесность, ибо личностью, прокладывающей путь к новой соборности, становится поэт. Именно после Пушкина возникает центральная идея классической русской литературы: идея мессианского назначения писательства.
Впрочем, эта идея в знакомом нам выражении, казалось бы, восходит отнюдь не к Пушкину, а к Гоголю. Это он с чисто религиозным пафосом провозгласил идею возделывания действительности, это он настоятельно говорил о «раздробленности» русской жизни, которую необходимо привести к единству. Заметим, что, боготворя и превознося Пушкина, Гоголь именно в этой сфере подчеркивал свой собственный приоритет, специально настаивая, что «Пушкин дан был миру на то, чтобы доказать собою, что такое сам поэт, и ничего больше». «Все сочинения его — полный арсенал орудий поэта. Ступай туда, выбирай себе всяк по руке любое и выходи с ним на битву; но сам поэт на битву с ним не вышел.» «…нельзя служить и самому искусству, — как ни прекрасно это служение, — не уразумев его цели высшей и не определив себе, зачем дано нам искусство; нельзя повторять Пушкина»[632]. Что это было? Лукавство? Попытка присвоить себе чужие свершения? То самое, знаменитое: «…однажды Гоголь переоделся Пушкиным»? Думается, что нет.
Здесь мы сталкиваемся с двумя способами свершений. Один (условно говоря, «гоголевский») состоит в том, что нечто совершается для того-то и для того-то. Так, «Ревизор», «Мертвые души» и «Переписка с друзьями» создавались, дабы облагородить и облагообразить, более того — преобразить русскую жизнь (в чем и не преуспели). Слово действительно служит здесь тем «орудием», с которым писатель выходит на битву с реальностью, оказываясь тем самым ее оппонентом, вставая в позицию визави с нею. Говоря языком современных научных описаний, писатель становится в позицию субъекта, воздействующего на объект. При этом и с самого себя он спрашивает по полной мере, вменяя себе в обязанность подвиг нравственного самосовершенствования, не осуществив который, он не будет достоин своей задачи, не сможет справиться с нею.
Другой способ («пушкинский») состоит в том, что нечто совершается, чтобы оно было. (Вспомним: «Цель поэзии — поэзия» (XIII, 167); «Ты понял жизни цель <…> для жизни ты живешь» (III, 217)). И как ни парадоксально, именно этот второй способ является реальной работой по космосоустройству — работой, подобной той, что осуществляет классический миф, никогда не имеющий экстенсивной, вовне лежащей цели, но работающий с тем, что он имманентно содержит в себе. Пушкин не возделывает действительность, ему предлежащую, — он строит ее самим собой. В этом случае нравственного соответствия личности масштабу ее задачи оказывается мало: писатель не указывает путь — он сам первым проходит его и добывает нечто, что остается отныне в наследие для всех. Это жертвенный путь личного претерпевания, когда преображение действительности должно произойти не в эстетической сфере слова (гоголевский способ), а через собственный личный опыт, позволяющий и полностью отождествиться с фрагментом мира, подлежащим преображению, и в то же время, дистанцироваться от него. Здесь воспроизводится уже не теократический, а архаический архетип поэта, который «является создателем нового способа существования. Он — автор „основного“ мифа, и его герой-жертва и герой-победитель, субъект и объект текста, жертвующий (жрец) и жертвуемый (жертва), вина и ее искупление, одним словом — Творец и тварь (эта принципиальная амбивалентность, предполагающая возможность наличия двух противоположных позиций (автора и зрителя), с которых поэт описывает мир…)»[633].
Притча о блудном сыне не случайно близка была Пушкину. Но эпоха не давала надежды на возвращение в отчий дом, ибо дом этот был уже пуст[634]. Детище секуляризованной культуры, искусившийся всеми ее искушениями, Пушкин ее же и возвращает к утраченному ею канону (герой-жертва и герой-победитель).
Именно этот путь в его полноте и универсальности мы и называем пушкинским мифом, в котором все четыре качества мифа наличествуют несомненным образом. Это миф, на всех этапах своего формирования засвидетельствованный в слове (прежде всего в художественных текстах, но также и в письмах, воспоминаниях и т. п.), но к словесному выражению не сводящийся, ибо он обеспечен и оплачен реальной жизнью, плотью и кровью. Это миф не сконструированный, не нарочно сочиненный, ибо он не был заранее предрешен, и, хотя каждый этап свершений осуществлялся в полном соответствии с устремлениями сознания и воли, весь путь в целом, судьба в целом связаны с тем таинственным истоком личности, с той сокровенной мировой волей, участие которой в жизни Пушкина безоговорочно признается всеми. И, наконец, нормативная природа этого мифа тоже несомненна: он предопределил особый статус классической русской литературы XIX в.
Однако если мы более строго отнесемся к последнему пункту, он снова вернет нас к вопросу о «пушкинском» и «гоголевском» направлении. Понятно, что в глубинном и сущностном смысле без Пушкина не состоялся бы Гоголь, который и сам это прекрасно осознавал. Но пушкинский миф (как это всегда и бывает с мифом) был принципиально трансформирован (не будем говорить: искажен) гоголевской идеей, которой, собственно, и последовала русская литература в своем дальнейшем движении.
Таким образом, перед нами встает еще одна проблема: проблема неунаследованности пушкинского мифа.
Каждая из позиций теперь обособилась, единой нормы не стало.
Единой скрепой своего жизненного сюжета, единой скрепой своего жизненного пути Пушкин воссоединил их заново — но уже в совершенно новом качестве. Пушкинский путь возвращает русской культуре утраченное единство, но возвращает не в результате движения вспять, а через фундаментальную историческую инверсию. Вот суть этой инверсии. В досекуляризованной Руси личность (любая личность, будь то простолюдин или царь, священник или мирянин) обымается началом родовым и соборным, существует внутри него. В результате секуляризации личность отпадает от родового и соборного, противопоставляя ему индивидуалистическую тенденцию. Пушкинский путь указывает, что личность, прошедшая через искус индивидуализма, способна восстановить родовой и соборный принцип — но теперь уже внутри себя. И если теократия обеспечивала единство культуры через церковность (и церковную соборность), а следовательно, через священство, то отныне ответственность за «исправление путей» русской жизни берет на себя литература, словесность, ибо личностью, прокладывающей путь к новой соборности, становится поэт. Именно после Пушкина возникает центральная идея классической русской литературы: идея мессианского назначения писательства.
Впрочем, эта идея в знакомом нам выражении, казалось бы, восходит отнюдь не к Пушкину, а к Гоголю. Это он с чисто религиозным пафосом провозгласил идею возделывания действительности, это он настоятельно говорил о «раздробленности» русской жизни, которую необходимо привести к единству. Заметим, что, боготворя и превознося Пушкина, Гоголь именно в этой сфере подчеркивал свой собственный приоритет, специально настаивая, что «Пушкин дан был миру на то, чтобы доказать собою, что такое сам поэт, и ничего больше». «Все сочинения его — полный арсенал орудий поэта. Ступай туда, выбирай себе всяк по руке любое и выходи с ним на битву; но сам поэт на битву с ним не вышел.» «…нельзя служить и самому искусству, — как ни прекрасно это служение, — не уразумев его цели высшей и не определив себе, зачем дано нам искусство; нельзя повторять Пушкина»[632]. Что это было? Лукавство? Попытка присвоить себе чужие свершения? То самое, знаменитое: «…однажды Гоголь переоделся Пушкиным»? Думается, что нет.
Здесь мы сталкиваемся с двумя способами свершений. Один (условно говоря, «гоголевский») состоит в том, что нечто совершается для того-то и для того-то. Так, «Ревизор», «Мертвые души» и «Переписка с друзьями» создавались, дабы облагородить и облагообразить, более того — преобразить русскую жизнь (в чем и не преуспели). Слово действительно служит здесь тем «орудием», с которым писатель выходит на битву с реальностью, оказываясь тем самым ее оппонентом, вставая в позицию визави с нею. Говоря языком современных научных описаний, писатель становится в позицию субъекта, воздействующего на объект. При этом и с самого себя он спрашивает по полной мере, вменяя себе в обязанность подвиг нравственного самосовершенствования, не осуществив который, он не будет достоин своей задачи, не сможет справиться с нею.
Другой способ («пушкинский») состоит в том, что нечто совершается, чтобы оно было. (Вспомним: «Цель поэзии — поэзия» (XIII, 167); «Ты понял жизни цель <…> для жизни ты живешь» (III, 217)). И как ни парадоксально, именно этот второй способ является реальной работой по космосоустройству — работой, подобной той, что осуществляет классический миф, никогда не имеющий экстенсивной, вовне лежащей цели, но работающий с тем, что он имманентно содержит в себе. Пушкин не возделывает действительность, ему предлежащую, — он строит ее самим собой. В этом случае нравственного соответствия личности масштабу ее задачи оказывается мало: писатель не указывает путь — он сам первым проходит его и добывает нечто, что остается отныне в наследие для всех. Это жертвенный путь личного претерпевания, когда преображение действительности должно произойти не в эстетической сфере слова (гоголевский способ), а через собственный личный опыт, позволяющий и полностью отождествиться с фрагментом мира, подлежащим преображению, и в то же время, дистанцироваться от него. Здесь воспроизводится уже не теократический, а архаический архетип поэта, который «является создателем нового способа существования. Он — автор „основного“ мифа, и его герой-жертва и герой-победитель, субъект и объект текста, жертвующий (жрец) и жертвуемый (жертва), вина и ее искупление, одним словом — Творец и тварь (эта принципиальная амбивалентность, предполагающая возможность наличия двух противоположных позиций (автора и зрителя), с которых поэт описывает мир…)»[633].
Притча о блудном сыне не случайно близка была Пушкину. Но эпоха не давала надежды на возвращение в отчий дом, ибо дом этот был уже пуст[634]. Детище секуляризованной культуры, искусившийся всеми ее искушениями, Пушкин ее же и возвращает к утраченному ею канону (герой-жертва и герой-победитель).
Именно этот путь в его полноте и универсальности мы и называем пушкинским мифом, в котором все четыре качества мифа наличествуют несомненным образом. Это миф, на всех этапах своего формирования засвидетельствованный в слове (прежде всего в художественных текстах, но также и в письмах, воспоминаниях и т. п.), но к словесному выражению не сводящийся, ибо он обеспечен и оплачен реальной жизнью, плотью и кровью. Это миф не сконструированный, не нарочно сочиненный, ибо он не был заранее предрешен, и, хотя каждый этап свершений осуществлялся в полном соответствии с устремлениями сознания и воли, весь путь в целом, судьба в целом связаны с тем таинственным истоком личности, с той сокровенной мировой волей, участие которой в жизни Пушкина безоговорочно признается всеми. И, наконец, нормативная природа этого мифа тоже несомненна: он предопределил особый статус классической русской литературы XIX в.
Однако если мы более строго отнесемся к последнему пункту, он снова вернет нас к вопросу о «пушкинском» и «гоголевском» направлении. Понятно, что в глубинном и сущностном смысле без Пушкина не состоялся бы Гоголь, который и сам это прекрасно осознавал. Но пушкинский миф (как это всегда и бывает с мифом) был принципиально трансформирован (не будем говорить: искажен) гоголевской идеей, которой, собственно, и последовала русская литература в своем дальнейшем движении.
Таким образом, перед нами встает еще одна проблема: проблема неунаследованности пушкинского мифа.
* * *
Что остается в истории от образа и что остается от пути? От образа — образ. Он как бы заранее «упакован», ибо создается с учетом воспринимающего его сознания современников и потомков. От пути… Подобно тому как открыты финалы маленьких трагедий и момент катарсиса вынесен за пределы звучащего текста, открыт и вопрос о конечном результате самого жизненного пути, пройденного Пушкиным. Ответ на этот вопрос должен быть дан не идущим — он должен прийти из мира. Именно в этой кардинальнейшей точке как раз и исключается всяческое самокомментирование. Пожалуй, бахтинские категории «диалога» и «полифонии» в первую очередь должны были бы быть применены не к Достоевскому, а к Пушкину. Не только благодаря таким его созданиям, как «Медный всадник», включающий в себя целую стихию «чужих голосов», но прежде всего потому, что само предъявление содеянного предоставлено «другому» или «другим», которым, в отличие от Гоголя, Пушкин ничего не предписывал, а, напротив того, оставил полную подлинную свободу. Свобода же, как известно, — дар, которым мы хуже всего умеем пользоваться.Список иллюстраций
С. 5. Портрет Ганнибала в черновике повести «Царский арап» («Арап Петра Великого»). С. 54. Автопортрет Пушкина в образе арапчонка. С. 66. Автоиллюстрация в беловике поэмы «Домик в Коломне». С. 86. Фрагменты гравюры А. Шхонебека и аллегорической картины начала XVIII в. с изображениями арапа. С. 90. Неизвестный художник. Портрет И. И. Меллера-Закомельского после «реставрации» (Всероссийский музей А. С. Пушкина. Фотография 1960-х гг.). С. 91. Неизвестный художник. Портрет И. И. Меллера-Закомельского до «реставрации» (Пушкин. Сочинения / Под ред. С. А. Венгерова. СПб.: Изд-во Брокгауза-Ефрона, 1907. Т. I. С. 17). С. 104. А. Шхонебек. Гравюра 1705 г. (Российская национальная библиотека). С. 106. Неизвестный художник. Аллегорическая картина начала XVIII в. (Государственный Русский музей). С. 113. Пушкин. Автопортреты. С. 134. Автопортрет Пушкина, стилизованный под Данте. С. 148. Диплом «Ордена рогоносцев». С. 168. Автограф стихотворения «Подъезжая под Ижоры…» С. 174. Автограф стихотворения «Арион». С. 192. Помета Кам.<енный> остр<ов> под автографом стихотворения «(Подражание италиянскому)». С. 216. Рисунки во Второй масонской тетради Пушкина. С. 241. Портрет Н. Н. Пушкиной в Первой арзумской тетради Пушкина. С. 257. Рисунки в черновике стихотворения «Андрей Шенье в темнице» («Андрей Шенье»). С. 267. Пистолеты (рисунки Пушкина). С. 277. Записи на книге Вальтера Скотта «Ивангое, или Возвращение из Крестовых походов» (СПб., 1826), принадлежавшей Н. А. Раменскому. С. 290. Автоиллюстрация в беловике «Сказки о попе и работнике его Балде». С. 296. Рисунки, связанные с замыслом повести «Барышня-крестьянка». С. 311, 314–319, 323, 325, 326 — рисунки Резо Габриадзе. С. 329. Автограф стихотворения «Напрасно я бегу к Сионским высотам…»
Содержание
I. Мифология родословия В. В. Набоков Пушкин и Ганнибал. Версия комментатора (Вступительная статья и публикация В. П. Старка, перевод с английского Г. М. Дашевского, примечания Н. К. Телетовой) … 5 В. С. Листов Легенда о черном предке … 54 B. П. Старк Пушкин и семейные предания его рода … 66 Н. К. Телетова О мнимом и подлинном изображении А. П. Ганнибала … 34 II. Творчество. Биография. Судьба О. С. Муравьева Образ Пушкина: исторические метаморфозы … 113 Г. Е. Потапова «Всё приятели кричали, кричали…» (Литературная репутация Пушкина и эволюция представлений о славе в 1820–1830-е годы) … 134 C. А. Фомичев Пушкин и масоны … 148 М. В. Строганов «…Вампиром именован…» … 168 И. В. Немировский Декабрист или сервилист? (Биографический контекст стихотворения «Арион») … 174 В. С. Листов Миф об «островном пророчестве» в творческом сознании Пушкина … 192 Р. В. Иезуитова «Утаенная любовь» Пушкина … 216 Я. Л. Левковин Жена поэта … 241 И. С. Чистова К статье С. А. Соболевского «Таинственные приметы в жизни Пушкина» … 257 III. XX век: ракурсы и варианты Я. Л. Левкович Кольчуга Дантеса … 267 Т. И. Краснобородько История одной мистификации (Мнимые пушкинские записи на книге Вальтера Скотта «Айвенго») … 277 Н. И. Михайлова «Шоколад русских поэтов — Пушкин» … 290 Возвращение в мир молвы («Барышня-крестьянка» в народных пересказах) (Публикация О. Р. Николаева) … 296 А. Битов, Р. Габриадзе Пушкин за границей (фрагменты) … 311 Заключение М. Н. Виролайнен Культурный герой Нового времени … 329 Список иллюстраций … 350
Примечания
1
Nabokov V. Pushkin and Gannibal // Encounter. 1962. № 106. P. 11–26. (обратно)2
Eugene Onegin: A Novel in Verse by Alexandr Pushkin / Translated from the Russian, with Commentary, by Vladimir Nabokov in four volumes. New York, 1964. (обратно)3
Набоков В. Переписка с сестрой. Ardis Ann Arbor, 1985. С. 85. (обратно)4
Набоков В. Другие берега. Ardis Ann Arbor, 1978. С. 57. (обратно)5
Оно было установлено уже после смерти Набокова (см.: Телетова Н. К. К «Немецкой биографии» А. П. Ганнибала // Пушкин: Исследования и материалы. Л., 1982. Т. X. С. 272–285). (обратно)6
См. статью Н. К. Телетовой «О мнимом и подлинном изображении А. П. Ганнибала» в настоящем сборнике. Историю вопроса см.: Александрова Т. Г. О портрете А. П. Ганнибала // Из пушкинианы Всероссийского музея А. С. Пушкина: Сб. науч. статей. Л., 1988. С. 85–93. (обратно)7
Набоков В. Другие берега. С. 61. (обратно)8
См. примеч. 15 на с. 42 настоящего сборника. (обратно)9
Набоков В. Другие берега. С. 43. (обратно)10
Johnson S. The Prince of Abyssinia. A tale. 2 vol. London, 1759; pyc. пер.: Расселас, принц абиссинский: Восточная повесть / Сочинение славного доктора Джонсона; перевод с английского: В 2 т. М., 1795; фр. пер.: Histoire de Rasselas, prince d’Abyssinie, par M. Johnson (sic) <…> et traduite de l’anglois par M-me B***. Amsterdam; Paris, 1760. Последующие переводы на французский язык вышли в 1803, 1817, 1818, 1819, 1820, 1822, 1827 гг. и т. д. См.: The British Library General Catalogue of Printed Books. London; München; New York; Paris, 1983. Vol. Johns-jones. P. 90–93. (обратно)11
Ф. Б. <Булгарин Ф. B.>. Второе письмо из Карлова на Каменный остров // Сев. пчела. 1830. 7 авг. № 94. (обратно)12
Johnson S. Prinz von Abyssinien: Eine Erzählung. Meinz; Frankfurt, 1785. (обратно)13
См.: Модзалевский Б. Л. Библиотека А. С. Пушкина. СПб., 1910. С. 147. № 567. (обратно)14
Набоков В. Стихотворения и поэмы. М., 1991. С. 340. (обратно)15
Над процитированной строфой L главы первой «Евгения Онегина» Набоков поставил имя «Абрам Ганнибал». Очевидно, Набоков хотел представить этот текст как монолог прадеда поэта, чему основание дают слова «Африки моей» — родины Ганнибала, но не Пушкина. (обратно)16
Набоков приводит далее текст 11-го пушкинского примечания к строфе L главы первой «Евгения Онегина», составленный в сентябре — октябре 1824 г. и помещенный в двух отдельных изданиях этой главы 1825 и 1829 гг. В издании «Евгения Онегина» 1833 г. приводится только первая фраза этого примечания: «Автор, со стороны матери, происхождения африканского», а издание 1837 г. просто отсылает читателя к первой публикации главы: «См. первое издание „Евгения Онегина“». (обратно)17
«Немецкую биографию» А. П. Ганнибала (вернее, копию с нее) см.: Рукою Пушкина: Несобранные и неопубликованные тексты. М.; Л., 1935. (немецкий текст — с. 43–49; русский его перевод — с. 50–56. В дальнейшем, при цитировании этого перевода, выполненного Т. Г. Зенгер-Цявловской в него вносятся некоторые коррективы). (обратно)18
Французская форма английского и немецкого «Hannibal» и русского «Ганнибал» и «Ганибал»; мы обязаны все время помнить, что классическое образование нашего поэта полностью зависело от французских переводов древних авторов и французских же комментариев к ним. (Все подстрочные примечания в статье принадлежат В. Набокову. — Ред.) (обратно)19
В своем переводе к пушкинскому указанию о смерти А. П. Ганнибала «на 92 году от рождения» Набоков, сомневавшийся в правильности расчета поэтом возраста своего прадеда, добавляет несомненную дату его смерти: «в 1781 году». Указание Пушкина расходится с известным ему источником, т. е. «Немецкой биографией», где утверждается, что А. П. Ганнибал умер на 93-м году. Обе версии ошибочны (см. примеч. 636). (обратно)20
Расположение двух последних абзацев соответствует отдельному изданию главы первой «Евгения Онегина» 1829 г. В издании 1825 г. эти абзацы шли в обратном порядке. Заключительную фразу второго издания (которая в 1825 г. была помещена в сноске): «Мы со временем надеемся издать полную его биографию» — Набоков опускает вовсе. (обратно)21
Сын Петра Пушкина Александр (умер в 1727) был отцом Льва (умер в 1790), который был отцом Сергея (1770–1848)[635], женившегося в 1796 г. на Надежде Ганнибал (1775–1836) и ставшего отцом поэта Александра Пушкина (1799–1837). Младший сын Петра Пушкина, Федор (умер в 1728), был отцом Алексея (умер в 1777), отца Марии (умерла в 1818). Мария Пушкина вышла за Осипа Ганнибала (1744–1806), третьего сына Авраама Петрова, он же Ганнибал, обрусевшего африканца (1693?—1781)[636]. Дочь Марии и Осипа, Надежда, вышла за Сергея Пушкина (троюродного брата ее матери) и стала матерью нашего поэта. У Абрама (Аврама, Авраама, Ибрагима) Петровича или Петрова (отчество, данное при крещении) Аннибала, или Ганнибала, или Ганибала (взятая им фамилия), далее именуемого «Абрам Ганнибал», было одиннадцать детей от второй жены, Христины Регины фон(?) Шеберг или Шеберх (родилась в 1706 г.,[637] умерла на два месяца раньше мужа), в том числе: Иван Ганнибал (1731?—1801), видный генерал[638]; Петр Ганнибал (1742–1825?), артиллерийский офицер и помещик[639]; Осип Ганнибал (1744–1806), тоже военный в своем роде, дед нашего поэта с материнской стороны (в 1773 г. он женился на Марии Пушкиной, троюродной сестре Сергея Пушкина)[640], и два Ганнибала понезаметнее — Исаак (1747–1804) и Яков (родился в 1749). Нижеследующие заметки в той мере, в какой речь идет о моих собственных изысканиях, посвящены прежде всего происхождению Абрама Ганнибала и первой трети его жизни. Григорий Александрович, по прозванию Пушка, принадлежит седьмому колену от основателя рода Ратши. Константин Григорьевич — пятый и последний его сын. За ним следуют прямые предки поэта: Гаврила, Иван, Михаил, Семен, Тимофей, Петр, Петр, Петр (1644–1692, шестнадцатое колено от Ратши); последний был погребен в соборе Вознесения в Москве (где позже венчался А. С. Пушкин). Два его сына станут дедом и прадедом родителей поэта. Это Александр Петрович (родился после 1686 и умер между 1725 и 1728), дед Сергея Львовича, и Федор Петрович (умер в 1727 или 1728), прадед Надежды Осиповны. (обратно)22
«Прошение» — без начала и конца — впервые было опубликовано А. П. Барсуковым (Русский Архив. 1891. Т. 2. С. 101–102) с комментарием П. И. Бартенева (ныне хранится: Российский Государственный исторический архив, кн. 39 решенных дел Герольдмейстерской конторы 1781 г., д. 5, л. 39–40). Копия «Прошения», выполненная в 1837 г., уже после смерти Пушкина (опубл.: Рукою Пушкина. С. 864–865), хранилась в 1935 г., по утверждению публикатора Н. Г. Зенгера, в Государственной библиотеке им. В. И. Ленина (тетрадь № 2395, л. 412–415). Ныне в Институте русской литературы РАН хранится другая, первая по времени возникновения, копия «Прошения», известная Пушкину (ПД, оп. 3, № 161). Ее Н. Г. Зенгер относит к той же тетради № 2395 (л. 506–509). Эта копия, не имеющая первых строк обращения к императрице Елизавете Петровне, опубл.: Телетова Н. К. Забытые родственные связи А. С. Пушкина. С. 170–171. (обратно)23
Речь идет о копии «Немецкой биографии», выполненной для Пушкина. Она имеет жандармскую нумерацию — л. 40–45, которую и указывает Набоков. Этот документ хранился у сына поэта, А. А. Пушкина, передавшего его в 1880 г. (наряду с другими материалами личного архива отца) в Румянцевский музей Москвы, где рукопись получила № 2387А. С июля 1948 г. хранится в Институте русской литературы РАН (ПД, оп. 3, № 163). Имеет небольшие искажения, допущенные копиистом. Известен и хранящийся там же подлинник «Немецкой биографии» (ПД, оп. 24, № 19), присланный в 1899 г. ее владельцем Владимиром Константиновичем Лелонгом академику и непременному секретарю Комиссии по устройству чествования Пушкина Н. Ф. Дубровину. От последнего рукопись «Немецкой биографии» перешла в ведение Б. Л. Модзалевского и вошла в основной фонд собрания Института русской литературы — с самого его основания. (обратно)24
Биография составлялась не ранее 1786 г., указанного на филиграни бумаги. (обратно)25
Автором «Немецкой биографии» был Адам Карпович (Адольф Рейнхольд) Роткирх (1746–1797) — муж Софии Абрамовны, урожденной Ганнибал, зять А. П. Ганнибала, уже умершего ко времени составления его биографии. А. К. Роткирх, уроженец эстляндской Нарвы, при Павле I был судьей города Софии (близ Царского Села). Авторство Роткирха указано его внуком Владимиром Ивановичем Роткирхом на титульном листе подлинника «Немецкой биографии». (обратно)26
Речь идет о «Сокращенном переводе Немецкой биографии» Ганнибала (ПД, оп. 1, № 1195); он занимает пять исписанных листов (десять страниц) с жандармской нумерацией, которую и указывает Набоков, сделанной в разбивку: 28, 57, 29, 56, 58; архивная нумерация листов: 1 (чистый), 2, 3, 4, 5, 6. Опубл. под названием «Биография Ганнибала»: XII, 434–437. (обратно)27
Жизнеописание, краткие сведения о чьей-то жизни (лат.). (обратно)28
В письме от 11 августа 1825 г. Пушкин писал своей деревенской соседке, Прасковье Осиповой: «Я рассчитываю еще повидать моего двоюродного дедушку, — старого арапа, который, как я полагаю, не сегодня завтра умрет, а между тем мне необходимо раздобыть от него записки, касающиеся моего прадеда». Он сумел достать только это? По всей вероятности, Пушкин в 1825 г. достал как «Воспоминания» П. А. Ганнибала, так и копию «Немецкой биографии», сделанную с неизвестного ныне экземпляра ее, который принадлежал Петру Абрамовичу. Филиграни на бумаге копии («Rail DH» в правой части листа) позволяют датировать эту бумагу 1824 г. (см.: Клепиков С. А. Филиграни и штемпели на бумаге русского и иностранного производства XVII–XX веков. М., 1959. С. 92. № 1339). Таким образом, можно утверждать, что копия «Немецкой биографии» изготовлялась не ранее 1824 г., а скорее всего в 1825 г., на который указывает письмо Пушкина Осиповой от 11 августа 1825 г. Несомненно и то, что неразборчивый почерк документа вынудил Пушкина искать помощи хотя бы для частичного перевода биографии прадеда, который и был им записан под диктовку скорее всего самого Петра Абрамовича, прекрасно владевшего немецким языком, на бумаге с филигранью в правой стороне листа: «AF Rail», не имеющей, к сожалению, точной атрибуции; указывается лишь, что это 1820-е годы (см.: Клепиков С. А. Филиграни и штемпели. С. 76, № 891). (обратно)29
Это так называемые «Воспоминания» П. А. Ганнибала (ПД, оп. 3, № 162), ко времени написания которых он, однако, уже переселился из Петровского в другое свое имение — Сафонтьево, верстах в шестидесяти от Михайловского (см. об этом публикацию Г. Ф. Симакиной, указанную в примеч. 639). А. Г. Гордин на основе документов (Государственный архив Псковской области, ф. 39, оп. 1, д. 500, л. 78 об. и др.) доказывает, что переселение произошло в 1819 г. (см.: Гордин А. М. Пушкин в Михайловском. Л., 1989. С. 46 и 409). «Воспоминания» составлялись — видимо, по просьбе Пушкина — в самые последние годы жизни Ганнибала. Характер изложения материала явно свидетельствует об угасании умственных способностей автора. (Полный текст «Воспоминаний» опубл.: Телетова Н. К. Забытые родственные связи А. С. Пушкина. С. 171–173). (обратно)30
Лист 28 жандармской нумерации соответствует второму листу архивной; соответственно далее: 57-й — третьему листу, 29-й — четвертому, 56-й — пятому, 58-й — шестому (см. примеч. 26). Однако Набоков, не беря в расчет чистый первый лист, передвигает нумерацию. Сохраняем его обозначения: 28-й — первый, 57-й — второй, 29-й — третий, 56-й — четвертый, 58-й — пятый. (обратно)31
Расшифровка Набоковым подсчетов на полях «Сокращенного перевода Немецкой биографии» нуждается в коррекции. Пушкин производит их действительно, чтобы разобраться в путанице роткирховых дат. Последний расчет на л. 4: — перечеркнут. Поскольку Роткирх утверждает, что Абрам Петрович умер на 93-м году в 1781 г., то датой его рождения как будто следует считать 1689 г. Это никак не согласуется с тремя опорными возрастными данными биографии прадеда, Пушкину известными. Первая из них названа им в примечаниях к «Евгению Онегину»: «18 лет от роду Аннибал послан был царем во Францию». Но Абрам Петрович начал свое обучение во Франции летом 1717 г., и если 18-ти лет оказался в Париже, то получалось, что он родился не в 1689, а в 1699 г., как значится в подсчете. 9 лет — вторая возрастная опора: ровно девяти лет Абрам был крещен в Вильне. И Пушкин добавляет эту девятку к числу 1699, получая «08», т. е. 1708 г. — дату крещения, расходящуюся с той, что указана в «Немецкой биографии»: «Приблизительно в 1707 году был он в Польше окрещен». Рядом с подсчетом на л. 4 зачеркнутая запись: «26 лет 25». Исходя из того что Абрам родился предположительно в 1699 г., в год смерти Петра («<17>25») ему должно было быть 26 лет. Но это противоречит известному факту: Абраму было 28, когда умер Петр. Поэтому Пушкин перечеркнул и эти цифры.
Примечательно, что в романе об арапе Ибрагиме Пушкин указывает его возраст в пору влюбленности в графиню — 27 лет. Этот эпизод относится предположительно ко времени около 1721 или 1722 г. (за год до возврата в Россию, на 4–5-м году обучения). Вместе с тем в 1824 г. Пушкин в примечании к «Евгению Онегину» писал о том, что в 1717 г. прадеду его было 18 лет. Выпутаться из сведений «Немецкой биографии» Роткирха он не мог.
Рассмотрим еще одну табличку пушкинских расчетов на полях л. 1 «Сокращенного перевода»: 1725.
— перечеркнут. Поскольку Роткирх утверждает, что Абрам Петрович умер на 93-м году в 1781 г., то датой его рождения как будто следует считать 1689 г. Это никак не согласуется с тремя опорными возрастными данными биографии прадеда, Пушкину известными. Первая из них названа им в примечаниях к «Евгению Онегину»: «18 лет от роду Аннибал послан был царем во Францию». Но Абрам Петрович начал свое обучение во Франции летом 1717 г., и если 18-ти лет оказался в Париже, то получалось, что он родился не в 1689, а в 1699 г., как значится в подсчете. 9 лет — вторая возрастная опора: ровно девяти лет Абрам был крещен в Вильне. И Пушкин добавляет эту девятку к числу 1699, получая «08», т. е. 1708 г. — дату крещения, расходящуюся с той, что указана в «Немецкой биографии»: «Приблизительно в 1707 году был он в Польше окрещен». Рядом с подсчетом на л. 4 зачеркнутая запись: «26 лет 25». Исходя из того что Абрам родился предположительно в 1699 г., в год смерти Петра («<17>25») ему должно было быть 26 лет. Но это противоречит известному факту: Абраму было 28, когда умер Петр. Поэтому Пушкин перечеркнул и эти цифры.
Примечательно, что в романе об арапе Ибрагиме Пушкин указывает его возраст в пору влюбленности в графиню — 27 лет. Этот эпизод относится предположительно ко времени около 1721 или 1722 г. (за год до возврата в Россию, на 4–5-м году обучения). Вместе с тем в 1824 г. Пушкин в примечании к «Евгению Онегину» писал о том, что в 1717 г. прадеду его было 18 лет. Выпутаться из сведений «Немецкой биографии» Роткирха он не мог.
Рассмотрим еще одну табличку пушкинских расчетов на полях л. 1 «Сокращенного перевода»: 1725.
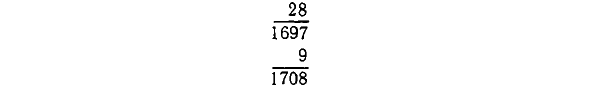 Три цифры в ней ясны: 9 — возраст, в котором Абрам был крещен: 1708 — предполагаемая дата крещения, фигурирующая в подсчете на л. 4 (1708 — отнюдь не сумма двух предыдущих цифр), и, наконец, 1725 — год смерти Петра I. Выясняется, что Пушкин знал возраст прадеда к моменту смерти Петра — 28 лет. Это третья возрастная веха в биографии прадеда. Но он ошибся на полгода: Абраму было 28 с половиной лет, когда не стало Петра I, и родился он в 1696, а не в 1697 г., как получалось у Пушкина. Но почему он не суммировал 1697 и 9? Потому что цифра 1706 его так же мало устраивала, как 1708, хотя он и перенес цифру 1708 из последнего подсчета в итог первого. Дело в том, что из отлично известного ему труда И. И. Голикова «Деяния Петра Великого…» он знал, что Август II (и его супруга, якобы крестная мать Абрама) ни в 1708, ни в 1705 г. не имели встреч с Петром I, стало быть, ни та, ни другая даты не годились как дата крещения его прадеда. Откуда он знал три вехи в жизни Ганнибала — неизвестно, но две из них совершенно верны: это 9-летний возраст Абрама в момент крещения и 28-летний — в год смерти Петра I.
Таким образом, можно утверждать, что Ганнибал родился 13 июля 1696 г. (по его подсчетам); крещен был 13 июля 1705 г. — девяти лет; в 1717 г. 9 июня, почти двадцати одного года, оставлен для обучения в Париже; двадцати восьми с половиной лет потерял своего крестного отца и покровителя — в январе 1725 г.
(обратно)
Три цифры в ней ясны: 9 — возраст, в котором Абрам был крещен: 1708 — предполагаемая дата крещения, фигурирующая в подсчете на л. 4 (1708 — отнюдь не сумма двух предыдущих цифр), и, наконец, 1725 — год смерти Петра I. Выясняется, что Пушкин знал возраст прадеда к моменту смерти Петра — 28 лет. Это третья возрастная веха в биографии прадеда. Но он ошибся на полгода: Абраму было 28 с половиной лет, когда не стало Петра I, и родился он в 1696, а не в 1697 г., как получалось у Пушкина. Но почему он не суммировал 1697 и 9? Потому что цифра 1706 его так же мало устраивала, как 1708, хотя он и перенес цифру 1708 из последнего подсчета в итог первого. Дело в том, что из отлично известного ему труда И. И. Голикова «Деяния Петра Великого…» он знал, что Август II (и его супруга, якобы крестная мать Абрама) ни в 1708, ни в 1705 г. не имели встреч с Петром I, стало быть, ни та, ни другая даты не годились как дата крещения его прадеда. Откуда он знал три вехи в жизни Ганнибала — неизвестно, но две из них совершенно верны: это 9-летний возраст Абрама в момент крещения и 28-летний — в год смерти Петра I.
Таким образом, можно утверждать, что Ганнибал родился 13 июля 1696 г. (по его подсчетам); крещен был 13 июля 1705 г. — девяти лет; в 1717 г. 9 июня, почти двадцати одного года, оставлен для обучения в Париже; двадцати восьми с половиной лет потерял своего крестного отца и покровителя — в январе 1725 г.
(обратно)
32
Негр, африканский чернокожий. (обратно)33
«Авраам Петрович Ганнибал был <…> по рождению африканский арап из Абиссинии» (нем.). Рукою Пушкина. С. 50. (обратно)34
Теперь известного как «Арап Петра Великого». (обратно)35
Вульф А. Н. Дневники: (Любовный быт пушкинской эпохи). М., 1929. С. 136. (обратно)36
Кавказское выражение, обозначающее заложника. (обратно)37
Текст приводится по упомянутым выше «Воспоминаниям» П. А. Ганнибала. (обратно)38
Рукою Пушкина. С. 50. (обратно)39
Лагона, Лагоно или Лагон: «в городе Лагоне» — это местный падеж, по которому в русском языке понять окончание именительного падежа нельзя. (обратно)40
Т. е. записанное алфавитом, повсеместно принятым в географической номенклатуре. Дело не в индивидуальных ошибках или транслитерационных предпочтениях (латинских, испанских, итальянских, немецких, английских, французских и т. д.) в рамках этого алфавита и не в склонности знатоков того или иного языка разражаться вихрем надстрочных знаков. Автор этих строк горячо надеется, что кириллица, наравне с еще более дикими буквами азиатских языков, в ближайшее время будет изъята из употребления раз и навсегда. (обратно)41
Анучин Д. Н. А. С. Пушкин: (Антропологический эскиз). М., 1899. (обратно)42
См.: Abbadie A. d’, Paulitiscke P. Des Conquêtes faites en Abyssinie en XVI siècle par l’Imam Muhhammad Ahmad dit Gragne; version française de la chronique arabe Futûh el-Hábacha. Paris, 1898. (обратно)43
См.: Salt H. 1) «Mr. Salt’s Narrative». In Valentia, George, Viscount: Voyages and Travels to India, Ceylon, the Red Sea, Abyssinia and Egypt. London, 1811; Vol. 1–4; 2) A Voyage to Abyssinia and Travels into the Interior of That Country, Executed under the Order of the British Government in the Years 1809 and 1810. London, 1814. Другое издание последней из названных книг (Philadelphia, 1816) содержит карту Абиссинии. (обратно)44
См.: Poncet Ch. Relation abrégée du voyage que M. Charles Poncet fit en Ethiopie en 1698, 1699 et 1700 // Lettres édifiantes et curieuses, écrites des missions étrangères, par quelques missionaires de la Cie de Jésus. Paris, 1713. Vol. 4. P. 251–443. (обратно)45
См.: Kammerer A. La mer Rouge, l’Abyssinie et l’Arabie depuis l’antiquité. Cairo, 1952. Vol. 3. (обратно)46
См.: Lefebvre Т., Petit A., Quartin-Dillon R., Vignaud. Voyage en Abyssinie exécuté pendant les années 1839, 1840, 1841, 1842, 1843. Paris, 1845–1851. Vol. 1–6. (обратно)47
См.: Bent J.-T. The Sacred City of the Ethiopians, Being a Record of Travel and Research in Abyssinia in 1893. London, 1893. Maps. (обратно)48
См.: Salt H. A Voyage to Abyssinia… P. 248. «Рас», как ниже объясняет Набоков, на гизском языке означает «глава». (обратно)49
«Абиссинский князь»: «История Расселаса, князя абиссинского» (англ.). «Расселас» имелся в библиотеке Пушкина (Ballantyne’s Novelist Library, vol. V. London, 1823 (См.: Модзалевский Б. Л. Библиотека А. С. Пушкина. СПб., 1910. С. 147. № 567), в этом же томе — «Сентиментальное путешествие» Стерна и «Векфильдский викарий» Голдсмита), но Пушкин был не так силен в английском, чтобы его прочесть (Страницы книги не нуждались в разрезании. Заметок Пушкина на них нет.). Если он и знал повесть Джонсона, а это, видимо, было так, то во французском переводе, которых было несколько. В 1795 г. в Москве вышел русский перевод, но хорошее русское общество обыкновенно пренебрегало скверными русскими переделками и предпочитало более гладкие, но едва ли более точные французские версии. (обратно)50
См.: Le Grand (Legrand) J. Voyage historique d’Abyssinie, du R. P. Jérôme Lobo de la Campagnie du Jésus, traduite du Portugais. Paris and La Haye, 1728. Перевод на английский язык: A voyage to Abyssinia… From the French by S. Johnson, 1735. (обратно)51
См.: Gobat S. Journal of Three Years’ Residence in Abyssinia. New York, 1851. Map. (обратно)52
См. примеч. 43. (обратно)53
Это ошибочное название или Лагамы, или Лехамы, небольшого округа в Андорте, упомянутого Лефевром. Естественно, в мире есть еще одна «Лагайна», а именно настоящая резиденция королей Гавайских островов. (обратно)54
Salt H. «Mr. Salt’s Narrative». In Valentia, George, Viscount: Voyages and Travels to India, Ceylon, the Red Sea, Abyssinia and Egypt. Vol. 3. P. 61. (обратно)55
У Пушкина в 11-м примечании к строфе L главы первой «Евгения Онегина»: Лагань. (обратно)56
Рукою Пушкина. С. 50. (обратно)57
В турецком языке, который Ганнибал мог некогда понимать, «lohana» означает «капуста», «lahin» — «нота», «тон», «мелодия», «модуляция», «неправильное произношение», а «layan» — «мягкость», «нежность», Zäartlichkeit (нежность (нем.)). В северо-восточных языках корень lah ассоциируется с «распущенной женщиной» (ср. русское «лоханка» — неряха, псковский диалект, и «лахудра» — распутная женщина). (обратно)58
См.: Basset R. Etudes sur l’histoire d’Ethiopie // Journal asiatique. Paris, 1881. № 17–18. В № 18 (с. 293–324) содержится «Эфиопская хроника» («Chronique éthiopienne») — французский перевод хроники правления Иисуса I, начатой императорским секретарем Хауария Крестос (французская транслитерация) и продолженной после его гибели в 1698 г. следующим секретарем — За-Уальдом. (обратно)59
См: Bruce J. Travels to Discover the Source of the Nile in the Years 1768, 1769, 1771, 1772 and 1773. Edinburgh, 1790. Vol. 2. P. 549. (обратно)60
Ibid. Vol. 3. P. 84, 88. (обратно)61
Starkie E. Arthur Rimbaud in Abyssinia. Oxford. 1937. (обратно)62
Артюр Рембо (1854–1891) — французский поэт; примерно с 1880 г. оставил поэзию и занялся в Эфиопии торговлей людьми. (обратно)63
«дети-эфиопы» (франц.). (обратно)64
«король Мекки» (франц.). (обратно)65
Le Grand (Legrand) J. Voyage historique d’Abyssinie… P. 431, 417–418. (обратно)66
«юного эфиопского раба» (франц.). (обратно)67
«маленький раб» (франц.). (обратно)68
Bruce J. Travels… Vol. 2. P. 488–489. (обратно)69
Рукою Пушкина. С. 44. (обратно)70
«недолгое время спустя» (нем.). (обратно)71
Ибрагим — Абрам прибыл в Константинополь (Стамбул) весной 1703 г., а в июле следующего года, до 21 числа, он и еще два мальчика были отосланы в Россию. 21 июля Савва Лукич Владиславич (с 1711 г. граф Рагузинский, 1668–1738) сообщает об этом Спафарию, а Спафарий 15 ноября пишет Ф. А. Головину о прибытии мальчиков в Москву 13 ноября 1704 г. Трех арапчат, таким образом, отослали в июле 1704 г. из Константинополя, но, по свидетельству Спафария, везли необычным путем, т. е. не морем до Азова, а на север, через Болгарию и Мунтению (восточная часть современной Румынии) (Рус. Арх. 1867. С. 308–309). (обратно)72
В немецком тексте: Seralio; Набоков пишет на итальянский манер: seraglio. Сераль — жилище знатного турка, где в одной части дома живут мужчины, а в другой находится гарем. (обратно)73
Далее Набоков пропускает часть фразы: «заприметил нескольких лучших, для его цели пригодных» (Рукою Пушкина. С. 51). (обратно)74
Рукою Пушкина. С. 51. (обратно)75
Все операции по умыканию арапчат совершал С. Л. Владиславич-Рагузинский; он же устраивал их отправку в Россию в сопровождении верного человека (см. уже упоминавшееся в примеч. 71 письмо Спафария Головину от 15 ноября 1704 г.). Возможно, что им был Щепотьев; это имя Пушкин записывает без пояснений на полях «Сокращенного перевода Немецкой биографии»; может быть, оно было сообщено ему переводчиком текста. (обратно)76
Письмо это отправлено кабинет-секретарю Алексею Васильевичу Макарову 5 марта 1722 (не 1721) г. Опубл.: Ганнибал А. С. Ганнибалы, новые данные для их биографий // Пушкин и его современники: Материалы и исследования. СПб., 1913. Т. V. Вып. XVII–XVIII. С. 211. (обратно)77
Во Франции Ганнибал, по всей видимости, обучался сначала в артиллерийской школе города Меца, а с 1720 г. — в Ла Фере (см. примеч. 97). (обратно)78
В посвящении двухтомного учебника Екатерине I (см. примеч. 636) нет ни указания на 22 года служения, ни слов о жизни «при доме» государя. Ошибка Набокова восходит к кн.: Вегнер М. Предки Пушкина. М., 1937. С. 36. (обратно)79
В Москву привезли трех арапчат (один вскоре умер), из них старший, крещенный Петром I с именем Алексей Петров, стал гобоистом Преображенского полка. Его судьба прослеживается только до 1716 г. По свидетельству Спафария, встретившего «поезд» из Константинополя в Москве (ср. также: Российский Государственный архив древних актов, ф. 248, оп. 3, д. 43), этот Алексей приходился Абраму старшим братом. Исчезновение Алексея из биографии Абрама и из документов привело к полному забвению его, и нигде в «Немецкой биографии» он не обнаруживается. Поэтому Роткирх, твердо знавший, что поначалу было трое мальчиков, уморив по дороге второго, подменяет Алексея белокожим рагузинцем. Однако босниец из Рагузы (ныне Дубровник) Савва Владиславич, участвовавший в похищении из сераля мальчиков, никак третьим из них оказаться не мог. Не мог им быть и его племянник Ефим Иванович (1691–1741), находившийся с дядей в Константинополе и отправленный в Россию морем — через Азов. Дождавшись там прибытия разных товаров и встретившись с дядей, он тронулся в Москву, куда «поезд» из Константинополя прибыл лишь 30 января 1705 г. (см. примеч. 82), через два с половиной месяца после арапчат. (обратно)80
Рукою Пушкина. С. 51. (обратно)81
Набоков цитирует письмо по кн.: Устрялов Н. Г. История царствования Петра Великого. СПб., 1863. Т. IV, ч. 2. Прил. С. 254. (обратно)82
В «Прошении» Ганнибала императрице Елизавете Петровне 1742 г. (см. примеч. 22) есть двусмысленная фраза, до недавнего времени не вызывавшая, однако, сомнений: «выехал я в Россию из Царяграда при графе Саве Владиславиче». Фраза всегда воспринималась как свидетельство совместной поездки Владиславича с Абрамом. Так понята она и Набоковым. Однако Ганнибал хотел сказать, что выехал он из Константинополя в те месяцы, когда Савва Лукич Владиславич, решавший его судьбу, замещал уехавшего в Москву П. А. Толстого и был, таким образом, полномочным послом России в Турции. В четырехтомном труде Н. Н. Бантыш-Каменского «Обзор внешних сношений России (по 1800 г.)» (М., 1887–1902), Набокову неизвестном, имеются точные и полные сведения о передвижениях Рагузинского. 6 ноября 1702 г. Рагузинский прибыл из Константинополя в Азов «с деревянным маслом, кумачами, бумагой хлопчатной» (Бантыш-Каменский Н. Н. Обзор… М., 1896. Т. 2. С. 242). В Москву он приехал 26 марта 1703 г. Обратно отправился через Киев осенью «с собольми» на 5 тысяч для П. А. Толстого (там же), т. е. для подарков нужным людям в Константинополе. Очевидно, он прибыл туда в начале 1704 г. и заменил Толстого в качестве посла, пока тот ездил в Москву. Поехал Рагузинский из Турции на Азов не летом, а осенью, прибыв в Москву 30 января 1705 г. (Там же. С. 243). (обратно)83
Абрама можно было крестить во второй раз, только если меняли его имя, что и сделал царь Петр, однако не в 1707, а в 1705 г., как сообщает сам Ганнибал в посвящении своего учебника Екатерине I: «…И был мне восприемником от святыя купели Его Величество в Литве, в городе Вильне, 1705 году…» (Телетова Н. К. Забытые родственные связи А. С. Пушкина. С. 142). См. также примеч. 31. (обратно)84
Фамилию себе придумал сам Абрам и впервые употребил ее, по-видимому, в 1727 г. в Сибири, рассчитывая, что громкость ее поможет ему в его положении ссыльного. При этом фамилия Петров превратилась в отчество. В утраченной ныне Иркутской летописи за 1727 г., как отмечал сибирский исследователь Сельский, значится: «В декабре месяце прибыл из Тобольска лейб-гвардии бонбардирной роты поручик Абрам Петров, Араб Ганнибал, для строения Селенгинской крепости» (Москвитянин, 1853. Т. 6. С. 34). В Эстляндии Абрам уже постоянно употребляет эту фамилию с 1733 г. (обратно)85
В Вильнюсе в центре города в 1865 г. после капитального ремонта церкви Параскевы Пятницы приказом губернатора М. Н. Муравьева был выбит текст на доске, укрепленной на ограде. Текст сообщает, что здесь в 1705 г. произошло крещение «африканца Ганнибала». Источником сведений, без сомнения, являлся утраченный ныне документ, принадлежавший Виленскому архиву, вывезенному на восток, за пределы Литвы, в 1940 г. Доска и поныне сохраняется на том же месте. Однако историки города утверждают, что Пятницкая церковь с 1611 г. и до XIX в. была униатской, а крещение могло происходить лишь в православной церкви. Фамилию же «Ганнибал» «африканец» в то время не носил (см.: Скилявичюс Л. Источник тайн // Вечерние новости. Вильнюс. 1985. 26 февр.). (обратно)86
Христина-Эбергардина, супруга Августа II Сильного, равно как и сам Август, в июле 1705 г. в Вильну не приезжали; крестной матерью могла быть лишь неизвестная нам местная дама. Версия о королеве-крестной возникает у Роткирха, сам Ганнибал об этом никогда не писал. (обратно)87
Возможно, со слов Пушкина Д. Н. Бантыш-Каменский объясняет, почему, просыпаясь ночью, Петр I вынужден был сам записывать на грифельной доске то, что следовало вспомнить днем: «припорожник» Абрам еще не понимал русского языка (Бантыш-Каменский Д. Н. Словарь достопамятных людей Русской земли: В 5 т. М., 1836. Т. 2. С. 12). Здесь мы имеем дело с домыслом Роткирха, не понявшего причин кажущейся причуды царя. (обратно)88
Вегнер М. Предки Пушкина. С. 23. Этому приказу предшествовали многие подобные, начиная с 1705 г.; очевидно, первый из них записан в приходо-расходной тетради (ведомости) Петра I: «1705 года, 18 февраля, на росписи купчины Чувашева Абраму Арапу к делу мундира и в приклад дано рублей 15 алтын» (Малеванов Н. А. «Петра питомец» А. П. Ганнибал // Нева. 1972. № 2. С. 192). В тот день, 18 февраля 1705 г., Петр I отправлялся (до 27 апреля) в Воронеж (см.: Устрялов Н. Г. История царствования Петра Великого. СПб., 1863. Т. 4. [Ч. 1]. С. 359, 363). Мальчик тогда еще, видимо, не следовал за царем. Между 1705 и 1709 гг. (1709 г. обозначен в цитированном Вегнером и Набоковым документе) Абрам вместе с карликом Якимом появляется еще раз в приходо-расходной ведомости, когда сообщается, что истрачено «в 707 году <…> Авраму-арапу да Якиму-карле на платье 87 рублев, 13 алтын, 2 деньги» (Соловьев С. М. История государства Российского. М., 1962. Кн. VIII. Т. 15–16. С. 530). (обратно)89
Е. Ф. Шмурло пишет: «Быть может, он (Ганнибал. — Н. Т.) занимал при царе должность денщика, хотя в документах он трижды упоминается наряду с шутом Лакостою» (Энциклопедический словарь Брокгауза и Эфрона. СПб., 1892. Т. 8. С. 87). (обратно)90
Он был человек способный и потомок известного марранского рода (да Коста, или Мендец да Коста), бежавшего в XVII в. из Португалии и осевшего в Италии, Голландии, Англии и других странах. Ян д’Акоста, бывший в Гамбурге юристом, искал жизни попестрее и, найдя в русском консуле покровителя, последовал за ним в Московию. Царь, в восторге от его остроумия, сделал его графом и отдал ему бесплодный остров у финских берегов. (обратно)91
В тексте М. Вегнера (Предки Пушкина. С. 24) царский дурак назван Тюриновым. У Набокова, который, несомненно, перелагал рассказ Вегнера, описка или сознательное искажение-насмешка — Тюриков. (обратно)92
Набоков позволяет себе дать собственный вариант анекдота: у Вегнера Петр I отнюдь не развлекался поркой матросов. Ср.: «Проснувшись, шут завопил и разбудил царя. Петр вскочил взбешенный, схватил канат и бросился на крики. Шалуны, услыхав его шаги, попрятались. Первым попался царю на глаза Абрам и был отхлестан не на шутку» (Вегнер М. Предки Пушкина. С. 24). (обратно)93
Адриан Шхонебек в мае 1705 г. выполнил гравюру «Петр I с арапчонком». Известно, что больной царь с 4 по 22 мая 1705 г. жил в загородном доме Ф. А. Головина в Немецкой слободе (см.: Устрялов Н. Г. История царствования Петра Великого. СПб., 1863. Т. 4 [Ч. 1]. С. 363–364). В ноябре 1704 г. Головину доставили двух арапчат из Константинополя (см. примеч. 71). Поскольку арапчонок, получивший после крещения имя Алексей и фамилию Петров (см. примеч. 79), никогда при Петре не состоял и, в отличие от Абрама, в петровских бумагах тех лет не упоминался, то почти наверняка можно говорить, что на гравюре изображен Петр I с Абрамом, подаренным царю в январе — феврале 1705 г. См. подробнее об этой гравюре в статье Н. К. Телетовой «О мнимом и подлинном изображении А. П. Ганнибала» в настоящем сборнике, с. 84. (обратно)94
С января по октябрь 1716 г. имя Абрама в списках тех, кто сопровождал царя Петра в его путешествии, не появляется. Первый приказ о выдаче Абраму ефимков на седло относится к 5 октября 1716 г. (см.: Украинцев Е. И. Сборник выписок из архивных бумаг о Петре Великом. М., 1872. Т. 2. С. 52). Именно в это время к Петру в Копенгаген прибыли недоросли, направлявшиеся в Европу для обучения; среди них, очевидно, был и Абрам: «Петр их осмотрел и распределил, кого куда послать. Указ о том кн.<язю> Долг.<орукову> — от 12 окт.<ября>» (X, 228). Затем Абрам упоминается в начале декабря по поводу раздачи трех червонных нищим в Вестфалии. 11 декабря 1716 г. Абраму Петрову и Алексею Юрову делаются богатые дары к празднику Рождества (см.: Украинцев Е. И. Указ. соч. С. 21, 25). Таким образом, оба они присоединились к свите Петра (Абрам в октябре, Юров тогда же или в ноябре — декабре) и находились при нем до 9(20) июня 1717 г., когда Петр уехал из Парижа, а Абрам и Юров остались во Франции для обучения. Двое других юношей проследовали из России во Францию, не задерживаясь, очевидно, при Петре. Коровин должен был обучаться не фортификации и военному делу, а «грыдоровальному художеству», т. е. искусству гравировки (см.: Пекарский П. Введение в историю Просвещения в России XVIII столетия. СПб., 1862. Т. 1. С. 241). (обратно)95
В подлиннике «Немецкой биографии» Роткирх правильно записал имя — Белидор. Но в копии для Пушкина неясная буква «d» опущена. То же рукою Пушкина в «Сокращенном переводе Немецкой биографии». (обратно)96
В тексте опечатка. Белидор родился в 1693 г. (см.: Larousse P. Grand Dictionnaire universel. Paris, [1865]. Vol. 2. P. 497). (обратно)97
До 1719 г., когда Ганнибал принял участие в войне с Испанией, он не мог учиться в Ла Фере: «Школа инструктажа» («L’ecole d’instruction») была открыта там лишь в 1720 г., по повелению короля от 5 февраля (см. об этом: Daniel P. Histoire de la milice française. Paris, 1721). Можно предположить, что между 1717 и 1719 гг. он обучался в Меце. (обратно)98
«Краткий курс военной, а также гражданской архитектуры и гидравлики» (франц.). (обратно)99
Ганнибал был ранен в 1719 г. при взятии крепости Фуэнтерабиа (см. об этом: Хмыров М. Д. А. П. Ганнибал // Всемирный труд. 1872. № 1. С. 107). (обратно)100
См. примеч. 97. (обратно)101
Набоков весьма свободно пересказывает Пушкина. В «Арапе Петра Великого» говорится лишь, что Ибрагим «присутствовал на ужинах, одушевленных молодостию Аруэта и старостию Шолье, разговорами Монтеские и Фонтенеля», и что графине Д. его представил «молодой Мервиль, почитаемый вообще последним ее любовником» (VIII, 4). «Мервиль первый заметил эту взаимную склонность. <…> Слова Мервиля пробудили Ибрагима» (VIII, 5), — больше о Мервиле ничего не говорится. По мнению Набокова, речь здесь идет о Мишеле Гюйо де Мервиле (1696–1755), драматурге, авторе более чем десятка пьес, ставившихся в 1730–1740-е годы в Комеди Франсез и в других театрах. Известно, что Мервиль общался с Вольтером. (обратно)102
Абрам находился в обучении пять с половиной лет. Покинув Россию приблизительно в начале сентября 1716 г., он был оставлен Петром в Париже 9(20) июня 1717 г. (см. примеч. 94). 17 октября 1722 г. Абрам Петров, Резанов и Коровин были отозваны из Парижа и отправились в Россию в свите бывшего посла во Франции В. Л. Долгорукова (см.: Бантыш-Каменский Н. Н. Обзор… М., 1894. Т. 1. С. 94). В Москву «поезд» Долгорукова прибыл 27 января 1723 г., о чем есть запись в камер-фурьерском журнале (Юрнал 1723 года. СПб., 1855. С. 6). (обратно)103
Петр I приказал князю А. Д. Меншикову, подполковнику Преображенского полка (полковником был он сам), 4 февраля 1724 г.: «Абраму (арапу), который во Франции служил капитаном и привез свидетельство, того ради определите ево порутчиком бомбардирскую роту к инженерам, которых из молодых в кондукторы надлежит собрать <…> Петр» (Ганнибал А. С. Ганнибалы, новые данные для их биографий. С. 217). (обратно)104
Ср. примеч. 84. (обратно)105
забавах (франц.). (обратно)106
«Рассуждения о всемирной истории» (франц.). Первое издание — 1681 г. (обратно)107
Poirier, АЬЬé Metz F. J. Documents généalogiques. 1561–1792. Paris,1899. (обратно)108
Капитан Петров, именуемый Аннибал (франц.). (обратно)109
Этот грек, капитан, нанят был в Венеции Г. Г. Островским, посланным Ф. А. Головиным, вместе с другим капитаном по имени Стамати Камер. В Венеции Диопер (тогда именовавшийся Депиор) жил близ греческой церкви, имел жену и детей, по-видимому навсегда оставленных. 16 ноября 1697 г. оба нанятых капитана с Островским тайно выехали в Амстердам (Венеция не хотела отпускать нужных людей), где встречены были Головиным и Лефортом. Плата капитанам положена была «в московской службе сколько они похотят и сколько их будут держать <…> по 15-ти золотых червонных в месяц» (Княжецкая Е. А. Связи России с Далмацией и Бокой Которской при Петре I // Сов. славяноведение. 1973. № 5. С. 46–59). Брак Евдокии Андреевны Диопер и Абрама Петрова состоялся 17 января 1731 г. в Петербурге, в церкви Симеона Богоприимца в Морской слободе (см.: Малеванов Н. А. Прадед поэта // Звезда. 1974. № 6. С. 159). (обратно)110
Псковские поместья, и среди них Зуево-Михайловское, пожалованы были А. П. Ганнибалу в 1742 г. 12 января 1742 г. под № 8728 вышел «Именный указ о пожаловании подполковника Аврама Ганибала в генерал-майоры <…> и об отдаче ему из дворцовых имений Псковского уезда Михайловской губы с 569 душами крестьян» (Баранов П. И. Опись высочайшим указам и повелениям, хранящимся в С.-Петербургском архиве за XVIII век. СПб., 1878. Т. 3 (1740–1762). С. 85). Закрепление пожалования грамотой на владения в Псковской губернии состоялось лишь 6 февраля 1746 г. (грамота подписана: «Елизаветъ» и «Алексей Бестужев»; хранится во Всероссийском музее А. С. Пушкина). (обратно)111
Ганнибал умер неполных 85 лет. См. примеч. 636. (обратно)112
Имеется в виду публикация: Ф. Б. <Булгарин Ф. В.> Второе письмо из Карлова на Каменный остров // Сев. пчела. 1830. 7 авг. № 94. (обратно)113
[Helbig G. A. W.] Russische Günstlinge. Tübingen, 1809. Русский перевод (с указанием автора) впервые опубликован в 1883 г. под названием «Русские фавориты». Георг фон Гельбиг был секретарем Саксонского посольства в Петербурге в 1787–1795 гг. (обратно)114
Н. П. Барсуков в 1891 г. выпустил в Петербурге только четвертый том своего двадцатидвухтомного издания «Жизнь и труды М. П. Погодина». Однако указанного сообщения там нет. Но в том же году А. П. Барсуков опубликовал в «Русском архиве» (т. 2) «Прошение» А. П. Ганнибала (см. примеч. 22) и в середине страницы 103, закончив свое сообщение, поставил: «С.-Петербург, 29 марта 1891 г., Александр Барсуков». Ниже, под звездочкой, следует текст издателя П. И. Бартенева, подписывавшего подстрочные комментарии инициалами «П. Б.», но оставившего без подписи этот текст, в котором, в частности, сообщается: «…вдова Льва Сергеевича Пушкина, Елизавета Александровна, передавала нам, что у ее свекрови, Надежды Осиповны, матери поэта, ладони были желтого цвета» (с. 103–104). Резюме Бартенева Набоков приписал Барсукову, ошибочно заменив его инициал «А» инициалом «Н». (обратно)115
В. Виноградов — описка Набокова. Следует: Л. Виноградов. См.: Виноградов Л. А., Чулков Н. П., Розанов Н. П. А. С. Пушкин в Москве: Труды Общества изучения Московской области. М., 1930. Вып. 7. (обратно)116
В примечании Л. А. Виноградова к его статье «Детские годы А. С. Пушкина в Немецкой слободе и у Харитония — в огородниках» (в сборнике «А. С. Пушкин в Москве» (С. 32–33)) говорится: «…все дочери Исаака Абрамовича Ганнибала отличались речью нараспев: „все они точно египетские голуби воркуют <…> выговор у них такой африканский, что ль, был“, — вспоминали о них в Тригорском». (обратно)117
См. об этом статью Н. К Телетовой «О мнимом и подлинном изображении А. П. Ганнибала» в настоящем сборнике, с. 84. (обратно)118
Bent J.-T. The Sacred City of the Ethiopians… P. 287–288. (обратно)119
«…с твоим сплющенным носом, вздутыми губами, с этой шершавой шерстью бросаться во все опасности женитьбы?» — говорит Ибрагиму Корсаков в романе «Арап Петра Великого» (VIII, 30). (обратно)120
См. примеч. 58. (обратно)121
Любопытно, что ни история о девятнадцати старших братьях, которых приводили к отцу со связанными руками, ни такая деталь, как фонтаны, среди которых плавал на воле меньшой из них, Ибрагим, не имеют известного протосюжета: в «Немецкой биографии» ничего подобного не излагается. В комментарии к роману осенью 1824 г. Пушкин приводит эти экзотические подробности после свидания с Петром Абрамовичем, под свежим впечатлением от первого знакомства с «Немецкой биографией». Тогда же он, вероятно, познакомился и с важными дополнениями к ней. Был ли это устный рассказ Петра Абрамовича или неизвестные впоследствии мемуары Абрама Петровича — установить невозможно (между прочим, и о Лагани в «Немецкой биографии» сказано, что она утопилась с горя, не сумев освободить брата, в то время как у Пушкина в комментарии 1824 г. она только плыла за кораблем, на котором он удалялся). (обратно)122
Ничем не знаменитое селение Снитерфилд находится в графстве Уорикшир, в трех с половиной милях на северо-восток от Стратфорда-на-Эйвоне, родины Шекспира. (обратно)123
Набоков подозревает, что пушкинское описание детства Ганнибала стилизовано и источником стилизации является художественная литература. (обратно)124
Речь идет о Шарле Понсе. (обратно)125
Пресвитер Иоанн — легендарный священник и король Абиссинии в средние века. Шекспир, скрыто присутствующий в набоковском «Заключении» (см. примеч. 122), упоминает пресвитера Иоанна в комедии «Много шума из ничего» в выразительном контексте: «Бенедикт. Я готов за малейшим пустяком отправиться к антиподам, что бы вы ни придумали: хотите, принесу вам зубочистку с самой отдаленной окраины Азии, сбегаю за меркой с ноги пресвитера Иоанна, добуду волосок из бороды Великого Могола, отправлюсь послом к пигмеям?» (акт II, сцена 1). (обратно)126
Василидаса, наследника престола. (обратно)127
Тамбуры — маленькие барабаны. (обратно)128
Poncet Ch. A Voyage to Aethiopia. Made the Years 1698, 1699 and 1700. London, 1709. P. 149–150. (обратно)129
Имеются в виду следующие строки поэмы С.-Т. Кольриджа «Кубла Хан» (перевод К. Бальмонта):130
Имеется в виду созвучие названий: «tabor» (барабанчик) и гора «Abor». (обратно)131
См. примеч. 58. (обратно)132
Ле Гран (см. примеч. 50) говорит, что у Суснея — как правитель он назывался Сагад I — был брат Цеела Крестос или, иначе, Целла Христос. Ле Гран называет последнего также Расселас (см.: Le Grand (Legrand) J. Voyage historique d’Abissinie… P. 502). Без сомнения, Роткирх использовал этот романный мотив: брат, ставший правителем, присылал за младшим «полубратом», т. е. Ибрагимом, еще одного брата. Роткирх, таким образом, ставит Ибрагима на место Расселаса, не довольствуясь лестной для рода выдумкой о приезде ко двору Петра I брата правителя Эфиопии. (обратно)133
Леец Г. Абрам Петрович Ганнибал: Биографическое исследование. Таллин, 1980; Телетова Н. К. К «Немецкой биографии» А. П. Ганнибала // Пушкин: Исследования и материалы. Л., 1982. Т. X. С. 272–285; Сергеев М. Сибирские злоключения Арапа Петра Великого // Ангара. Иркутск, 1970, № 6. С. 56–87; см. также: Малеванов Н. А. Прадед поэта // Звезда. 1974. № 6. С. 156–167; Козмин Б. М. «В деревне, где Петра питомец…» // Временник Пушкинской комиссии. 1979. Л., 1982. С. 167–171; Букалов А. Роман о царском арапе. М., 1990. (обратно)134
Лицейские строки Пушкина о «праотце Фатаме», конечно, не могут считаться серьезным словоупотреблением (XVII, 15). (обратно)135
Рукою Пушкина: Несобранные и неопубликованные тексты. М.; Л., 1935. С. 52. (обратно)136
Леец Г. Абрам Петрович Ганнибал. С. 169. (обратно)137
В своем «<Начале автобиографии>» Пушкин связывает перемену имени с трудностями, которые имя Януарий могло вызывать у жены арапа с ее немецким произношением (XII, 313). (обратно)138
См.: Телетова Н. К. К «Немецкой биографии» А. П. Ганнибала. С. 277–278. (обратно)139
Рукою Пушкина. С. 52. (обратно)140
Там же. С. 36. (обратно)141
Пушкин, несомненно, знал и еще об одном русском аналоге Иосифа Египетского — им был князь Александр Невский, причисленный к лику святых как заступник своего народа перед Золотой Ордой. Подобно тому как Иосиф отводил от евреев гнев фараона, так Александр защищал русских от произвола татарского хана. Поэтому тропарь на празднование перенесения мощей святого в Петербург в 1724 г. гласил: «Познай свою братию, Российский Иосифе, не в Египте, но на небеси царствующий, благоверный Княже Александре, и приими моления их…» (обратно)142
Аверинцев С. С. Иосиф прекрасный // Мифы народов мира. М., 1980. Т. 1. С. 555. (обратно)143
Рукою Пушкина. С. 51–52. (обратно)144
Там же. С. 35–36. (обратно)145
Фейнберг Илья. Незавершенные работы Пушкина. 7-е изд. М., 1979. С. 86. (обратно)146
Голиков И. И. Деяния Петра Великого, мудрого преобразителя России… 2-е изд. М., 1843. Т. 15. С. 156–157. (обратно)147
Недаром же, например, булгаринский выпад против Ганнибала поэт-принимает как оскорбление, нанесенное ему, Пушкину, лично. Не чужд Пушкин и прямому самоотождествлению с библейским патриархом — дважды в письмах он сравнивает себя с Иосифом, ускользающим от неправедной женской любви (XIV, 74; XV, 30). (обратно)148
См.: Гершензон М. Сон и явь // Гершензон М. Статьи о Пушкине. М., 1926. (обратно)149
Тарханова Н. А. Сны и пробуждения в романе «Евгений Онегин» // Болдинские чтения. Горький. 1982. С. 55. (обратно)150
Мушина И. Б. Пушкин и его эпоха в переписке поэта // Переписка Пушкина: В 2 т. М., 1982. Т. 1. С. 9. (обратно)151
Вульф А. Н. Из «Дневника» // А. С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1974, Т. 1. С. 421. (обратно)152
Самойлов Д. Весть. М., 1978. С. 87. (обратно)153
Алексеев М. П. Предисловие // Русаков В. М. Рассказы о потомках А. С. Пушкина. Л., 1982. С. 3. (обратно)154
Современник. 1840. Т. 19. С. 103–104. (обратно)155
См.: Романюк С. К. К биографии родных Пушкина // Временник Пушкинской комиссии. Л., 1989. Вып. 23. С. 9–11. (обратно)156
ПД, оп. 21, № 71, с. 10 (Дело Герольдии о внесении рода Пушкиных в общий гербовник дворянских родов). (обратно)157
Рылеев, как видно, исчисляет древность дворянства Пушкина со времени Григория Александровича Пушки, жившего в XIV в., чье прозвище дало фамилию пушкинскому роду. (обратно)158
Долгоруков П. В., кн. Российская родословная книга. СПб., 1855. Ч. 2. С. 151; Ч. 4. С. 183; Муравьев М. В. Родословие А. С. Пушкина // Пушкинский сборник. СПб., 1899. С. 655; Модзалевский Б. Л., Муравьев М. В. Пушкины (родословная роспись). Л., 1932. С. 4, 8; Вегнер М. Предки Пушкина. М., 1937; Лукомский В. К. Архивные материалы о Радше // Пушкин. Временник Пушкинской комиссии. М.; Л., 1941. Т. 6. С. 398–408; Веселовский С. Б. Род и предки Пушкина в истории // Исследования по истории класса служилых землевладельцев. М., 1969. С. 39–139. (обратно)159
Веселовский С. Б. Род и предки Пушкина в истории. С. 41. (обратно)160
Новиков Н. И. Родословная книга князей и дворян российских и выезжих. М., 1787. (обратно)161
Веселовский С. Б. Род и предки Пушкина в истории. С. 42. (обратно)162
Модзалевский Б. Л. Библиотека А. С. Пушкина. СПб., 1910. С. 85. № 314. (обратно)163
Лукомский В. К. Архивные материалы о Радше. С. 407. (обратно)164
Там же. С. 404. (обратно)165
Михайлова Н. И. Василий Львович Пушкин // Пушкин В. Стихи. Проза. Письма. М., 1989. С. 24. (обратно)166
Веселовский С. Б. Род и предки Пушкина в истории. С. 135. (обратно)167
Там же. (обратно)168
Павлищева О. С. Воспоминания о детстве А. С. Пушкина // А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. М., 1974. Т. 1. С. 51. (обратно)169
Лотман Ю. М. Александр Сергеевич Пушкин: Биография писателя. Л., 1981. С. 11. (обратно)170
Павлищев Л. Н. Воспоминания об А. С. Пушкине. М., 1890. С. 8. (обратно)171
Из пушкинианы П. И. Бартенева: 1. Тетрадь 1850-х годов // Летописи Гос. лит. музея. 1936. Кн. 1. С. 536. (обратно)172
В рукописи описка: 1707. (обратно)173
Вегнер М. Предки Пушкина. С. 189. Подчеркнем еще раз, что Пушкин не называет отчества своего прадеда, но считает его «Петровичем». (обратно)174
Гордеев Н., Пешков В. Об одной ошибке поэта // Гордеев Н., Пешков В. Тамбовская тропинка к Пушкину. Воронеж, 1969. С. 7–14. (обратно)175
Вегнер М. Предки Пушкина. С. 7. (обратно)176
Марков Н. В. Сокольский воевода А. Ф. Пушкин // Ленинец. 1979. 19 мая. (обратно)177
Панюшин С. Ф. Прав поэт // Лит. Россия. 1979. 1 июня. (обратно)178
Телетова Н. К. Забытые родственные связи А. С. Пушкина. Л., 1981. С. 152. (обратно)179
Лобанов-Ростовский А. Б., кн. Русская родословная книга. СПб., 1873. Т. 2. С. 51–52. (обратно)180
Вегнер М. Предки Пушкина. С. 179–180. (обратно)181
Родословная А. С. Пушкина, составленная со слов сестры его О. С. Павлищевой в Санкт-Петербурге 26 октября 1851 г. Н. И. Павлищевым // Анненков П. В. Материалы для биографии А. С. Пушкина. СПб., 1855. Т. 1. С. 435. (обратно)182
Павлищев Л. Н. Воспоминания об А. С. Пушкине. С. 200. (обратно)183
Казанский П. С. Село Новоспасское, Деденево тож, и родословная Головиных, владельцев оного. М., 1847. С. 131. (обратно)184
Завещание А. П. Ганнибала // Телетова Н. К. Забытые родственные связи А. С. Пушкина. С. 152. (обратно)185
Воспоминания П. А. Ганнибала // Там же. С. 173. (обратно)186
Телетова Н. К. Ганнибалы — предки А. С. Пушкина; Ганнибалы под Петербургом // Белые ночи. Л., 1978. С. 278–292. (обратно)187
Гришина Л. И., Файнштейн Л. А., Великанова Г. Я. Памятные места Ленинградской области. Л., 1973. С. 200. См. также: Белехов Н., Петров А. И. Е. Старов. Л., 1950; Гоголицын Ю. М., Иванова Т. М. Архитектурная старина. Л., 1970; Кючарианц Д. А. Иван Старов. Л., 1982. С. 125. (обратно)188
Кючарианц Д. А. Иван Старов. С. 125. (обратно)189
Шведское дворянство и герб получил в 1668 г. дед Христины Маттиас Отто Шеберг. (обратно)190
См.: Стасов В. В. Арап Петра I и калмык Екатерины II // Стасов В. В. Собр. соч. СПб., 1894. Т. 1. С. 67–71. (обратно)191
Портрет петровского времени: Каталог выставки. Л., 1973. С. 141. (обратно)192
Альбом Московской Пушкинской выставки 1880 года / Под ред. Л. Поливанова. М., 1882. (обратно)193
Там же. С. 11. (обратно)194
Записки А. О. Смирновой: (Из записных книжек 1826–1845 годов). СПб., 1895. С. 17. (обратно)195
Орден имел четыре степени. 3-я и 4-я — крест на груди без звезды; 2-я — звезда и крест; 1-я — звезда и крест на ленте через правое плечо. (обратно)196
Feldzeugmeister — мастер полевых орудий (нем.). (обратно)197
Бантыш-Каменский Д. Н. Словарь достопамятных людей Русской земли. М, 1836. Т. 3. С. 302–304. (обратно)198
Военная энциклопедия. СПб., 1914. Т. 15. С. 254. (обратно)199
Анучин Д. Н. А. С. Пушкин: (Антропологический эскиз). М., 1899. С. 24. (обратно)200
См.: Рус. арх. 1899. № 6. С. 355. (обратно)201
См.: Анучин Д. Н. А. С. Пушкин: (Антропологический эскиз). С. 24. (обратно)202
Опираясь на научные труды, В. В. Набоков называет его Jyasy I (Иясу I) или Jesus I (Иисус I) (Nabokov V. Pushkin and Gannibal // Encounter. 1962. № 106. P. 17). (обратно)203
Хохлов H. П. Присяга просторам. М., 1973. С. 68. (обратно)204
Цит. по: Шубинский С. Н. Княгиня А. П. Волконская и ее друзья // Ист. вестн. 1904. № 12. С. 931. (обратно)205
Стасов В. В. Арап Петра I и калмык Екатерины II. С. 68–69. Гравюра была приобретена в 1861 г. у кн. А. Я. Лобанова-Ростовского. (обратно)206
Перевод-калька латинского «август» — прибавитель, преумножающий владения. (обратно)207
В. К. Макаров называет гравюру, как и Стасов, редчайшей, сообщая, что это «офорт и резец. 280×175. ГПБ» (Макаров В. К. Русская светская гравюра первой четверти XVIII в.: Аннотированный сводный каталог. Л., 1973. С. 235–236). (обратно)208
Эта дата установлена в исследовании: Алексеева М. А. Гравюра Петровского времени. Л., 1990. С. 19. (обратно)209
См.: Макаров В. К. Русская светская гравюра первой четверти XVIII в. С. 213. (обратно)210
Викторов А. Е. Описание записных книг и бумаг старинных дворцовых приказов. 1613–1725. М., 1883. Вып. 2. С. 481. (обратно)211
Макаров В. К. Русская светская гравюра первой четверти XVIII в. С. 257. (обратно)212
См. Посвящение (повторяющееся) к двум рукописным томам учебника А. Петрова (Ганнибала) (Géometrie practique. Т. 1; Fortification. Т. 2), поднесенного автором 23 ноября 1726 г. императрице Екатерине I; опубликовано в кн.: Телетова Н. К. Забытые родственные связи А. С. Пушкина. Л., 1981. С. 141. (обратно)213
Вокруг вопроса об авторстве изложенного здесь открытия сложилась своя мифология. Ознакомившись с документами, хранящимися в архиве Н. К. Телетовой, считаем необходимым восстановить истину. В 1973 г., придя к выводу о том, что на мнимом портрете Ганнибала изображен Меллер-Закомельский, Телетова поделилась результатами своих исследований с эстонским коллегой Г. А. Леецом, закончившим тогда рукопись книги о Ганнибале. Леец поздравил ее с открытием в письме от 7 июня 1973 г.: «В Вашу версию относительно портрета я верю и соглашаюсь с Вашими доводами, доказывающими, что на нем изображен именно И. И. Меллер-Закомельский. Сделаете большое дело, если докажете это читающей публике». Статью о портрете Телетова послала редактору «Пушкинского праздника» А. Латыниной. Материал был принят, однако через год «Пушкинский праздник» вышел без статьи Телетовой. Ей было сообщено, что редакция не сочла ее доводы убедительными. В декабре 1974 г. Г. А. Леец написал Телетовой, что он сделал в Таллинне доклад о портрете и собирается поместить публикацию на эту тему в центральной прессе. На категорическое возражение автора открытия Леец в письме от 15 января 1975 г. ответил, что уже написал свой вариант статьи и удивлен ее несогласием. В мае 1975 г. он поделился с Н. Я. Эйдельманом сведениями о портрете и стал готовить на эстонском языке сообщение о нем для журнала «Язык и литература». 25 сентября 1975 г. Телетова выступила с докладом, посвященным атрибуции портрета, в Пушкинском Доме. Ее горячо поддержали В. М. Глинка, Н. В. Измайлов, Н. А. Малеванов. А через месяц вышел журнал «Язык и литература» со статьей Лееца, содержащей лишь те аргументы Телетовой, которые она успела ему сообщить. Ее собственная статья, включающая в себя всю полноту аргументации, была предложена в 1976 г. редакции издания «Памятники культуры. Новые открытия». В апреле 1978 г. Н. Я. Эйдельман в журнале «Знание — сила» с его полуторамиллионным тиражом опубликовал со ссылкой на Лееца вариацию той же темы. Редакция «Памятников культуры» тотчас вернула Телетовой пролежавшую там более двух лет статью, сославшись на вторичность материала. И только альманах «Белые ночи», появившийся в июле 1978 г., опубликовал ее сокращенный, почти популярный вариант. В 1980, затем в 1984 гг. в Таллинне издается и переиздается книга уже покойного Г. А. Лееца «Абрам Петрович Ганнибал». В приложении к книге издатели дали русский перевод статьи, напечатанной в октябре 1975 г. В 1985 г. в № 8 «Панорамы искусств» была опубликована статья В. М. Глинки, где он резюмировал все соображения о портрете, высказанные в печати к тому времени, добавив к ним собственные доводы; авторство открытия он закрепил за обоими исследователями, якобы работавшими параллельно. В настоящем сборнике статья Н. К. Телетовой, написанная в 1976 г. и дополненная некоторыми новациями, публикуется впервые. (Примеч. ред.) (обратно)214
Т. Г. Александрова опубликовала заключение экспертизы 1986 г., где анализируется история потемнения портрета. См.: Из пушкинианы Всесоюзного Музея А. С. Пушкина. Л., 1988. С. 85–93. (обратно)215
Nabokov V. Pushkin and Gannibal. P. 25. (обратно)216
См.: Цявловский М. А. Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина. М., 1951. С. 81. (обратно)217
Вяземский П. П. А. С. Пушкин. 1816–1825: По документам Остафьевского архива. СПб., 1880. С. 27. (обратно)218
См.: Вацуро В. Э. Пушкин в сознании современников // А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. М., 1974. Т. 1. С. 18–19. (обратно)219
См.: Гончаров И. А. Из университетских воспоминаний // А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. М., 1974. Т. 2. С. 215. (обратно)220
См.: Столпянский П. Н. Пушкин и «Северная пчела» // Пушкин и его современники. Пг., 1914. Вып. XIX–XX. С. 156–157. (обратно)221
Полевой К. А. Из «Записок» // А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 2. С. 53–54, 57–58. (обратно)222
См.: Гоголь Н. В. Полн. собр. соч. [Л.], 1952. Т. VIII. С. 50, 381–382. (обратно)223
См.: Белинский В. Г. Полн. собр. соч. М., 1955. Т. VII. С. 440, 579, 502. (обратно)224
См.: Анненков П. В. Материалы для биографии А. С. Пушкина. М., 1984. С. 173–176. (обратно)225
См.: Дружинин А. В. Собр. соч. СПб., 1865. Т. VII. С. 214; Страхов Н. Заметки о Пушкине и других поэтах. СПб., 1888. С. 8–9. (обратно)226
Гаевский В. П. Сочинения Пушкина. Изд. П. В. Анненкова // Отеч. зап. 1855. № 6. С. 62. (обратно)227
См.: Катков М. Н. Пушкин // М. Н. Катков о Пушкине. М., 1900. С. 21–24, 37, 42; Станкевич А. Сочинения Пушкина // Атеней. 1858. № 2. (обратно)228
См.: Писарев Д. И. Пушкин и Белинский // Соч. СПб., 1894. Т. V. С. 78, 102, 119. (обратно)229
Стихотворение Мазуркевича цитируется по кн.: Памяти А. С. Пушкина / Сост. А. В. Колчин. СПб., 1900. С. 71; все остальные стихотворения цитируются по кн.: Русские поэты о Пушкине / Сост. В. Каллаш. М., 1899. С. 168–169, 198, 210, 247, 315–316, 328. (обратно)230
Маркярон. Ты памятник себе воздвигнул превосходный… // Русские поэты о Пушкине. С. 188. (обратно)231
См.: Берков П. Н. Из материалов пушкинского юбилея 1899 г. // Пушкин: Временник Пушкинской комиссии. М.; Л., 1937. Т. 3. С. 411–412. (обратно)232
Остроумов И. И. Речь преподавателя <…> в день чествования 100-летия со дня рождения А. С. Пушкина. Гродна, 1899. С. 17. (обратно)233
Никольский В. В. Идеалы Пушкина. СПб., 1899. С. 93. (обратно)234
Устинов И. Е. О значении поэзии Пушкина. Харьков, 1900. С. 35. (обратно)235
См.: Якушкин В. Е. Радищев и Пушкин // Якушкин В. Е. О Пушкине. М., 1899. С. 3–69. (обратно)236
См.: Мякотин В. Из пушкинской эпохи // Сборник журнала «Русское богатство». СПб., 1900. Ч. 2. С. 236–237. (обратно)237
См.: Городецкий Б. П. Проблема Пушкина в 1890-е годы // Учен. зап. Ленингр. гос. пед. ин-та им. М. Н. Покровского. 1940. Т. IV, вып. 2. С. 80. (обратно)238
Лит. наследство. М., 1934. Т. 16–18. С. 1048. (обратно)239
См.: Брюсов В. Я. Вл. Соловьев: Смысл его поэзии // Соч. М., 1987. С. 242–243. (обратно)240
Мусатов В. В. Пушкин в эстетическом самосознании русского символизма // Художественная традиция в историко-литературном процессе. Л., 1988. С. 50–52. (обратно)241
См.: Мережковский Д. С. Лев Толстой и Достоевский // Полн. собр. соч. М., 1914. Т. IX. С. 115. (обратно)242
Блок А. А. Собр. соч.: В 8 т. М.; Л., 1960. Т. 3. С. 377. (обратно)243
Ходасевич В. Колеблемый треножник // Пушкин. — Достоевский. Пг., 1921. С. 45. (обратно)244
Ахматова А. Пушкин // Ахматова А. Стихи и проза. Л., 1976. С. 317. (обратно)245
См.: Цветаева М. Соч.: В 2 т. М., 1988. С. 273, 274, 276, 277. (обратно)246
Пастернак Б. Л. Тема с вариациями // Пастернак Б. Л. Избранное: В 2 т. М., 1985. Т. 1. С. 123. (обратно)247
Там же. С. 121. (обратно)248
См.: Гордин Я. Распад, или Перекличка во мраке // Знание — сила. 1990. № 12. С. 43, 45. (обратно)249
См.: Литературное наследство. М., 1965. Т. 74. С. 521. (обратно)250
См.: Багрицкий Э. Избранное. М., 1964. С. 317, 336–337. (обратно)251
См., например: Войтоловский Л. Пушкин и его современность // Красная новь. 1925. № 6. С. 228–259. (обратно)252
См.: Якубович Д. Почему нам близок Пушкин? // Сов. студенчество. 1937. № 2. С. 43. (обратно)253
См.: Дурылин С. Два юбилея // Смена. 1937. № 1. С. 11. (обратно)254
См.: Якубович Д. Почему нам близок Пушкин? С. 45. (обратно)255
См.: Мануйлов В. А. Любимый поэт советского народа // Портреты любимых писателей. Петрозаводск, 1937. С. 28. (обратно)256
Горюнов А. В доме на Мойке // Горюнов А. Простыми словами. Великие Луки, 1949. С. 62–63. (обратно)257
Гукасян А. Нет, весь я не умру… // Новый мир. 1949. № 6. С. 13. (обратно)258
Бекхожин X. Голос России / Пер. Я. Смелякова // Бекхожин X. Избранное. Алма-Ата, 1958. С. 71. (обратно)259
Десницкий В. А. Пушкин и его время // Пушкин: Материалы юбилейных торжеств. М.; Л., 1951. С. 260. (обратно)260
Первенцев А. Выступление на митинге памяти Пушкина // Там же. С. 372. (обратно)261
Паперный З. М. В борьбе за подлинного Пушкина // Пушкин в школе. М., 1951. С. 200. (обратно)262
Брюсов В. Мой Пушкин: Статьи, исследования, наблюдения. М.; Л., 1929; Цветаева М. Мой Пушкин. М, 1967. (обратно)263
См.: Михайлов Ал. «Что в имени тебе моем?»: (Пушкин и современная поэзия) // Вопр. лит. 1973. № 2. С. 51. (обратно)264
Например: Кузнецова А. «А душу твою люблю…» Повесть о Доризо Н. 1) Мой Пушкин // Октябрь. 1972. № 8. С. 85–88; 2) Жена поэта: (Полемические раздумья) // Молодая гвардия. 1983. № 10. С. 185–216; Ободовская И., Дементьев М. Вокруг Пушкина. М., 1976. Наталье Николаевне Пушкиной: Подлинные письма и факты. Предположения. Раздумья // Октябрь. 1982. № 2. С. 3–71. (обратно)265
См.: Глушкова Т. Пушкинский словарь // Москва. 1990. № 6. С. 180–196; Непомнящий В. С. Наш Пушкин // Лит. газ. 1990. 5, 9 сент.; Сарнов Б. Уроки Розанова // Огонек. 1991. № 8. С. 24–25; Скатов Н. Н. «Но есть у нас Пушкин…»: (Полемические заметки) // Правда. 1991. 8 июня. № 137 и др. (обратно)266
Некоторые аспекты этой проблемы были рассмотрены в 1920-е годы Л. Шюккингом (рус. пер.: Шюккинг Л. Социология литературного вкуса / Ред. В. М. Жирмунский. Л., 1928). (обратно)267
Гоголь Н. В. Полн. собр. соч. М.; Л., 1949. Т. V. С. 141. (обратно)268
Еще Н. С. Тихонравовым отмечено, что слова о приятельских похвалах пародируют суждения Ф. В. Булгарина и О. И. Сенковского, относящиеся к 1836 г. (см.: Гоголь Н. В. Соч. 10-е изд. СПб., 1889. Т. II. С. 781–785). Очевидно, сюда надо добавить еще и рецензию Н. А. Полевого на второе издание «Ревизора» (Рус. вестн. 1842. № 1. Отд. III. С. 60–62). Хотя документальных свидетельств о знакомстве Гоголя с этой статьей не имеется, трудно все же допустить, что, находясь в Москве, он не читал статью Полевого: ведь даже из-за границы Гоголь настойчиво просил присылать ему все отзывы о его произведениях. К тому же весь монолог «литератора» отсутствует в первой редакции «Театрального разъезда…» и появляется именно во второй редакции, написанной в июле — октябре 1842 г. Мысль о том, что Гоголя захвалили друзья, звучит у Полевого еще отчетливее, чем у Булгарина и Сенковского. Собственно, вся его рецензия от начала до конца строится как развитие именно этой мысли. Знакомство Гоголя со статьей Полевого подтверждается еще и тем, что «литератор» упоминает имя Шекспира, не упоминавшееся в рецензиях Булгарина и Сенковского («…он уж теперь, чай, думает о себе, что он чуть-чуть не Шекспир…»). О притязаниях Гоголя на славу Шекспира говорил именно Полевой: «…мнимые друзья автора увидели в „Ревизоре“ что-то шекспировское, превознесли его, прославили. <…> Разве Шекспир только мог бы так писать о себе и о своих творениях и так говорить о характере своего Гамлета, как г. Гоголь говорит о характере Хлестакова» (Полевой Н. А., Полевой Кс. А. Литературная критика. Л., 1990. С. 337). (обратно)269
Сев. пчела. 1830. № 13. 30 янв. (обратно)270
Коврыжкин П. Запоздалое предисловие к «Альдебарану» // Сын отеч. и Сев. арх. 1830. Т. XI. № 16. С. 244–246. (обратно)271
VI.XI. <Бестужев-Рюмин М. А.> Сплетница // Сев. Меркурий. 1830. № 49. C. 195. (обратно)272
См., например, рецензию: <Полевой Н. А.> «Монастырка». Соч. А. Погорельского; «Федора» <…>. Соч. П. Сумарокова // Моск. телеграф. 1830. № 5. С. 93–95 (обратно)273
Грибоедов А. С. Соч. М., 1988. С. 179. (обратно)274
Письма в Тамбов о новостях русской словесности // Благонамеренный. 1824. № 7. С. 54–55; Союз поэтов // Благонамеренный. 1822. № 39. С. 512–514; Сознание // Благонамеренный. 1823. № 11. С. 342–344. Ср. также: 1. <Яковлев П. Л.> Средства распространять круг своих читателей // Благонамеренный. 1824. № 15. С. 213. (обратно)275
Лит. листки. 1824. № 16. С. 93–94. (обратно)276
См.: Полевой Кс. А. Записки. СПб., 1888. С. 98–99. (обратно)277
См., например: Дмитриев М. А. Отрывок из Кодекса знаменитости // Вестн. Европы. 1824. № 9. С. 58–62; А. А. А. <Писарев А. И.> Нечто о Словах // Вестн. Европы. 1824. № 12. С. 290; <Булгарин Ф. В.> Маленький разговор о новостях литературы // Лит. листки. 1824. № 8. С. 323. (обратно)278
Писарев А. И. Еще разговор между двумя читателями «Вестника Европы» // Вестн. Европы. 1824. № 8. С. 309. (обратно)279
См.: Вестн. Европы. 1829. № 8. С. 289. (обратно)280
Так, о «неумеренных похвалах писателя своим друзьям» говорил рецензент «Галатеи» (1829. № 19. С. 187). (обратно)281
См.: Гриц Т., Тренин В., Никитин М. Словесность и коммерция. М., 1929; Эйхенбаум Б. М.: 1) Мой временник. Л., 1929. С. 56–57, 62–70; 2) О литературе. М., 1987. С. 434–435. (обратно)282
Следует подчеркнуть, что отвержение «салонной» литературы было тесно связано с тем процессом демократической переоценки ценностей, который происходил в общественном сознании 1830-х годов. Вообще отношение публики к тому или иному писателю все в большей мере определялось той политической позицией, которой придерживался этот писатель. Так, Булгарин нападает на Пушкина во многом именно с «третьесословных» позиций. Охранительное содержание булгаринских нападок этому не противоречит: дело в том, что охранительные взгляды были в то время присущи весьма значительной части разночинной публики. Но упреки Пушкину могли предъявляться и с радикально-демократических позиций. Например, Белинский в своем знаменитом зальцбруннском письме к Гоголю утверждал, что Пушкину «стоило написать только два-три верноподданнических стихотворения и надеть камер-юнкерскую ливрею, чтобы вдруг лишиться народной любви» (Белинский В. Г. Собр. соч.: В 9 т. М., 1982. Т. 8. С. 286). (обратно)283
Жуковский В. А. Письмо из уезда к издателю // Жуковский В. А. Эстетика и критика. М., 1985. С. 165–166. (обратно)284
Декабристы: Эстетика и критика. М., 1991. С. 59. (обратно)285
Жуковский В. А. Письмо из уезда к издателю. С. 166. (обратно)286
Гельвеций К. А. Соч. М., 1973. Т. 2. С. 285–286. (обратно)287
Там же. М., 1973. Т. 1. С. 88. (обратно)288
Избранные социально-политические и философские произведения декабристов. М., 1951. Т. 1. С. 270. (обратно)289
Жуковский В. А. Письмо из уезда к издателю. С. 167. (обратно)290
Полевой Н. А., Полевой Кс. А. Литературная критика. С. 370. (обратно)291
Л. Авторы // Русская эпиграмма (XVIII — начало XX века). Л., 1988. С. 363. (обратно)292
Сев. пчела. 1830. № 22. 20 февр. (обратно)293
<Булгарин Ф. В.> Литературные новости, замечания и прочее // Лит. листки. 1824. № 7. С. 281–282. (обратно)294
<Надеждин Н. И.> «Евгений Онегин», роман в стихах. Глава VII, сочинение Александра Пушкина // Вестн. Европы. 1830. № 7. С. 197. (обратно)295
<Надеждин Н. И.> Летописи отечественной литературы / Телескоп. 1832. Ч. IX. № 9. С. 122. (обратно)296
Полевой Н. А., Полевой Кс. А. Литературная критика. С. 30. (обратно)297
Там же. С. 91. (обратно)298
Гоголь Н. В. Полн. собр. соч. М.; Л., 1952. Т. XII. С. 215. (обратно)299
Там же. Т. V. С. 137–138. (обратно)300
Вяземский П. А. Эстетика и литературная критика. М., 1984. С. 142–143. (обратно)301
Там же. С. 142. (обратно)302
Жуковский В. А. Стихотворения. Л., 1956. С. 298. (обратно)303
Гоголь Н. В. Полн. собр. соч. [М.; Л.], 1952. Т. XI. С. 46. (обратно)304
См.: Кривонос В. Ш. Проблема читателя в творчестве Гоголя. Воронеж, 1981. С. 16–21. (обратно)305
Гуковский Г. А. Реализм Гоголя. М.; Л., 1959. С. 527. (обратно)306
Бердяев Н. А. Русская идея // О России и русской философской культуре: Философы русского послеоктябрьского зарубежья. М., 1990. С. 115. (обратно)307
О представлениях самого Пушкина о славе см. также: Потапова Г. Е. А. С. Пушкин и Н. В. Гоголь о феномене литературной славы // «Внимая звуку струн твоих…». Сб. ст. Калининград, 1993. Вып. 2. С. 19–39. (обратно)308
Парнов Е. Ларец Марии Медичи. М., 1972. С. 410–411 (обратно)309
Кожинов В. Тютчев. М., 1988. С. 190. См. также его статью «Из чьей руки…» (Правда. 1989. 6 февр.). (обратно)310
Зуев Н. Служение России // Молодая гвардия. 1990. № 1. С. 286. (обратно)311
Ср. также: «Мы можем сказать, что миф <…> есть запечатленное в образах познание мира во всем великолепии, ужасе и двусмыслии его тайн» (Голосовкер Я. Э. Логика мифа. М., 1987. С. 14). (обратно)312
Земщина. 1909. 10 янв. Об антимасонской литературе начала XX в. см.: Базанов В. Вольное общество любителей российской словесности. Петрозаводск, 1949. С. 77–81; Рак В. Д. «Умбракул, распещренный звездами…» // Рус. лит. 1972. № 4. С. 165–174. (обратно)313
Первым «откровением» о масонском заговоре, якобы приведшем к падению русского самодержавия, в нашей стране стала книга Н. Н. Яковлева «1 августа 1914» (М., 1974). Позже появилось несколько таких работ и в их числе сборник «За кулисами видимой власти», выпущенный издательством «Молодая гвардия». В советской историографии эти публикации были восприняты как малопочтенный курьез, но в научной печати они не были в достаточной мере проанализированы. Наиболее энергично подверг их критике академик И. И. Минц в статье «Метаморфозы масонской легенды» (История СССР. 1980. № 4) и в своих интервью (Правда. 1986. 3 февр.; Огонек. 1987. № 1), но одиозность этой фигуры, о которой открыто заговорили в годы перестройки, позволила пренебречь критикой И. И. Минца. Лишь в последнее время появилась книга А. Я. Авреха «Масоны и революция» (М., 1990), в которой содержится убедительный анализ возникновения и бытования мифа о масонском характере февральской революции. (обратно)314
Прометей. М., 1974. Т. 10. С. 293–301. (обратно)315
Там же. С. 296, 299. (обратно)316
Статья, напечатанная во французской газете, написана, конечно же, одним автором, пользующимся обычным литературным приемом называния себя во множественном числе. (обратно)317
См.: Раевский Н. А. Портреты заговорили. Алма-Ата, 1976. С. 330. (обратно)318
Любопытно, что среди этих критиков часто оказываются идеологи тайных, заговорщицких корпораций, не чуждающихся мистики. Так, безуспешно попытавшись овладеть ширившимся во веем мире масонским движением, иезуиты впоследствии превратились в наиболее ожесточенных противников масонства, ревнуя к его успехам. Известна ненависть к масонству гитлеровского режима, во многом использовавшего аналогичные ритуалы и идеологию. В годы правления Сталина, сравнивавшего партию большевиков с орденом меченосцев, масонство было под запретом даже как тема исторического исследования, о нем лишь позволялось упоминать с обязательной резкой негативной оценкой, в том числе и применительно к Пушкину. Ср.: «Атеизм и свободолюбие А. С. Пушкина сказались в его критике масонства. А. С. Пушкин резко порицает „мистическую набожность“ и политическое бессилие масонства, ограничившегося „брюзгливым порицанием настоящего“» (Малинин В. А. Философские взгляды А. С. Пушкина: Автореф. дис. … канд. филос. наук. М., 1954. С. 3). Достаточно развернуть (что мы сделаем несколько ниже) пушкинскую цитату, воспроизведенную здесь маловразумительными клочками, чтобы убедиться в предвзятости данного безапелляционного утверждения. (обратно)319
См.: Кульман Н. К. К истории масонства в России. Кишиневская ложа // Журн. М-ва народного просв. 1907. Ч. XI. № 10. Отд. отт.; Щеголев П. Е. К истории пушкинской масонской ложи // Щеголев П. Е. Первенцы русской свободы. М., 1987. С. 231–235. В библиографии работ о русском масонстве мы находим около двух десятков статей, касающихся Пушкина (см.: Bourichkine P. Bibliographie sur la Franc-maçonnerie en Russie. Paris, 1967). (обратно)320
Осоргин М. Пушкин — вольный каменщик // Последние новости. 1937. 10 февр. (обратно)321
См.: Пыпин А. Н.: 1) Общественное движение в России при Александре I. СПб., 1900; 2) Религиозное движение при Александре I. Пг., 1916; 3) Русское масонство: XVIII и первая четверть XIX в. Пг., 1916. Характерно, что в современном учебном пособии (Яковкина Н. И. Очерки русской культуры первой половины XIX века. Л., 1989) о масонстве даже не упоминается. (обратно)322
Возможно, к этим страницам автобиографии тяготеет и другой пункт программы, записанный выше. Собираясь рассказать о французах, учителях своего отца, Пушкин помечает «[Mr.] Вонт. <?> секретарь Mr. Martin» (XII, 307). Может быть, в семейных преданиях сохранилось воспоминание о некоем сподвижнике видного теоретика масонства Л. К. Сен-Мартена (1743–1803), волею судеб оказавшемся в конце XVIII в. в Москве? (обратно)323
Руденская М., Руденская С. «Наставникам за благо воздадим». Л., 1986. С. 297. (обратно)324
Ниже в той же статье Пушкин приводит оценку книги Радищева, высказанную Екатериной II (в нынешней литературе эта оценка всегда приводится в существенно усеченном виде): «Он мартинист, говорила она Храповицкому (см. его записки), он хуже Пугачева, он хвалит Франклина» (XII, 33). (обратно)325
Цит. по: Базанов В. Вольное общество любителей российской словесности. С. 176–177. (обратно)326
См.: Модзалевский Б. Л. Пушкин под тайным надзором. 3-е изд. [Л.], 1925. С. 36–37. (обратно)327
Там же. С. 42–43. (обратно)328
Пыпин А. Н. Русское масонство: XVIII и первая четверть XIX в. С. 400–401. (обратно)329
Соколовская Т. Русское масонство и его значение в истории общественного движения (XVIII и первая четверть XIX столетия). СПб., 1908. С. 58. (обратно)330
Там же. С. 61. (обратно)331
См.: Семевский В. И. Декабристы-масоны // Минувшие годы. 1908. № 2. С. 1–50; № 3. С. 128–170; Дружинин Н. М. Масонские знаки П. И. Пестеля. М., 1929; Базанов В. Вольное общество любителей российской словесности. С. 77–100. (обратно)332
Гиллельсон М. И. Молодой Пушкин и арзамасское братство. Л., 1974. С. 59. (обратно)333
Там же. (обратно)334
Херасков И. М. Происхождение масонства и его развитие в Англии XVIII и XIX в. // Масонство в прошлом и настоящем. [М.], 1914. Т. 1. С. 16–17. (обратно)335
Гиллельсон М. И. Молодой Пушкин и арзамасское братство. С. 60, 64, 81–87. (обратно)336
Рус. арх. 1875. № 12. С. 423. А. Х. Бенкендорф, между прочим, сам был масоном и состоял в той же, что и П. С. Пущин, ложе «Соединенных друзей», но еще до официального запрещения лож, как видим, верноподданически оценил их зловредность. Александр I не дал официального хода этой «Записке», но после восстания декабристов она в полной мере была использована Следственным комитетом. (обратно)337
Согласно М. Осоргину — автору работы «Пушкин — вольный каменщик», «скорее можно предположить, что кишиневские масоны продолжали собираться до повсеместного закрытия в России масонских лож в августе 1822 года. Отчасти это подтверждается недавно опубликованными в Румынии документами о том, что ложа „Овидий“, ввиду начавшихся гонений, перечислилась в послушание великой румынской ложи» (Последние новости. 1937. 10 февр.). (обратно)338
Рус. лит. 1989. № 3. С. 166. (обратно)339
Рус. старина. 1870. Февр. С. 155. Здесь же см. подробное описание обряда приема в ложу, который, вероятно, по тому же ритуалу прошел 4 мая 1821 г. и Пушкин. (обратно)340
Важные новые сведения, уточняющие биографию П. С. Пущина и разрушающие бытовавшую легенду о его позднейшем ренегатстве, выявлены в статье В. Г. Бортневского и Е. В. Анисимова «Новые материалы о П. С. Пущине» (Временник Пушкинской комиссии. Л., 1989. Вып. 23. С. 157–161). (обратно)341
Замойский Л. За фасадом масонского храма: Взгляд на проблему. М., 1990. С. 158–159, 163. Бывший офицер французской службы Дегильи, которого поэт в июне 1821 г. вызывал на поединок, в ложе «Овидий» не состоял. Но сам факт готовности Пушкина к дуэли, когда он только-только стал масоном, по-своему интересен. Масонские правила, конечно же, дуэли осуждали. См.: Соколовская Т. Русское масонство и его значение в истории общественного движения (XVIII и первая четверть XIX столетия). С. 91. (обратно)342
Weber Н. В. Pikovaia dama: A Case for Freemasonry in Russian Literature / The Slavonic and East European Journal. 1968. Vol. XII. № 4; Leighton L. G. Pushkin and Freemasonry: «The Queen of Spades» // New Perspectives on Nineteenth-Century Russian Prose. Columbus (Ohio), 1982. (обратно)343
Плашевский Ю. О происхождении пасквильного «диплома» // Простор. 1983. № 4. С. 180. (обратно)344
Абрамович С. Л. Пушкин в 1836 году: Предыстория последней дуэли. Л, 1989. С. 85–86. (обратно)345
Щеголев П. Е. Дуэль и смерть Пушкина. 4-е изд. М., 1987. С. 368. Ср.: Шепелев Л. Е. Отмененные историей: Чины, звания и титулы в Российской империи. Л., 1977. С. 19. (обратно)346
Плашевский Ю. О происхождении пасквильного «диплома». С. 182–183. «Старейший научный сотрудник Эрмитажа Иван Георгиевич Спасский, — сообщает Г. Хаит, — которому я в свое время показывал фотографии оттисков этой печати, не признал здесь следов ни масонской, ни личной, ни служебной печати, настолько она перегружена символами. Итак, отводилась ли ей вообще какая-либо роль в задуманной травле поэта?» (Хаит Г. По следам предвестника гибели // Огонек. 1987. № 6. С. 20). (обратно)347
Той же печаткой были запечатаны и конверты, и сами вложенные в них пасквили, два из которых доныне сохранились в коллекции Института русской литературы РАН (ПД, оп. 2, № 3 и 4). (обратно)348
См.: Bakounine Т. Le repertoire biographique des francsmaçons russes.. Bruxelles, [S. a.]. P. 357. (обратно)349
Цявловская Т. Г. Примечания // Пушкин А. С. Собр. соч.: В 10 т. М., 1974. Т. II. С. 576. Ту же информацию находим и в кн.: Черейский Л. А. 1) Пушкин и Тверской край. М.; Калинин, 1985. С. 23–25; 2) Пушкин и его окружение. 2-е изд., доп. и переработ. Л., 1989. С. 64, а также: Керцелли Л. Тверской край в рисунках Пушкина. М., 1976. С. 129–137; Пьянов А. «Мои осенние досуги». М., 1983. С. 164–176; Кашкова В. «Я к вам пишу…»: Тверские мотивы в переписке А. С. Пушкина. М., 1987. С. 83–85. Ср.: Пушкин. Письма. М.; Л., 1928. Т. II. 1826–1830. С.348–349 (репринт: М, 1990). Надо указать, впрочем, что Павел Иванович Вульф был не дедом Катеньки Вельяшевой, а ее дядей, братом матери — Наталии Ивановны, урожденной Вульф. (обратно)350
Очевидно, не будет большой натяжкой утверждать, что и последнее четверостишие:(III, 151)
Последние комментарии
7 минут 9 секунд назад
4 часов 21 минут назад
6 часов 40 минут назад
8 часов 29 минут назад
14 часов 15 минут назад
14 часов 20 минут назад