Гать. Задержание. [Данил Аркадьевич Корецкий] (fb2) читать онлайн
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]

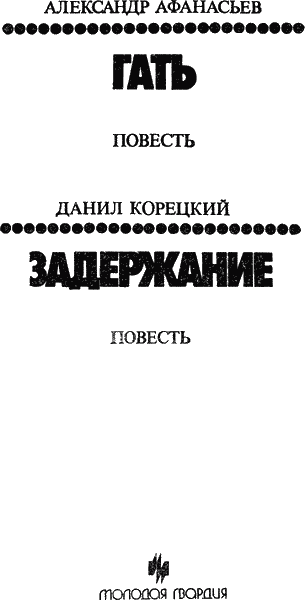
История создания повести «Гать» и обычна и необычна. Несколько лет назад встретился с интересным человеком-егерем одного из подмосковных охотхозяйств. Не слишком разговорчивый, внешне всегда спокойный и рассудительный, он производил впечатление замшелого лесного бирюка. Это было удивительно. Обычно егеря — прекрасные рассказчики… Короче говоря, слово за слово я вытянул из егеря историю его жизни, конечно, не очень похожую на судьбу моего главного героя Василия Егоровича. Позже началась работа над повестью. Пригодились воспоминания бывших партизан, очень помогли архивные материалы. Все это преломлялось через призму размышлений. Размышлений о судьбах людей, что волею обстоятельств оказались после войны безвинно осужденными и добившихся восстановления своего чистого имени через много лет.
Так четко стала обозначаться мысль, что на эмблеме современных чекистов щит стал преобладать над карающим мечом. Как символ защиты.
Об этом написана повесть «Гать», в этом моя авторская позиция.
Александр Афанасьев
Читатели детективов привыкли к предельно простой расстановке действующих лиц: потерявшие человеческий облик преступники и кристально чистые работники правоохранительных органов, не думающие ни о чем, кроме интересов дела. Газетные публикации последних лет разбили благостную картинку вдребезги, приоткрыв завесу над реальностью: нищетой следственного аппарата, злоупотреблениями сотрудников, фактами взаимодействия стражей закона с преступными элементами, случаями беспомощности честных сотрудников перед организованной преступностью.
Поэтому исследование художественными средствами негативных явлений внутри правоохранительных органов — назревшая задача детектива. Хотя, возможно, это уже будет не столько детектив, сколько разновидность «производственного» романа, ибо раскрытие и расследование преступлений — это тоже производство со своей технологией, своим производственным циклом, специфическими отношениями участников.
Данил Корецкий
Александр Афанасьев ГАТЬ
 Утро в горах начинается необыкновенно быстро и красиво. Сначала на востоке появляется белесая дымка, резко подчеркивающая рельеф гор. Потом золотеют вершины, а в долинах по-прежнему лежит таинственная и сонная темнота. Неожиданно дымка розовеет, становится багряной и… все заливает нежный, позже яркий свет солнца. А на улицах маленького городка по-прежнему тихо.
Как всегда, на этой узкой улочке первым появился пожилой пенсионер — газетчик. Он неторопливо снял с синей будки ставни, протер окна и разложил на узком прилавке свежие пачки газет. Пенсионер просмотрел одну газету за другой, бережно сложил в отдельную небольшую кучку — это для старых и постоянных покупателей. Осмотрелся, словно говоря: я готов, подходите.
Из трехэтажного дома напротив вышел высокий сутуловатый мужчина в серых брюках и бежевой рубашке навыпуск, под которой проступали широкие помочи. В одной руке он держал старый потертый портфель, в другой — соломенную шляпу. Мужчина прищурился, нацепил на нос темные очки в старомодной оправе и направился к киоску.
— Доброго здоровьичка, Михал Митрофанович.
— Дзенькую, пан Казимир, вам тож.
— А шо, Митрофаныч, нема вчерашней «Звездочки»?
— Нема, Казимир Митрич. Там статя була про зрад-ныкив, так розхваталы за пивчаса.
— Що за статя? — поинтересовался высокий.
— Та про тих катив, що у Львови у час вийны лютова-лы. Зараз их у Львови судят, так отож и статя з зала суда була.
— Ну и шо? — равнодушно бросил Казимир Дмитриевич, перехватывая портфель левой рукой.
— Як шо? Розстрилялы катюгив. Ты ввечери прыходь, я тоби свою газету дам… Добре?
— Добре. Ну бувай, а я почапаю на работу.
Казимир Дмитриевич нахлобучил на макушку шляпу и, шаркая дешевенькими сандалиями без задников, не спеша направился вверх по улице. Вскоре он остановился перед двухэтажным, красного кирпича, домом с неброской табличкой около резной дубовой двери: «Комбинат бытового обслуживания».
Казимир Дмитриевич машинально вытер ноги о железную решетку, вошел в здание, поднялся на второй этаж и ключом открыл дверь с надписью «Бухгалтерия». В маленькой комнате с двумя стоящими в торец столами было жарко, Казимир Дмитриевич доложил портфель на стол, открыл створки окна. Достал из стола тряпку и смахнул пыль со столешницы. Сел. Какое-то мгновение рассматривал стопку бумаг, что лежали справа, потом налил из графина в стакан воды и сунул в него кипятильник. Из верхнего ящика вынул коробочку с чаем, из портфеля сверток с бутербродами, и тут же раздался телефонный звонок. Казимир Дмитриевич удивленно бросил взгляд на часы и поднял трубку.
— Слухаю вас.
— Товарищ Кухорук?
— Да…
— Казимир Дмитриевич, це говорит слесарь Паламийчук з ЖЕКа… Будь ласка пройдить до дому. Вы не закрыли кран с водой и вона заливае сусыдив. Тильки швыдче… Мы вже хотилы дверь ломаты, але сусидка дала ваш телефон.
— Ой, лыхо, — всполошился Казимир Дмитриевич и суетливо стал хвататься то за портфель, то за шляпу. Потом сгреб в охапку и то и другое и выскочил из комбината. Всю дорогу он держался за сердце и тихонечко приговаривал:
— Ох неприемность, ой лыхо…
Он поднялся на третий этаж. Там никого не было. Он тыкал ключом в замочную скважину и никак не мог попасть. Неожиданно дверь открылась и чья-то сильная рука втащила его в прихожую. Сухо щелкнул замок и два раза провернулась щеколда. Казимир Дмитриевич с немым ужасом смотрел на человека, которого всю жизнь боялся как огня и от которого всю жизнь пытался спрятаться.
— Здравствуй, голубок ненаглядный… — раздался насмешливый баритон. — Давненько не видились, давненько…
Казимир Дмитриевич обмяк и тяжело опустился на стул. Он судорожно попытался расстегнуть ворот рубахи, но не смог.
— В…во-ды…
— Обойдешься… Ты получал мою открытку?
Неожиданный вопрос и деловой тон человека, втащившего его в собственную квартиру, подействовал на Кухорука: он вдруг успокоился и кивнул головой.
— Почему не приехал? Почему скрылся?
Казимир Дмитриевич выдавил жалкую улыбку.
— Ладно, не бойсь… Поговорим мирно… Где пленка?
— Какая?
— Я тебя спрашиваю о той пленке, которую ты уничтожил в сорок втором, так ведь ты потом говорил в гестапо?
— Так… — отвел глаза Казимир Дмитриевич. — Видит бог, что уничтожил.
— Оставь бога в покое… Так где пленка?
Кухорук молчал, лихорадочно прикидывал, как мог «этот» узнать о пленке. Было только двое: он и тот парень, что погиб при операции. А что, если он жив? Тогда… тогда только один выход: отдать пленку «этому».
Казимир Дмитриевич вдруг закатил глаза и мешком рухнул на пол. Собеседник наблюдал за ним с неподдельным интересом. Потом небольно толкнул носком ботинка в бок.
— Вставай… В молодости у тебя лучше получалось.
Кухорук встал и, отряхнув колени, как ни в чем не бывало сел на стул.
— Артист… Так вернемся к нашим баранам. Где пленка? — В голосе прозвучала угроза, и Кухорук понял, что тянуть дальше опасно.
— Э… — промычал он, не зная, как назвать собеседника.
— Станислав Миронович, — усмехнулся тот. — Как видишь, у меня имя тоже красивое…
— Станислав Миронович, была такая пленка… была. Не знаю только, сохранилась или нет…
— Короче.
— Я ее спрятал… там, в подвале здания.
— Врешь!.. Слушай, Кухорук или как там тебя… Ты меня знаешь… — Станислав Миронович схватил его за плечи и рывком поднял. — Убью…
— Клянусь… клянусь… У меня даже план нарисован.
Казимир Дмитриевич лихорадочно схватил портфель и оторвал подкладку. — Вот смотрите…
Станислав Миронович выхватил из дрожащей ладони пожелтевший листок с коряво начерченными тушью линиями.
— Вот это штаб, — пояснял бледный Кухорук, — это казарма, столовая… А вот это здание, где были учебные классы.
— Вижу…
— А вот дом, где жил я, Непомнящий… Помните такого?
— Помню, царство ему небесное.
— Вот в фундаменте его дома, в подвале я и спрятал… Левый угол, второй кирпич сверху… если его вынуть…
— Ну, если врешь…
— Клянусь…
Станислав Миронович сунул листок в карман и, прищурившись, посмотрел на Кухорука.
— Еще вопрос, милейший Казимир Дмитриевич… А зачем ты оставил эту пленку? Если бы ее нашли, то тебе, дорогой друг, — он выразительно провел ладонью по шее, — каюк бы пришел с ходу!
— Зачем? — Кухорук перевел взгляд на встроенный шкаф и чуть заметно пожал плечами. — Затем… Вы человек независимый! Вас бы немцы не бросили… А я что? Плесень… смахнул, и делу конец. Вот и я сделал себе припасец на случай, если вы бы меня вышвырнули при отъезде — особистам подарок, мне — жизнь…
— Ну что-то в этом роде я и подозревал, — усмехнулся Станислав Миронович и сунул руку в карман. — Так вот, Кухорук Казимир Дмитриевич, помнишь еще, что это такое? — Он медленно вытащил из кармана узкую кожаную полоску с металлической петелькой на конце. — Добре помъятаешь?
Кухорук в страхе откинулся на стуле, лицо его вдруг посерело, губы почернели, он пытался дрожащими руками оттолкнуть страшный ремешок от своего лица. Внезапно он захрипел, на губах выступила пена, и он медленно сполз на пол, сильно ударившись головой. Станислав Миронович наклонился и поднял веко, присвистнул, пощупал пульс, потом подхватил обмякшее, потяжелевшее тело и затащил в комнату.
Через несколько минут он тихо вышел из квартиры. Постоял, вернулся в ванную, бросил в раковину тряпку и открыл кран. Тихо прикрыл дверь и спустился на площадку второго этажа. Выглянул в окно, что выходило в старый заросший сад, несколько мгновений стоял прислушиваясь, потом легко спрыгнул на траву и скрылся в зарослях кустарника.
Утро в горах начинается необыкновенно быстро и красиво. Сначала на востоке появляется белесая дымка, резко подчеркивающая рельеф гор. Потом золотеют вершины, а в долинах по-прежнему лежит таинственная и сонная темнота. Неожиданно дымка розовеет, становится багряной и… все заливает нежный, позже яркий свет солнца. А на улицах маленького городка по-прежнему тихо.
Как всегда, на этой узкой улочке первым появился пожилой пенсионер — газетчик. Он неторопливо снял с синей будки ставни, протер окна и разложил на узком прилавке свежие пачки газет. Пенсионер просмотрел одну газету за другой, бережно сложил в отдельную небольшую кучку — это для старых и постоянных покупателей. Осмотрелся, словно говоря: я готов, подходите.
Из трехэтажного дома напротив вышел высокий сутуловатый мужчина в серых брюках и бежевой рубашке навыпуск, под которой проступали широкие помочи. В одной руке он держал старый потертый портфель, в другой — соломенную шляпу. Мужчина прищурился, нацепил на нос темные очки в старомодной оправе и направился к киоску.
— Доброго здоровьичка, Михал Митрофанович.
— Дзенькую, пан Казимир, вам тож.
— А шо, Митрофаныч, нема вчерашней «Звездочки»?
— Нема, Казимир Митрич. Там статя була про зрад-ныкив, так розхваталы за пивчаса.
— Що за статя? — поинтересовался высокий.
— Та про тих катив, що у Львови у час вийны лютова-лы. Зараз их у Львови судят, так отож и статя з зала суда була.
— Ну и шо? — равнодушно бросил Казимир Дмитриевич, перехватывая портфель левой рукой.
— Як шо? Розстрилялы катюгив. Ты ввечери прыходь, я тоби свою газету дам… Добре?
— Добре. Ну бувай, а я почапаю на работу.
Казимир Дмитриевич нахлобучил на макушку шляпу и, шаркая дешевенькими сандалиями без задников, не спеша направился вверх по улице. Вскоре он остановился перед двухэтажным, красного кирпича, домом с неброской табличкой около резной дубовой двери: «Комбинат бытового обслуживания».
Казимир Дмитриевич машинально вытер ноги о железную решетку, вошел в здание, поднялся на второй этаж и ключом открыл дверь с надписью «Бухгалтерия». В маленькой комнате с двумя стоящими в торец столами было жарко, Казимир Дмитриевич доложил портфель на стол, открыл створки окна. Достал из стола тряпку и смахнул пыль со столешницы. Сел. Какое-то мгновение рассматривал стопку бумаг, что лежали справа, потом налил из графина в стакан воды и сунул в него кипятильник. Из верхнего ящика вынул коробочку с чаем, из портфеля сверток с бутербродами, и тут же раздался телефонный звонок. Казимир Дмитриевич удивленно бросил взгляд на часы и поднял трубку.
— Слухаю вас.
— Товарищ Кухорук?
— Да…
— Казимир Дмитриевич, це говорит слесарь Паламийчук з ЖЕКа… Будь ласка пройдить до дому. Вы не закрыли кран с водой и вона заливае сусыдив. Тильки швыдче… Мы вже хотилы дверь ломаты, але сусидка дала ваш телефон.
— Ой, лыхо, — всполошился Казимир Дмитриевич и суетливо стал хвататься то за портфель, то за шляпу. Потом сгреб в охапку и то и другое и выскочил из комбината. Всю дорогу он держался за сердце и тихонечко приговаривал:
— Ох неприемность, ой лыхо…
Он поднялся на третий этаж. Там никого не было. Он тыкал ключом в замочную скважину и никак не мог попасть. Неожиданно дверь открылась и чья-то сильная рука втащила его в прихожую. Сухо щелкнул замок и два раза провернулась щеколда. Казимир Дмитриевич с немым ужасом смотрел на человека, которого всю жизнь боялся как огня и от которого всю жизнь пытался спрятаться.
— Здравствуй, голубок ненаглядный… — раздался насмешливый баритон. — Давненько не видились, давненько…
Казимир Дмитриевич обмяк и тяжело опустился на стул. Он судорожно попытался расстегнуть ворот рубахи, но не смог.
— В…во-ды…
— Обойдешься… Ты получал мою открытку?
Неожиданный вопрос и деловой тон человека, втащившего его в собственную квартиру, подействовал на Кухорука: он вдруг успокоился и кивнул головой.
— Почему не приехал? Почему скрылся?
Казимир Дмитриевич выдавил жалкую улыбку.
— Ладно, не бойсь… Поговорим мирно… Где пленка?
— Какая?
— Я тебя спрашиваю о той пленке, которую ты уничтожил в сорок втором, так ведь ты потом говорил в гестапо?
— Так… — отвел глаза Казимир Дмитриевич. — Видит бог, что уничтожил.
— Оставь бога в покое… Так где пленка?
Кухорук молчал, лихорадочно прикидывал, как мог «этот» узнать о пленке. Было только двое: он и тот парень, что погиб при операции. А что, если он жив? Тогда… тогда только один выход: отдать пленку «этому».
Казимир Дмитриевич вдруг закатил глаза и мешком рухнул на пол. Собеседник наблюдал за ним с неподдельным интересом. Потом небольно толкнул носком ботинка в бок.
— Вставай… В молодости у тебя лучше получалось.
Кухорук встал и, отряхнув колени, как ни в чем не бывало сел на стул.
— Артист… Так вернемся к нашим баранам. Где пленка? — В голосе прозвучала угроза, и Кухорук понял, что тянуть дальше опасно.
— Э… — промычал он, не зная, как назвать собеседника.
— Станислав Миронович, — усмехнулся тот. — Как видишь, у меня имя тоже красивое…
— Станислав Миронович, была такая пленка… была. Не знаю только, сохранилась или нет…
— Короче.
— Я ее спрятал… там, в подвале здания.
— Врешь!.. Слушай, Кухорук или как там тебя… Ты меня знаешь… — Станислав Миронович схватил его за плечи и рывком поднял. — Убью…
— Клянусь… клянусь… У меня даже план нарисован.
Казимир Дмитриевич лихорадочно схватил портфель и оторвал подкладку. — Вот смотрите…
Станислав Миронович выхватил из дрожащей ладони пожелтевший листок с коряво начерченными тушью линиями.
— Вот это штаб, — пояснял бледный Кухорук, — это казарма, столовая… А вот это здание, где были учебные классы.
— Вижу…
— А вот дом, где жил я, Непомнящий… Помните такого?
— Помню, царство ему небесное.
— Вот в фундаменте его дома, в подвале я и спрятал… Левый угол, второй кирпич сверху… если его вынуть…
— Ну, если врешь…
— Клянусь…
Станислав Миронович сунул листок в карман и, прищурившись, посмотрел на Кухорука.
— Еще вопрос, милейший Казимир Дмитриевич… А зачем ты оставил эту пленку? Если бы ее нашли, то тебе, дорогой друг, — он выразительно провел ладонью по шее, — каюк бы пришел с ходу!
— Зачем? — Кухорук перевел взгляд на встроенный шкаф и чуть заметно пожал плечами. — Затем… Вы человек независимый! Вас бы немцы не бросили… А я что? Плесень… смахнул, и делу конец. Вот и я сделал себе припасец на случай, если вы бы меня вышвырнули при отъезде — особистам подарок, мне — жизнь…
— Ну что-то в этом роде я и подозревал, — усмехнулся Станислав Миронович и сунул руку в карман. — Так вот, Кухорук Казимир Дмитриевич, помнишь еще, что это такое? — Он медленно вытащил из кармана узкую кожаную полоску с металлической петелькой на конце. — Добре помъятаешь?
Кухорук в страхе откинулся на стуле, лицо его вдруг посерело, губы почернели, он пытался дрожащими руками оттолкнуть страшный ремешок от своего лица. Внезапно он захрипел, на губах выступила пена, и он медленно сполз на пол, сильно ударившись головой. Станислав Миронович наклонился и поднял веко, присвистнул, пощупал пульс, потом подхватил обмякшее, потяжелевшее тело и затащил в комнату.
Через несколько минут он тихо вышел из квартиры. Постоял, вернулся в ванную, бросил в раковину тряпку и открыл кран. Тихо прикрыл дверь и спустился на площадку второго этажа. Выглянул в окно, что выходило в старый заросший сад, несколько мгновений стоял прислушиваясь, потом легко спрыгнул на траву и скрылся в зарослях кустарника.
— Я не спорю: может, Кудряшов и толковый мужик, но назначать его сразу старшим оперуполномоченным нельзя. Он пока не оперативный работник — опыта нет. Владимир Иванович Росляков закурил и с вызовом посмотрел на начальника отдела кадров Бугримова и своего заместителя Петрова. — Кудряшов — оперативный работник, — негромко произнес Петров. — Трехмесячные курсы? Шалишь, брат… Вот Игорь Егоров, он уже три года пашет… — Ты, Владимир Иванович, Егорова не сравнивай с Кудряшовым. — Бугримов усмехнулся. — Кудряшову за тридцать, и он пять лет работал заведующим орготделом областного комитета комсомола! А партийная работа — та же оперативная… — Я еще раз повторяю: не против я Кудряшова… Сам давал согласие, когда его оформление начиналось, беседовал несколько раз… Нормальный парень, но мне, честно говоря, не показался… И потом, мое глубокое убеждение, что человек в органах госбезопасности должен пройти все ступеньки: младший оперуполномоченный, просто опер, а уж потом — старший. Старший оперуполномоченный — руководитель группы! А вы: Кудряшов… Подумаешь, заведующий орготделом! — Вот что, Владимир Иванович. — Высокий, сутулый, с большими залысинами и чуть запавшими глазами, Бугримов всегда казался суровым и неулыбчивым. — Кончим разговор. Приказ подписан, и нечего его обсуждать… Кудряшов идет с партийной работы в органы, и это надо учитывать. Росляков долго молча смотрел на Бугримова, потом перевел взгляд на Петрова, который задумчиво листал личное дело Кудряшова. — А может, его сначала… на хозяйственную работу куда-нибудь. Ты посмотри: ну какой он, к черту, оперативный работник! — Володя, а ты ведь в органы тоже из обкома комсомола пришел… и, по-моему, сразу старшим оперуполномоченным. Что же ты традицию не соблюдаешь, нехорошо! — Петров бросил лукавый взгляд на Владимира Ивановича. Росляков побагровел и потянулся к пачке с сигаретами. Петров не выдержал и захохотал, улыбнулся молчаливый Бугримов. Владимир Иванович с досадой швырнул сигарету и засмеялся. — Черт с вами… но учтите — пять шкур с него буду драть! Раз старший оперуполномоченный, значит, и спрашивать буду соответственно.
Андрей стоял около письменного стола, разглядывая своего начальника. — Здравствуй, Андрей Петрович. Садись. — Росляков кивнул на кожаное кресло. — Значит, так… Чтобы не было каких-то недомолвок, я тебе сразу скажу — старшего оперуполномоченного ты получил с большим авансом. Должность серьезная, ответственная. Старший опер у нас — руководитель, а тебе поручить группу сотрудников я пока не могу. Нет опыта… Даю две-три недели на знакомство с архивами, обстановкой… И за работу… Людей у меня в отделе немного. Вопросы будут? — Нет. Владимир Иванович набрал на диске телефонного аппарата короткий номер. — Егоров… зайди ко мне. Андрей встал. — Игорь, это новый оперативный работник Кудряшов. Покажи ему наше хозяйство, расскажи… Сидеть будет с тобой. У тебя, кажется, в комнате свободный стол есть? Вот и отлично… Кабинет, в котором теперь предстояло работать Андрею, был маленький. Два стола, два сейфа, на одной стене висит портрет В. И. Ленина, на другой портрет Ф. Э. Дзержинского. Около двери книжный шкаф. — Вот твой стол, — Игорь Егоров, высокий, широкоплечий парень с резкими чертами лица, добродушно улыбнулся и показал рукой в угол комнаты, — твой сейф. Ключи от него возьмешь в секретариате…
Утром следующего дня Андрей зашел в секретариат за документами. Секретарь отдела Наташа Румянцева, стройная девушка с пышной копной светлых волос и черными, словно смоль, глазами, записала документы в журнал и молча протянула его Андрею. Он расписался и, читая на ходу, направился к дверям. — Андрей Петрович, — догнал его негромкий голос. — Да… — Андрей Петрович, вы не хотите своих детей на зимние каникулы в пионерлагерь отправить? — Каких детей? — не понял Андрей, оборачиваясь. — Моих? Нет у меня никого… — Наташенька, — захохотал сидящий за столом Игорь Егоров, — он у нас нецелованный! Нет у тебя подруги на примете, чтобы женить джигита? — Хороши мужчины, — лукаво улыбаясь, включилась в игру Наташа, — а я что, не гожусь? Такую женщину не замечают… — Наталья! — театрально падая на колени, завопил Игорь, — прошу руку… с журналом входящих документов! Неожиданно дверь секретариата распахнулась и в комнату стремительно вошел Росляков. Он удивленно посмотрел на стоящего на коленях Егорова, потом на сконфуженного Андрея и хмыкнул. — Кудряшов, зайди ко мне… А ты, Игорь, температуру меряй по утрам… По-моему, у тебя не все в порядке с вестибулярным аппаратом… — Полковник еле заметно улыбнулся. — Наташа, срочно передайте эти документы начальнику управления. — Проходите, Кудряшов, не стесняйтесь… — бросил Росляков, распахивая дверь кабинета. Он был среднего роста, круглолицый, редкие, с сильной проседью волосы зачесаны на пробор. Сбит плотно, крепко. Коричневый костюм сидит как влитой. На груди пять рядов орденских планок, справа — знак «Почетный чекист». «Интересно, какой он в молодости был, — размышлял Андрей, незаметно разглядывая Рослякова, — если сейчас полон сил и энергии. Всю войну в тылу просидел… у гитлеровцев. Вот уж, наверное, порассказать может!» — Ты чего? — покосился на Андрея полковник. — Да так. — Вот что, Андрей Петрович, вчера в приемную управления поступило заявление от гражданина Дорохова… — Росляков бросил взгляд на раскрытую тонкую папку. — Да… Дорохова. Вот ознакомься… Потом пригласи самого заявителя в побеседуй. Знаешь, личное общение может многое дать… Присмотрись.
Дверь приоткрылась, и в комнату боком втиснулся человек в распахнутом полушубке и нерешительно остановился на пороге. — Можно? — Да, да, проходите, пожалуйста. — Благодарствую. — Человек сделал несколько шагов, тяжело припадая на правую ногу, и неловко, боком опустился на стул. Не спеша осмотрелся, что-то обдумывая. Достал из полушубка платок: большой, белый в синий горошек, вытер лицо, громко высморкался. Еще раз посмотрел на Андрея, на зарешеченное окно и усмехнулся. — Вы меня по моему заявлению вызвали? — Да… Сначала давайте познакомимся. Меня зовут Андрей Петрович Кудряшов. — Дорохов Василий Егорович. — Василий Егорович, мне не особенно понятно ваше заявление… Вы просите разобраться в вашем деле, по ничего… — Точно, — хрипло перебил Дорохов, — разобраться в моем деле… А то, значитца, как-то не того… — Но вы не пишете ничего конкретного. — Чего писать, когда сказать можно… — Дорохов сумрачно посмотрел на телефонный аппарат и ровным, без малейшего выражения голосом продолжил: — Житья мне нет… На свет смотреть тошно… — Хорошо, Василий Егорович, расскажите суть дела. — Дело это не простое… — Дорохов вздохнул и начал медленно рассказывать, то и дело поглядывая на окно. Его обветренное грубоватое лицо было непроницаемо, голос звучал глухо: — Значитца, так… Были мы колхозниками. Правление было в Гераньках — деревня такая, километрах в десяти от наших Ворожеек. Красная Армия мимо нас не проходила: дорог нет, кругом болота… Боев особых тоже не было. Погрохотало недалече и кончилось. Стороной, значитца, прошли… А через неделю и фашисты нагрянули на мотоциклах, человек эдак с полсотни. Пришли, по избам разместились, кое-какую скотину в расход пустили: там корову прирезали, тут поросенка забили, гусей и кур постреляли… Сход собрали и приказали продукты сдавать, старосту откуда-то привезли… Вот так… А директором школы в вашей деревне был Тимофей Смолягин. Из наших, из ворожейских. Кончил техникум учительский в городе и вернулся детишек учить. В тот самый день, как немцы пожаловали, он пропал, словно в воду канул. Догадывался я, что он в лес подался — Тимоха перед этим самым все про места наши расспрашивал. Что да как? Да как лучше туда пройти, а как здесь пробраться, где речушка Марьинка начинается… Я в то время егерем в охотхозяйстве работал. В армию не взяли, — Дорохов похлопал по правой ноге, — на повале сосна на ногу упала. Хорошо еще место мокрое было — вдавило ногу в мох. Провалялся я в районной больнице, а как вышел, нога гнуться перестала: что-то в колено раздавило стволом-то, значитца. Так что в армию дорога мне заказана была — инвалид. Хорошо еще, что в лесничестве на это не посмотрели и разрешили работать… А может, и в лес меня Тимоха не взял поэтому, — неожиданно заметил он, — морока с таким, как я… А лес-то лучше меня никто в деревне не знал. Охотился я сызмальства, да и дед с отцом охотниками были. — Он замолчал, глядя куда-то поверх головы Андрея и беззвучно шевеля губами. — Однако время пришло, и стали партизаны фрицев потихонечку щупать. То обоз отобьют, то гать порубят, а по нашим местам это беда — болота опять же… Потом затихли… Фашисты тем временем наладились на Выселках торф добывать, раньше-то там торфоразработка была. Нагнали, значитца, туда пленных и начали потихонечку ковыряться… Так и жили. Однажды просыпаюсь я от выстрелов. Слышу, бухают на Выселках, автоматы строчат, винтарн ахают. Тимошкину-то фузею я сразу узнал — дедово ружьишко, двенадцатого калибра. Бьет, словно кобель с перепугу брешет. Всю ночь стреляли, а под утро стихло все… Дня через два узнаем, что партизаны ночью напали на немцев, которые на Выселках обосновались и человек десять из охраны положили… Наехало тогда фрицев страсть как много, похватали стариков, баб, да и постреляли за деревней на выгоне. Шестнадцать человек загубили, а потом сказали: «Еще будут бандиты появляться — каждого второго расстреляем!» Дальше — хуже. Нагнали полицаев из Ворожеек, и стали те по дворам ходить, выспрашивать. Наши-то, вестимо, помалкивают. Говорят, что в армии мужики, а кто пропал без вести… А отряд с тех самых пор словно сгинул. С год прошло, а то и боле, когда стучится ко мне ночью кто-то. Я жил в лесу, до деревни с версту было… Подошел к двери, спрашиваю, кто, дескать, стучится. Слышу шепот: «Открой, Василий, я это — Тимофей». Открываю. Стоит на пороге Тимоха, ободранный весь, голова перевязана, на шее автомат немецкий. — Есть кто в избе? — Никого, — говорю, — Варвара в Ворожейках у тещи осталась, один я. Прошел он в избу, разделся. Накормил я его, напоил чаем. С собой собрал, что в избе было. Соснул Тимоха часа три, потом встал и говорит: — Я, Василий, к тебе не только за этим пришел… Разговор есть. Знаю я тебя давно, поэтому и откроюсь, не таясь… Нужен мне человек свой в Ворожейках. Позарез нужен… Да такой, чтобы с ним встречаться ладно было… Окромя тебя, нет никого. Живешь ты в лесу, человек покалеченный, значит, в партизанах состоять не можешь, так что немцы тебя не заподозрят. Помоги, брат, больше некому. Согласился я не сразу, честно говорю. Уж больно мне обидно было, что он меня в отряд не взял. — Дорохов вытащил из пачки папиросу, вопросительно посмотрел на Андрея, закурил, смачно затягиваясь. — Да… не соглашался я… Говорил, что не под силу мне, что, дескать, калека… А сам думаю: «Как на охоту, так, Васька, отведи, а как в отряд немаков бить, так погоди! Попроси ужотко, попроси…» Потом согласился, конечно: куда они без меня в болоте-то! — Пойдешь завтра к фашистам, — говорит Тимоха, — и попросишься лесничим на Радоницкие болота. Скажешь, что не емши сидишь или что-то другое — тебе виднее. Они на это должны пойти — им тоже нужен человек в сторожке… Будешь приглядываться, присматриваться. Знать о том, что ты наш человек, никто, окромя меня, не будет, а ты тоже вида не показывай — беду накличешь. Ежели немцы к тебе нагрянут, на трубу сторожки поставь горшок, ну как в деревне делают, чтобы дождь трубу не заливал, а я из бинокля увижу… А встречаться будем у озерца, которое справа от тропы начинается, около кривой березы. Понял? — Как, — говорю, — не понять… Только вот что на деревне обо мне подумают? — Ничего, — отрезал Тимоха, — стерпишь. Наши придут, все на свои места встанет. Твой черед пришел, Василий. Дорохов замолчал и, что-то вспоминая, беззвучно пошептал губами. — На следующий день пошел я к старосте, — неожиданно громко продолжил он, — и попросился лесничим. Тот выслушал, потом позвал полицаев, и стали они меня расспрашивать, что да как, да почему вдруг… Я, понятное дело, твержу, как Тимоха учил: дескать, есть нечего, припасов не осталось, живности у меня отродясь не было, промышлял только охотой, а тут приказ властей — ружьишко отобрали, а как жить? Долго они меня мурыжили, но потом говорят: «Ладно, Дорохов, будешь лесничим, а обязанность твоя — дичь поставлять…» Дали бумагу какую-то, винтовку, шипел-ку, и стал я для них бить уток, косачей, а ежели кабан подворачивался, то и кабана валил. Да, я им еще сказал тогда, как дичь-то доставлять — путь до Ворожеек не ближний. Тогда один из них — тонкий такой, гибкий, словно хлыст, — и говорит: «Мы тебе лошаденку дадим, телегу, и наши люди будут к тебе в сторожку наведываться, дичь забирать… А ты, голубок, присматривай в лесу… Если забредет кто к тебе, не пугай, поговори, приласкай. Узнай, откуда, кто, куда. В общем сам понимаешь. Продуктами помоги, если попросят… Потом наш человек придет, все ему и расскажешь, а за это, голубок, заплатят тебе отдельно…» — Ну и приходили? — спросил Андрей. — Тимоха приходил, — ответил Дорохов, — много раз приходил, расспрашивал. Просил к разговорам полицаев прислушиваться и запоминать. Сволочуги эти меня надолго одного не оставляли: только один уйдет, второй является, а то трое сразу нагрянут. Даже самогон пришлось для них гнать — самогон-то язык развязывает, а я им еще для дури на дубовом корне да на махре настаивал, — Дорохов усмехнулся, — двумя стаканами с ног валил… Один чаще всех ходил. Я его поначалу даже жалел немного: больно молчаливый да болезный с виду какой-то. Самогон не пил, сядет в сторонке, скрутит самокрутку и дымит, во двор выйдет, по хозяйству норовит помочь: изгородь подопрет, дров наколет или сходит в лес и грибов в шапке принесет. Так и шло время. Месяца четыре прошло после того разговора в полиции. Один раз приезжает белобрысый, распряг лошадь и в избу. — Ну что, хозяин, есть мясо? — Есть, — отвечаю, — сейчас возьмешь или завтра? — Обижаешь, — улыбается, — кто же ночью ездит. Ненароком в трясину угодишь с гати-то… А сам смотрит на меня, а у меня аж спина похолодела: наутро должен был Тимоха прийти. Попил белобрысый чайку и улегся на лавку. Я на печь. Лежим, молчим. Чувствую, не спит гостек, по дыханию чувствую, не спит… Долго так лежали, меня даже сон начал смаривать, когда слышу шепот: «Хозяин, хозяин, дай-ка водички испить». Лежу как мышь… Он громче. Потом поднялся потихонечку, подошел ко мне и карманным фонариком в лицо посветил. Я лежу, словно не чую. Тогда он к моей одеже подошел и по карманам порыскал, под печь заглянул, по углам… Потом подходит к двери, открыл ее и в сени, там поковырялся. Вышел во двор и там что-то шастал. Снова в дом зашел и снова посветил на меня, взял автомат и вышел. Я к окну — смотрю, идет мой гость к лесу и оглядывается, дошел до кустов и пропал… Долго я лежал, ждал его. Светать начало, я, значитца, хвать горшок и на стремянку, чтоб на крышу влезть да горшок приспособить. Да разве с одной ногой быстро управишься: пока залез, пока слез. Только хотел лестницу убрать, как слышу: — Что это ты, хозяин, горшок-то на трубу поставил? Так и обмер я. Поворачиваюсь: гость мой стоит, недобро щурится и автомат у живота держит. — Странное дело, сколько раз мы ни приезжали, горшка нет, потом вдруг ты начинаешь его приспосабливать. К чему бы это? А мясо кому сплавляешь, хозяин? Вот ты мне кабана приготовил, а там за поляной в кустах потрохов и ног на два зарыто. Кому мясо отдаешь? Кому знаки подаешь? — Тык меня дулом автомата под дых, да так, что я пополам согнулся. Бил он меня долго и все старался сапогом в лицо попасть. Бьет и спрашивает, бьет и спрашивает… Забылся я, и кажется мне, вроде выстрел… Потом вода в лицо льется. Открыл глаза — Тимоха стоит, а поодаль полицай этот валяется с раскинутыми руками. Тимоха, увидев горшок на крыше, подкрался незаметно к избушке поразведать, что к чему. — Спасибо, — говорю, — Тимоха. Выручил ты меня. Тимоха обыскал убитого, вытащил какую-то бумажку, прочитал и только головой покрутил и сразу же заспешил. — Прощевай, — говорит, — Василий, педели через две наведаюсь, а то фашисты катят… Обнял меня и в лес. Только скрылся, и немцы на мотоциклах подъехали. Сначала к полицаю подскочили, потом ко мне. — Помогите, — говорю, — наскочили какие-то люди, стали бить, а когда ваш парень вступился, то его и порешили, а меня до смерти забили. — Дурак, — заорал на меня Хлыст, — партизаны это были. Откуда только они взялись? Целый год ни слуха ни духа не было… Куда пошли? Сколько было? — Много, — говорю, — в сторону бочагов пошли. Погалдели они, бросили труп в коляску и уехали, а часть осталась и Хлыст тоже. Прошли они по тропинке и собаку даже взяли, да без толку — вода там кругом, никакая собака не возьмет след… Вернулись, снова начали расспрашивать, только я сознание потерял, а очнулся: на кровати лежу, и Варвара рядом. Вечером другого дня слышу стрельбу. Меня как током ударило, выскочил на крыльцо в чем мать родила — слышу, на болоте около островов бьют. Долго стреляли, даже из минометов да пушек били. Только к полудню следующего дня стихло… Потом фашисты приехали. На подводах своих убитых привезли и раненых. Крепко им, видимо, досталось от Тимохиных ребят, те, кто своим ходом пришел, тоже почти все перевязанные были. Машина подъехала, в ней офицеры и Хлыст. Прямиком к моей избе. Хлыст вошел и говорит: — Ну, голубок, можешь жить спокойно: никто тебя теперь пальцем не тронет… некому — всех до единого положили. Сердце у меня захолонуло, я даже присел на лавку. Думал, что врут… Пришел в себя и отправился на плешаки… Гляжу — места живого нет, все взрывами раскидано… Я, честно говоря, догадывался, где Тимоха с ребятами прятались… В середине Ивановских Плешаков островки были, маленькие, с гулькин нос, а все же переспать на них, чтоб в воде не мокнуть, можно. Иду прямо туда, а сам примечаю: чем ближе к островкам, тем больше кустов и деревьев побито, а самый ближний остров весь минами искорежен — одни ямы с водой. Обошел я островки и ничего не нашел, окромя стреляных гильз… Домой вернулся, на следующий день решил вдоль болота пройти — может, где следы найду. Может, значитца, ребята все-таки ушли. Все пролез — пусто… Камыш да осока долго следы не хранят… В одном месте, — Дорохов задумчиво почесал переносицу, — вроде был какой-то след, похоже, кабан брюхом по осоке прошел. Да кто его знает?.. — Так, а что дальше было? — повторил Андрей, порядком уставший от этого рассказа. — Дальше — просто, — Дорохов невесело усмехнулся. — Потом паши пришли, в деревне не задержались… А потом в конце войны забрали меня… Я, значитца, говорю, что меня Смолягин на службу к фашистам послал, а они мне — разберемся… Потом судили. Дали пятнадцать лет как пособнику… В пятьдесят седьмом освободили, значитца… Приехал домой, на работу никто не брал даже сторожем. Потом — спасибо добрым людям — помогли лесником устроиться… Детишек родил… А вот в селе!.. В селе до сих пор мне не верят, шкурой зовут, и парнишкам прохода нет… Через несколько дней Росляков вызвал Андрея в кабинет. Он некоторое время молча рассматривал его, словно прикидывая, с чего начать. Закурил. Достал из папки какую-то бумагу. Андрей узнал свою справку о беседе с Дороховым. — Андрей Петрович, заявление гражданина Дорохова и ваш материал рассмотрены руководством управления, и есть указания заняться этим делом. Вести дело поручено вам… — Есть, товарищ полковник, — сказал Андрей, поднимаясь из кресла, и тут же опустился обратно, заметив нетерпеливый жест полковника. — Когда можно приступать? — Приступать? — Росляков курил, о чем-то размышлял. — Приступать… Ты вот что, Андрей Петрович, усаживайся поудобнее, я тебе одну историю расскажу. Дело Дорохова, оказывается, тесно связано с историей гибели партизанского отряда Тимофея Смолягина. Андрей посмотрел на Рослякова. — В июне и июле сорок первого года по заданию обкома партии и руководства управления готовилась группа командиров партизанских отрядов. Смолягин был одним из самых молодых. Высокий, белобрысый, с ярко-синими глазами… Был человеком удивительным: не по годам серьезный, вдумчивый. И задание у него было особое, и отряд особый… Он так и назывался: особый партизанский отряд. Основным заданием его была разведка… и только разведка. От боевых действий категорически приказано было воздерживаться. Помню, в первые дни оккупации Смолягин напал на какой-то торфяной заводик, и ему было строго указано после этого вообще прекратить боевые действия. В городе работал наш разведчик, который передавал в отряд развединформацию. Остальные партизанские отряды тоже имели связь со Смолягиным и снабжали его информацией, а тот передавал ее в Центр. В одной из передач сообщалось, что где-то в области находится разведшкола гестапо, в которой обучаются русские военнопленные. Центр приказал найти ее и внедриться. Отряду Смолягина, как и всем остальным, было дано задание прочесать свой район и в случае обнаружения школы немедленно сообщить. Но школа как в воду канула. Однажды Смолягин сообщил, что в Радоницком районе, вблизи деревни Ворожейка, на территории бывшей торфоразработки обнаружено подозрительное учреждение, замаскированное под торфопредприятие. Отряду Смолягина было приказано вести наблюдение за этим объектом и сведения передавать по личному каналу связи резидента, работавшего в городе. А через месяц-два весь отряд Смолягина погиб, учреждение на торфоразработке прикрыли, и оно передислоцировалось якобы в Белоруссию. Вот и все, пожалуй, что я могу рассказать. Остальное найдешь в архивных делах и отчетах. Пожелаю удачи. — Росляков пожал Андрею руку.
Кафе напротив Курского вокзала было маленькое, но почему-то двухэтажное. — У нас только мороженое и шампанское, — резко предупредила первых посетителей официантка. — Столовая рядом… Очевидно, ей не внушили доверие клиенты, которых она сразу приняла за приезжих. Высокий, седой человек в коричневом костюме и синем галстуке, завязанном толстенным узлом, молча улыбнулся и согласно кивнул. — А кофе у вас найдется? — Найдется, — смилостивилась официантка. — Есть бутерброды. На этом она посчитала свою миссию законченной и, небрежно швырнув на коричневый полированный столик меню, зашла за стойку буфета. — Так… — протянул высокий и медленно опустился на стул. — Прошу — ты сегодня мой гость. — И он протянул меню попутчику. — Я — что и ты… Кофе не буду. — Он постучал большим пальцем правой руки по груди. — Сердчишко пошаливает. — Годы, годы, — невесело усмехнулся высокий и жестом подозвал официантку: — Значит, так… Два мороженых, четыре бутерброда, водички какой-нибудь… мне кофе… Курить можно? — Нет, выходите на улицу. Мужчины переглянулись, высокий развел руками. — Всегда так… Ну что же, курить не будем, будем завтракать, если так можно выразиться… Как доехал? — Нормально… Что там езды: в восемь вечера сел, а в десять уже в Москве. — Ты как — в командировку или… — В отпуске я… Приехал по врачам походить. — Попутчик высокого опять постучал по груди. — Говорят, что в столице хорошие платные поликлиники. Меня же в прошлом году чуть инфаркт не посетил. — Инфаркт — это плохо… Годы, война… Все дает знать. — Безусловно. Высокий размешивал ложечкой кофе и внимательно разглядывал своего собеседника. Невысокий, лысоватый, круглолицый, с тонким шрамом на загорелом лице, он, казалось, был поглощен полностью мороженым. — Тыщу лет не ел мороженого, — засмеялся неожиданно тот. — Помню, перед войной девушку пригласил в кафе, так мучительно думал, хватит денег или не хватит… Я тогда на первом курсе института учился. — Надо же, помнишь. — К сожалению, у меня память хорошая… — Вот это хорошо. — Высокий усмехнулся и дотронулся до рукава собеседника. — Помнишь, где мы с тобой познакомились? — Помню… — Съездить надо, там кое-что спрятано… Вот смотри, — он протянул через стол клочок бумаги, — вот это… — Я понял, — перебил круглолицый. — Вот здесь: угол подвала, второй кирпич. — Не хотелось бы ехать. Годы не те… Да и… — Придется, — будничным голосом перебил высокий и отхлебнул растаявшее мороженое прямо из вазочки. — Да и тебе прямая выгода… — А… что там? — Фотопленка… Студенты, преподаватели… Дела их личные. Сам понимаешь… — А откуда ты узнал? — От кого, ты хотел спросить… Знаешь, как в стихах. Иных уж нет, а те далече… Вот посмотри газетку. Круглолицый взял из его рук сложенную вчетверо районную газету. — «Шлях до комунизму», — прочитал вслух круглолицый и удивленно посмотрел на высокого. — На последней странице… — «…Ушел из жизни бухгалтер комбината бытового обслуживания Кухорук Казимир Дмитриевич, ветеран войны и труда, награжденный многими наградами. Весь его жизненный путь был дорогой борьбы и лишений. Группа товарищей». Ну и что? — На фотографию посмотри. — Ну и… Слушай, так ведь это… — Вот именно… Я сам думал, что он давно богу душу отдал, а в позапрошлом году на курорте случайно встретил… и вспомнил про ту злосчастную пленку. Так по рукам? Круглолицый кивнул и задумался.
Андрей вышел из переполненного автобуса, закинул рюкзак за плечи, на шею повесил чехол с ружьем так, чтобы на него можно было опираться на ходу руками, и неторопливо двинулся по проселочной дороге в сторону Посада. Дорога с двумя глубокими канавами по бокам была покрыта щебенкой. Справа, в метрах пятнадцати, начинался невысокий косогор, и деревья здесь были выше, гуще. Сейчас косогор был засыпан пожухлой листвой, и Андрей невольно подумал о том, что там совсем недавно наверняка можно было найти и грузди, и оранжевые шапки волнушек, и свинушки, и чернушки. Слева почти до самого леска тянулось болото с небольшими островками и косостволыми березками. Посад был второй деревней в районе после Геранек. Дома тут были добротные, с железными крышами и резными штакетниками. В центре стояло двухэтажное здание, где размещалась школа механизаторов, напротив — здание райотдела милиции. Андрей неторопливо вошел в здание и, постучавшись, открыл дверь в кабинет начальника. Из-за стола поднялся пожилой капитан и вопросительно посмотрел на посетителя. — Старший лейтенант Кудряшов. — Капитан милиции Фролов. Капитан жестом пригласил Андрея сесть. — Чем обязан? — Михаил Семенович, мне кое-какая информация нужна. Вы сами, простите, местный будете? — Нет, — капитан погладил тыльной стороной руки щеки, — я сюда после училища попал. Правда, за эти годы почти местным стал. Каждую собаку знаю… — И Ворожейки? — Еще бы! — засмеялся Фролов. — Я же в Гераньках участковым уполномоченным работал… Всех и вся знаю, как свои пять пальцев. — И Дорохова? — А… так вот вы зачем, — капитан усмехнулся, — так бы сразу и начинали. Спрашивайте. — Кто он и что он? Как живет и чем живет? Кто бывает у него, что за люди? — Никто не бывает… Живет на Радоницких болотах в сторожке егерской. Как вернулся из лагеря в пятьдесят седьмом, так и живет, — капитан бросил быстрый взгляд на Андрея и усмехнулся. — Семья у него: жена и двое парнишек. Один с пятьдесят девятого, другой на год младше. Не хотели его егерем назначать… из-за этого самого. Да председатель райисполкома, Виктор Матвеевич Прохоров, настоял. Из одной деревни они. Говорит, что лучше Дорохова никто мест наших не знает. Скрепя сердце согласились… Вот так Дорохов и живет на отшибе, как рак-отшельник. — Жив кто еще из старожилов в Ворожейках? — Никого, кроме Марии Степановны Смолягиной. Она жена погибшего командира партизанского отряда Тимофея Смолягина… Вы, наверное, знаете трагедию Ворожеек? Там в сорок первом году фашисты расстреляли шестнадцать человек местных жителей… Годы прошли, кто умер, молодежь в город подалась, а вот Мария Степановна все живет… Дом ее на правой стороне улицы самый первый. Да вы сразу узнаете: около дома высоченная береза растет, одна она такая на всю деревню, а около крыльца прудик маленький, прямо от ступенек начинается… Капитан замолчал, разминая папиросу. Молча чиркнул спичкой и, глубоко затянувшись, выпустил большую струю дыма. Несколько раз ткнул папиросой в пепельницу и вдруг, нервно ее притушив, хрипло сказал: — Гуманные мы не в меру… Я бы его своими руками в сорок пятом придушил! Никто не жировал, однако к фашистам на службу один он подался! К Ворожейкам Кудряшов подошел затемно. Дом Смолягиной стоял прямо у въезда в деревню под огромной березой, раскинувшей свои ветви на половину улицы. Дом был старый, сложенный из добротных бревен, потемневших от времени. Над светящимися окнами тянулись резные наличники с кое-где выпавшим узором. Под обломком водосточной трубы стояла покосившаяся бочка для дождевой воды. — Кто там? — раздался негромкий голос в ответ на стук. — Мария Степановна, здравствуйте… Не пустите переночевать? Охотник я из города, не успел засветло до егеря добраться, а дорогу плохо знаю. — Чего же не пустить, пущу. Дверь открылась, и Андрей увидел невысокую женщину лет шестидесяти, одетую в серую юбку и простую зеленую кофту. На голове повязан ситцевый платок. Лицо худощавое, живое, с озорными темными глазами, в мочках ушей дешевенькие сережки с красными камешками. — Вы меня простите, Мария Степановна, — смущенно промолвил Андрей, — вас мне порекомендовал начальник милиции Фролов. — Миша, — улыбнулась она, — да я вас и так бы пустила, Андрей… Не знаю, как вас по батюшке. — Как? — изумился Андрей. — Не помните меня? — улыбнулась Смолягина. — А мы ведь встречались… Вы тогда еще грамоты обкома нашим девчатам вручали, да вы проходите, не стесняйтесь… Я вас сейчас жареной печенкой угощу. Сосед давеча кабанчика заколол, вот и угостил. Пока она возилась у печи, Кудряшов стал рассматривать комнату. Напротив деревянного диванчика стоял длинный дубовый стол и несколько самодельных стульев. Второй диван стоял под двумя окнами, которые были напротив русской печи. В простенке между окнами, в простой деревянной рамке висела фотография мужчины в праздничном костюме и женщины в белом платье. Андрей сразу понял, что это Мария Степановна с мужем. С фотографии смотрел плечистый парень с доброй, застенчивой улыбкой, обнимающий за плечи молодую Марию Степановну. «Так вот ты какой, Тимофей Смолягин!» — подумал он, невольно приближаясь к фотографии. Андрей обратил внимание, что диван, стулья и стол покрыты затейливой резьбой. С первого взгляда она казалась грубоватой, но чем больше Андрей всматривался в нее, тем больше она притягивала его своей трогательной простотой. Не удержавшись, он присел на корточки и потрогал пальцем переплетенье узора. — Муж это мой, Тимоша, — услышал он вдруг глуховатый и ласковый голос Марии Степановны, — вырезал… И стол вот такой большой сработал, и диваны, и стулья… Все шутил, что у нас дюжина детей будет, чтобы всех сразу за стол посадить. Дом-то он тоже сам рубил. С Прохоровым Виктором и… — Она вдруг замолчала и, смахнув с глаз концом фартука непрошеные слезинки, отвернулась к печи, помешала на сковороде шипящую печенку и, успокоившись, снова повернулась к Андрею. — Готовились, готовились, а вот детишек понянчить так и не довелось… Смолягина, не докончив рассказ, подхватила сковороду фартуком и поставила перед Андреем. Села напротив и, подперев голову рукой, как-то горестно и сосредоточенно смотрела, как он ест. — А где теперича работаете, Андрей Петрович? — В органах госбезопасности, Мария Степановна… Мне поручили разобраться в причинах гибели партизанского отряда Тимофея Прокопьевича Смолягина. Поэтому я и пришел к вам… Может, вы расскажете о себе, о Тимофее Прокопьевиче, о товарищах его… Все, что вспомните. — Тяжкое дело, и вспоминать тяжко… — Смолягина вздохнула. — Вы уж лучше вопросы мне задавайте, а я буду рассказывать, ежели что вспомню… — Тогда расскажите о первых днях войны. — Я с первой дойки возвращалась, смотрю, Тимоша на мотоцикле летит. Остановился около меня, выключил мотор и молчит, а лицо каменное, словно кто из родственников помер. Потом тихо говорит: «Война, Маша, началась… Война… Я в райком поеду, а ты иди домой, Маша. Вот ведь несчастье какоевышло…» Машей-то он меня за все время первый раз назвал, а то все Марьей-красавицей кликал. И от этого у меня и руки сразу опустились… Вспомнила я деда своего инвалида, он с гражданской без обеих ног… Соседа Акимыча однорукого и заголосила, уцепилась за него, не пущаю и реву во весь голос… Мария Степановна говорила ровно, без видимого волнения, по Андрей чувствовал, чего стоит ей этот рассказ, что скрывается за короткими паузами. — Уехал Тимоша в район и словно в воду канул. Бабы на селе говорили, что не иначе как добровольцем в армию подался. Много из нашего села мужиков воевать ушло. Прохоровы, оба брата, Донькины, отец и сын, Рябинины… Бабы остались да детишки, да еще Васька Дорохов, которому на повале ногу сосной перешибло… Месяца с два прошло. Вдруг Тимоша ночью объявился. Сказал, что в области на партийной учебе был… Я-то, дура, подумала, грешным делом, что мой Тимоха в дезертиры подался, и все ночи ревмя проревела. А потом ревела, что в пакости его заподозрила… Она прижала худенькие ладошки к вискам и замолчала. — Раз ночью просыпаемся от треска мотоциклов. Бросилась к окну — немцы катят, в касках, с автоматами… Тимоша мой на чердак и притаился… Покрутились они, обобрали дворы и снова уехали… Деревенька наша и сейчас невелика, а тогда еще меньше была, и им, видно, не резон было оставаться в Ворожейках… Только они ушли, и Тимоша мой подался. Взял хлеба краюху, сала шмат, полез за печь и достал ящик какой-то, гранаты и пистолет. Тут только и поняла я, зачем Тимоша остался, только тогда… Говорит он мне, дескать, начнут про меня спрашивать, скажи, что как уехал в тот день, так и не возвращался… Он все эти дни-то из дома не показывался, в основном по ночам… Потом говорит, что человек должен к нему прийти, попросит картошки продать, а расплачиваться будет червонцами, и показал мне номер, как сейчас помню, — 117296… А ежели, говорит, еще придут, то прибавляй к последней цифре по единице — пароль такой… и ушел. Потом, когда партизаны немцев на Выселках потревожили, наприезжало фашистов видимо-невидимо… Набрали стариков да баб и постреляли, а в деревне старосту своего оставили, да тот из избы не выходил — боялся шибко партизан… — Простите, Мария Степановна, вы говорите, Выселки партизаны потревожили, а что там было? — Торф они там добывали… Там ведь и до войны торфоразработка была, небольшая, но была… Вот они там обнесли все колючкой и потихонечку копались, а после того случая так еще и охрана появилась из солдат… Русский там один был, тонкий такой, словно хлыст. — Андрей вздрогнул, снова услышав знакомое сравнение. — Тот все по деревне шастал. В одну избу зайдет, в другую. О себе говорил, что, мол, немцы заставили на службу пойти… Поначалу-то мы его пужались, а потом видим, что греха от него нет, посмелее стали. Он и по округе шастал, один раз я встретила около самых Выселок. Я по клюкву ходила, самое времечко было клюкву собирать — первый морозец ударил, присела около кочки и собираю потихоньку, вдруг слышу, кто-то по болоту идет, глядь: Хлыст топает. Уверенно идет, словно всю жизнь здесь прожил… — А как вы думаете, что он там делал? — Наверное, в охране он был… Там же паши пленные торф добывали… «Ловко они разведшколу под торфоразработки замаскировали, — думал Андрей, слушая неторопливый рассказ Смолягиной. — Что же, логично: место глухое…» — А с паролем приходил кто к вам, Мария Степановна? — Приходили, четыре раза. — Что-нибудь передавали для Тимофея Прокопьевича? — Нет. Как мне Тимоша сказал, так я и делала — направляла их к Груне Алферовой. — Тимофей Прокопьевич часто у вас бывал? — Только два раза… В первый раз за продуктами пришел, а второй… это уже после четвертого ходока, под самое утро слышу стук. У меня сердце захолонуло — Тимоша. Открываю, и точно. Он и полчаса не побыл, только сказал: «Если что важное случится или худо тебе будет, ищи меня у Груни, я ее предупредил… Больше ни к кому не ходи… Особливо к Ваське Дорохову, он лесничим работает, для фашистов дичь добывает». Я так и обмерла — Тимоша с Васькой шибко дружили. Он на нашей свадьбе сватом был, окаянный. Да… больше Тимошу я не видела. Пропал он… Мария Степановна медленно подняла на Андрея взгляд. Тяжелый, скорбный взгляд русской женщины, не переставшей ждать и ничего не забывшей. — Мария Степановна, а никто не приходил после последнего посещения Тимофея Прокопьевича? — Никто… Хотя, постой… — она задумалась. — Как раз в ту пору я Костю нашла. Помню, всю ночь стрельба стояла страшная. То близко, то далече, а потом, к утру, откатилась. Я за хворостом поутру в лес подалась. Насобирала порядком и стала охапку связывать. Слышу, кто-то меня кличет, обернулась паренек. Оборванный весь, в крови, босой, а тогда уж лужи ледком прихватывало. Я так и ахнула. Кинулась к нему, хворостом его прикрыла и домой. Еле вечера дождалась. Перетащила к себе, помыла, перевязала кое-как. Потом сволокла его в подпол да и спрятала под старую солому… А утром фашисты по избам пошли. Обыскивают, в подполы лазят. Ну, думаю, конец пришел! Потом и до меня добрались. Входит Хлыст в дом. Поздоровался, присел на лавку, закурил и спрашивает: «Слышь, баба, никто к тебе ночью не заходил, не стучал?» Помотала я головой — от страха губы спекло. Прошел он по избе, перевернул все. В овин сходил, навоз и сено вилами истыкал. Ходит он, а я думаю: хоть бы в подпол не полез. Полез, паразит… Спустился на две ступеньки, посветил фонарем и смеется: «Хорошо тебя, бабонька, подчистили — даже картошки не оставили!» И верно, в подполе, окромя ошметков грязной соломы, ничего не было. «Ну, — думаю, — терпи, милый, терпи, не застони, родимый!» Не застонал, не шевельнулся, касатик… Ушел Хлыст ни с чем. Слышу, на крыльце говорит что-то немцам. — Он по-немецки с ними разговаривал? — Да больше на пальцах, Андрей Петрович, — покачала головой Смолягина. — Откуда ему немецкий язык-то знать? А вообще-то, кто его знает… Мужик он, по всему, городской был, хоть и подделывался под деревенского. — Почему вы так решили, Мария Степановна? — спросил Андрей. — Хлеб не берег, — негромко произнесла Смолягина, — ест, а крошки на пол стряхивает… — Она замолчала, задумалась, потом встрепенулась, продолжила: — И валенки никогда не обметал в сенях… Войдет, вроде и поклонится, а сам лезет в грязной обувке прямо в горницу. А говорил он по-нашему… только чисто уж больно, словно все время настороже. — Она снова замолчала. — Недели через две очухался мой парень… Рассказал о себе, что из эшелона сбежал. Семья у него: жена и двое деткшек-близнецов. Пленный… из окружеицев… Еще неделя прошла, вижу, он мается. А как-то раз говорит: «Уходить мне пора, Мария, не дай бог немцы нагрянут — не сносить вам головы… К нашим буду пробираться». Долго думала я… Человек незнакомый, паролю не знает, с другой стороны, солдат из плена бежал, вроде как и помочь надо, а не решаюсь. Один раз к вечеру, гляжу, выходит мой постоялец в своей шинельке и говорит: «Прощай, Мария, ухожу я…» — «Постой, — говорю, — парень, пропадешь ни за грош — кругом постов фашистских наставлено — ни пройти ни проехать, а местов наших ты не знаешь. Отведу я тебя кой-куда, а там видно будет». И пошли мы к Груне… Больше я его и не видела… Потом был тот страшный бой на Радоиицких болотах, когда наши все погибли… Целый день громыхало и всю ночь. А наутро, гляжу, фашисты катят, вынесли из подвод раненых и в школу снесли. Потом Хлыст народ собрал около школы и говорит: «Доблестные германские войска разгромили банду партизан на болотах». Так сердце у меня и захолонуло. А тут Васька Дорохов проходил. Хлыст останавливает его, берет за рукав и говорит: «А ты, Дорохов, можешь в сторожку возвращаться, теперь тебя никто не обидит. Германская армия за тебя заступится». Согнулся тот, — Мария Степановна зло усмехнулась, — и заковылял в сторону — люди кругом, стыдно, поди, сволочуге стало… Ох, Андрей Петрович, милый ты мой, вот ты грамотный человек, скажи, откуда такие люди родятся? Вроде свой все время был, в колхозе состоял, отец с матерью всю жизнь с картошки на воду перебивались, а вот, поди ж ты, служить к гадам подался, вроде лакея при них был. А может, — она задохнулась и, вытирая сухонькой ладошкой глаза, медленно проговорила: — А может, это он, подлюга, фашистов на болото провел? Может такое быть? На улице было темно и зябко. Андрей включил электрический фонарь и, закинув ружье поудобнее за плечо, быстро зашагал по направлению к болотам. Дорога была мягкая, засыпанная торфом, и болотные сапоги Андрея утопали в нем по щиколотки. Это было неудобно, и тогда он высвечивал фонарем обочину и переходил на твердую землю. За деревней начались холмы. Были они невысокие, очевидно, остались от торфоразработок, как и длинные, глубокие канавы с застоявшейся водой, сплошь покрытой пленкой ряски. Слева и справа от дороги стояла высокая, почти в половину его роста, трава, а на буграх и вдоль канав желтели полосы высохшего камыша. «Самое время для пролета, — подумал Андрей, глядя, как на востоке начинает светлеть небо, — надо бы ружье собрать». Он остановился, расстегнул чехол и вынул ружье. Собрал его, а чехол аккуратно свернул и засунул в боковой карман рюкзака. Развязал горловину рюкзака и вытащил патронташ и пачку патронов. Рассовал патроны по кармашкам патронташа, снова надел на плечи рюкзак. Вытащил два патрона и, зарядив ружье, поставил его на предохранитель. Всегда, как только заряженное ружье оказывалось на плече, Андрей чувствовал необъяснимое волнение. И воздух начинал пахнуть как-то особенно, обострялись слух и зрение, походка становилась почти неслышной. Дорога уперлась в невысокую насыпь узкоколейки. По ней ходили электровозы с грузовыми вагончиками, наполненными торфом. Андрей огляделся. Слева начиналась канава, а справа тянулась широкая ложбина с разбитой дорогой. А еще дальше — заросли камыша с редкими языками выходящей из него воды. Насыпь была песчаная, шпалы почти совсем ушли в землю, и идти по ним было неутомительно, Андрей, сам того не замечая, ускорил шаг, но переставая зорко посматривать по сторонам. Вдруг слева со свистом вылетела стайка чирков и, набирая высоту, пронеслась над канавой. Андрей вскинул ружье, прицелился. «Бац…» — прогремел правый ствол, «бац…» — откликнулся левый. Андрей, быстро переломив ружье, вытащил стреляные гильзы и вставил новые патроны, глядя, словно завороженный, как падает, сложив крылья, чирок, и, не выдержав, бросился к месту падения, не сводя глаз с маленького тела и облачка перьев, которое печально сопровождало его. Чирка он нашел не сразу. Долго ходил по высокой траве, то и дело оглядываясь на рюкзак, который оставил для ориентира на насыпи. Когда он потерял надежду совсем и, собираясь уходить, на всякий случай носком сапога раздвинул траву на кочке, только тогда он заметил чирка. Медленно взял еще теплое тельце в руку и тут же почувствовал острую жалость к маленькому существу. Андрей повесил чирка на тороку и медленно зашагал по шпалам. Около переезда он снова сошел на дорогу и, пройдя с километр, свернул на тропку, которая лениво извивалась между холмов. Потянулись невысокие кусты и березки, потом лес стал гуще, но такой же сырой и неуютный, как и все торфяники, по которым шел Кудряшов. Лес расступился неожиданно, открыв поляну и маленький домик. Дорохова он увидел издалека. Тот стоял около калитки и молча смотрел на приближающегося Андрея. — Здравствуйте, Василий Егорович, — поздоровался Кудряшов, — вот решил на охоту выбраться… Примете? Тот молча кивнул и, повернувшись, распахнул калитку. Двор был совсем маленький, непохожий на просторные деревенские дворы. Слева от калитки стояла конура, около которой сучила лапами гончая, внимательно рассматривая незнакомого человека. Заметив ружье, она еле слышно взвизгнула, а хвост ее быстро-быстро заходил. — Не балуй, Ласовка, — хмуро бросил Дорохов, — не пришло твое время… Вот ужо снег выпадет, и пойдем, не балуй. Собака словно поняла: она печально посмотрела в глаза Андрею и, повернувшись, скользнула гибким телом в отверстие конуры. Кудряшов улыбнулся и перевел взгляд на отгороженный металлической сеткой клочок земли. Там бегали два щепка. Гончаки, маленькие, светло-коричневые с подпалинами, пузатенькие — очевидно, только что поели. Они прыгали и, разевая пасти, пытались укусить друг друга. — Сопливые еще, — тепло пробормотал Дорохов. — Матку-то ихнюю охотник заезжий нечаянно пристрелил: за лиса принял, а их вот мне дали… С глистами были, думал, что не выживут. Цитварным семенем старуха моя выхаживала. Оклемались, паршивцы. Ишь, балуют… Намедни слышу свару во дворе. Выглянул, а они, паршивцы, выбрались из-за изгороди и подсадных по двору гоняют. Андрей и Дорохов молча вошли в избу. Василий Тимофеевич сел на лавку и, не глядя на Кудряшова, промолвил: — Мать, как там самовар-то? Охотник пришел, надоть бы с дороги чайком побаловать… Из-за фанерной перегородки, которая отделяла крохотную кухню от комнаты, вышла маленькая сгорбленная женщина, одетая в ватную безрукавку и серую до пят юбку. Она с достоинством поклонилась и сказала: — Здравствуйте, мил человек… Андрей расстегнул карман гимнастерки и, вытащив охотничий билет, передал Дорохову. — Путевка в билете, Василий Егорович. Дорохов не спеша нацепил на нос старенькие очки и старательно прочитал написанное. Аккуратно сложил путевку и сунул в карман. Билет протянул обратно. — Значитца, ружьишком балуетесь, Андрей Петрович, — с непонятной интонацией произнес Дорохов, — дело серьезное, ружьишко-то… Что ж, бог в помощь. Андрей не ответил, спрятал охотничий билет. Огляделся. Заметив на стене несколько фотографий, встал и подошел поближе. — С Ласовкой зайцев брали, Василий Егорович? — спросил он, рассматривая снимки. — С ней, шельмой, — довольно сказал Дорохов, закуривая папиросу. — Справно работает по зайцам, верхним чутьем ведет, только успевай оглядываться. Я сам-то не ходок, места покажу и домой иду, а охотники ее работой довольны… Варвара, самовар готов, неси его, а то гостю пора уж и чайку испить. — Несу, Василий. — Женщина вынесла из кухоньки поющий самовар и поставила на медный поднос. Она успела переодеться. Домашней вязки кофта и стоящий колом на голове накрахмаленный ситцевый платок сделали ее моложе. Она не спеша достала из фанерного платяного шкафа три чашки с блюдцами, чайные ложки, нож с выщербленной костяной ручкой, потом принесла баночку с темным липовым медом. — Отведайте медку, гостюшка, — чуть нараспев произнесла она, — летом Василий, почитай, с ведро меду накачал… Душистый… — Спасибо, — Андрей достал из рюкзака коробку конфет, — а это вам, Варвара… простите, не знаю, как по отчеству. — Михеевна, — произнесла женщина и улыбнулась. — Вы кушайте, кушайте. Чай пили долго. Андрей, привыкший все делать быстро, сначала никак не мог приноровиться к неторопливому темпу: он быстро выпивал свою чашку и деликатно ставил на стол. Варвара Михеевна тут же ее наполняла и пододвигала к Андрею. Делала она это не торопясь. Ставила чашку на поднос и плескала заварки из маленького чайника, потом пододвигала ее под блестящий краник самовара. В чашку лилась тонкая струйка кипятка, от которой поднималось вверх облачко пара. От нескольких выпитых чашек чая Андрею стало жарко, потянуло на сои, и он, незаметно борясь с самим собой, несколько раз повел плечами, стараясь разогнать сонливость, Варвара Михеевна, выпив чай, ушла на кухню готовить еду собакам. Дорохов, разомлевший и покрасневший, откинулся на лавке к стене и закурил. — На вечернюю зорьку пойдете, Андрей Петрович? — вдруг глухо спросил он и тут же продолжил: — Али вы по другому делу приехали? — Обязательно пойду, — ответил Андрей, словно не расслышав конец фразы. — Посижу немного и двинусь… — Я с вами… Сперва места покажу, где вставать надо. Вечером выводки с большой воды на болоте в садки летят. А вы чего-то без собаки, Андрей Петрович? — Да никак не заведу. — Андрей сокрушенно покачал головой, взглянул на часы и встал. Надел куртку, опоясался патронташем. Взглянул на Дорохова. — Тронемся, Василий Егорович? — Пора. Они вышли из избы. За воротами закурили и переглянулись, словно продолжая разговор, но не обронили ни слова, а молча тронулись по узкой тропе к густым зарослям ельника. Дорохов шел, припадая на правую ногу, но быстро, неуловимым движением всего тела перенося тяжесть с ноги на ногу, и от этого казалось, что он то и дело старается повернуться к тропе боком, словно не хочет терять из виду Андрея. Тропа извивалась между невысокими елями. Воздух был наполнен ядреным запахом хвои и гнилым духом близкого болота. Тропинка вывела их на длинную прогалину, противоположный конец которой обрывался над болотом. Заходящее солнце позолотило листву, засыпавшую прогалину. Справа, почти спрятавшись в тени пяти берез, возвышались несколько холмиков правильной формы. Андрей, присмотревшись, заметил, что над каждой стоит деревянная пирамидка со звездочкой, и невольно замедлил шаг. Оглянулся на Дорохова. Тот стоял на тропинке, потягивая из кулака папиросу, и как-то настороженно посматривал на Кудряшова. — Это могилы ребят из партизанского отряда… — вдруг глухо промолвил он и отвернулся. — Как я их тогда похоронил, так и лежат до сих пор… Андрей сделал несколько шагов и остановился перед первой могилой. Заботливо выложенный дерном могильный холмик, крашенная масляной краской пирамида с металлической звездочкой. На пирамиде бронзовой краской выведено: «Смолягин Тимофей Прокопьевич. Родился 3.9.1911 г. Погиб в бою с фашистскими захватчиками 22.10.1942 г.». Андрей, стараясь скрыть волнение, несколько раз негромко кашлянул. Медленно обошел ряд могил: Попов… Дерюгин… Незванцев… Хромов… Рыжиков… С болота на поляну тянуло сыростью. Кисея тумана, как дымка, зависла над черной с редкими кустиками камыша водой. Тихо шелестела листва под болотными сапогами, и хотелось курить, но он поглубже засунул руки в карманы, еще раз прошелся вдоль ряда холмиков, не в силах оторвать взгляд от солдатского строя могил. «Все двадцать второго октября, — думал Андрей, скользя взглядом по фамилиям, — как один…» Он оглянулся. Дорохов стоял все на том же месте: на краю поляны, рядом с тропинкой. Тень от ели падала ему на лицо, и его выражение было непонятно. Только ссутулился он еще больше да затяжки папиросы стали длинней и яростней. Андрей молча подошел к нему. — Василий Егорович, расскажите мне, как вы нашли их… — Через неделю… — хмуро начал Дорохов, то и дело останавливаясь, чтобы затянуться папиросой, — я опять на болото пошел. Добрался до одного острова, я в тот раз не сумел побывать на нем, там все побито… дерева целого и того нет… рацию разбитую нашел… Тряпки какие-то, гильз стреляных полно… Пошел я по гати, смотрю: след направо ведет, к плешакам… Тут я и увидел ребят… Всплыли они… около противоположного берега… Видно, уходили, да нарвались на засаду на той стороне, вот их всех и положили фашисты, а тела забрать побоялись — топь там… А Тимофея и еще двоих на острове в землянке нашел. Перетащил я их по одному на эту полянку и захоронил аккурат под березами… А могилки-то сработал уж после того, как наши пришли… Дорохов секунду всматривался в лицо Андрея, словно старался найти ответ на какой-то мучивший его вопрос, потом повернулся и, хромая, отправился по тропинке дальше. Кудряшов пошел следом. Минут через пятнадцать открылась небольшая заводь, по которой плавала потемневшая плоскодонка, привязанная веревкой за куст. — Ты, Андрей Петрович, проходи на нос, а я на правиле сяду, — буркнул Дорохов, снимая ружье и кладя его в лодку. Кудряшов, балансируя, неловко прошел на нос и сел спиной к Дорохову. Положил ружье на колени. Лодка слегка качнулась и плавно, без единого всплеска, пошла по воде. Тупой, облитый смолой нос раздвигал ряску, и за лодкой тянулся широкий след с кругами от весла, которым беззвучно работал Василий Егорович. — А может, Василий Егорович, на тот остров заглянем? — не оборачиваясь, спросил Андрей. — На суше-то стрелять удобней… — Чего же нельзя, знамо дело, можно, — согласился после некоторого молчания Дорохов и, чуть заметно повернув весло, направил лодку в протоку. Протока с каждым метром все больше сужалась, и сухие камышинки с хрустом чиркали по бортам лодки. Еще несколько взмахов весла, и лодка встала. Андрей посмотрел в воду и увидел, что дно всего в нескольких сантиметрах от поверхности воды. Он вопросительно посмотрел на Дорохова. — Придется тебе лодку тащить, — смущенно произнес Дорохов. — Я со своей ногой не пройду… Ты сапоги подтяни, а то тут хотя и неглубоко, а тины по уши… Ты тащи, а я подмогну. Кудряшов подтянул болотные сапоги и осторожно перешагнул через борт лодки. Нога ушла в воду почти до колена. Он подождал, а потом перенес и вторую ногу. Намотал на запястье веревку и, раздвигая левой рукой камыши, пошел вперед. Идти было трудно. Лодка подминала под днище сухой камыш и еле двигалась. Дорохов помогал как мог. Он вытягивался вперед и, прихватывая руками пучки стеблей, с силой подтягивал лодку вперед. Так двигались они долго. Наконец, когда совсем измученный Андрей хотел уже остановиться и перекурить, камыши перед ними расступились и показался невысокий остров. И хотя до самого острова тянулась чистая вода, Андрей садиться в лодку не стал, а, бросив веревку, быстро зашагал к берегу. Остров был небольшой. Узкий и длинный, он походил на челнок и над водой возвышался всего метра на два. Может быть, поэтому его и не было видно с берега: высокие камыши загораживали его. Кудряшов медленно обошел остров, стараясь представить себе, как тут жили партизаны. На самой высокой точке он остановился и посмотрел вокруг: всюду качались лишь коричневые палочки камышинок, и только с той стороны, откуда пришли они, сквозь камыши тянулась длинная и извилистая просека. — Нут-ко, Андрей Петрович, подсоби, — послышался сзади голос Дорохова, — возьми свою фузею… Да особливо не шурши — сей момент полетят на садки… Андрей, размышляя о своем, машинально принял из рук Дорохова ружье и кивком головы поблагодарил. — Ты, Андрей Петрович, иди на самый край, — шепотом сказал Дорохов, — около куста встань, чтоб тебя с лету не доглядели… Кудряшов прошел на дальний конец и встал около ивового куста. Откуда-то издалека ветер донес еле слышный дуплет. Андрей вздрогнул и повернулся на звук выстрела. И тут же он увидел кряковую. Она летела низко, почти касаясь верхушек камыша, высматривая место, где можно опуститься. Андрей вскинул ружье, ведя утку на прицельной плавке, подождал, пока она не подлетит поближе, и выстрелил. Утку отшвырнуло в сторону, и она, резко набирая высоту, повернула влево. И тут же Андрей услышал выстрел Дорохова. Утка как будто споткнулась о невидимую преграду: сложила крылья и камнем упала вниз. — С полем, Андрей Петрович, — услышал Кудряшов негромкий голос Дорохова, — теперь смотри в оба — сей момент начнется… До темноты они сбили еще двух чирков. Одного Андрей, другого Василий Егорович. Ветер стих. И от черной воды, от бочагов с озерцами ряски, канав, заросших осокой и камышом, неожиданно остро и тяжело запахло гнилой травой и едкой сыростью. Где-то вдалеке еще изредка бухали выстрелы. Дорохов вытащил из лодки охапку наколотых дров и бросил на бугорок. — Завсегда с собой дрова вожу, — он помолчал, — на болотах сухой травинки не сыщешь. А без огня пропадешь… Он присел над дровами и ловко раздул костер. Малиновое пламя вырвало из темноты его мохнатые брови и глаза с каким-то внимательным и чуточку насмешливым выражением. — Что, Андрей Петрович, задумался? — вдруг спросил он. — Небось прикидываешь, как тут партизаны жили? Вот так вот и жили… Как раз на том месте, где ты стоишь, я нашел разбитую рацию ихнюю… А вот там, около куста, землянка была, значитца… Андрей увидел неглубокую яму, заросшую травой и мхом. — Вот там, — Дорохов поднялся и показал рукой в темноту, — моя изба стоит… и могила Тимохи. Ежели прямо идти — гать будет, но ее ты и днем не найдешь, старая она и ушла под воду давно. Ее покойный Иван Алферов строил, прямо к дому его она вела… Дорохов замолчал и, повернувшись к костру, пошевелил корявой палкой чуть притухшие угли. Молчал и Андрей, разглядывая сутулую спину Дорохова. — Василий Егорович, — негромко произнес он, — а что стало с Груней Алферовой, женой Ивана, которого вы тут вспомнили? — С Груней-то… — Дорохов поежился и, помолчав, каким-то глухим голосом продолжил: — Убили ее… полицаи ее порешили. Сам слышал, как говорили… В тот самый день, когда бой на болоте был. Домишко сожгли… Я так понял, что догадались они, что Груня связной у Тимохи Смолягина была… Засаду там устроили, но она как-то сумела предупредить наших. — Он вдруг бросил взгляд на Андрея и тут же снова повернулся к костру и еще яростней пошевелил в углях палкой. — Вот они и свернули с гати, когда уходили. Повернули направо — там-то места совсем гиблые: одни бочаги… Тропинка там есть — Тимоха знал ее, — и прошли они, думается мне, до самого плешака, а там тоже фашисты. Я ведь как раз там и нашел ребят-то… Вот так, значитца… Андрей молчал, не переспрашивая и не перебивая. Долго он готовился к этому вопросу и не торопился его задавать, хотя, чего греха таить, он сам понимал, что Дорохов тоже ждет чего-то. — Значитца, так, Андрей Петрович, — еще раз повторил Дорохов и вдруг, выпрямившись, резко повернулся на пне в сторону Андрея, — одного никак в ум не возьму: как вся эта петрушка закрутилась? Почему? Где я дал маху? Ведь никто же не знал, что я с Тимохой встречаюсь… Я, поди, все эти годы думаю об этом… И так прикину, и так… Гложет меня то, что мог ребят подвести… Как только, не пойму? — Андрей Петрович, — Наташа положила на стол несколько билетов, — вы одни остались. Посмотрите, пожалуйста, билеты в театры. — Здравствуйте, Наташа. Андрей смущенно улыбнулся и приподнялся со стула. — Ну что вы в самом деле… Я бы сам зашел… Наташа уделяла внимания Андрею явно больше, чем всем сотрудникам отдела, вместе взятым, но… ни Андрей, ни она сама этого не замечали. — Товарищ председатель культсовета, — Игорь шутливо раскланялся, — а мне можно билетики посмотреть? — Не стоит… — Наташа деланно-строго посмотрела на него. — Все равно вашей любимой оперетки нет. Билеты только на серьезные спектакли и концерты. Поэтому я и предлагаю серьезным людям! Игорь состроил обиженную физиономию и с шумом уселся на стул. — Ну и не надо, не очень и хотелось… — Знаете, Наташа, — негромко произнес Андрей, просматривая билеты, — я возьму два билета на концерт Рихтера… и на «Пигмалиона» тоже. Можно? — Пожалуйста… — Наташа склонила голову так, чтобы не было видно глаз. — С вас шесть восемьдесят. Билеты хорошие, так что ваша девушка останется довольна. Андрей протянул ей две пятерки и, глядя, как она отсчитывает сдачу, тихо сказал: — Я с отцом пойду… Он у меня… Мы всегда вдвоем ходим в театр и на концерты. Наташа собрала оставшиеся билеты, бросила исподтишка взгляд на Андрея и вышла из кабинета. — Андрей Петрович, — вдруг снова открылась дверь, — вам пришли материалы отряда Смолягина, зайдите в секретариат. Когда дверь закрылась, Андрей некоторое время молчал, разбирая на столе бумаги и делая какие-то пометки. Достал сигареты и, похлопав по карманам, повернулся к Игорю. — Игорь, брось спички. — Лови… — Игорь перебросил коробок и, не сводя с него глаз, неожиданно сказал: — Натуля, между прочим, толковая девчонка. Не повезло ей в жизни… После школы поступила в институт, вышла замуж за какого-то маменького сынка, родила парня. Ну а потом мамочка этого охламона, как водится, нашла сыночку «достойную пару» — для улучшения породы, наверное. Не смогла, видите ли, вытерпеть, что у Наташи мать уборщица. Развела, короче говоря. Пришлось Натуле оставить институт и пойти работать. Сначала где-то в архиве работала, а потом вот у нас секретарем отдела… Сынишку ее, между прочим, тоже Андрюшкой зовут. Хороший пацан! Я в прошлом году Дедом Морозом был, а Снегурочкой Иришка из машбюро… Рыженькая такая, знаешь?.. Приезжаем мы к Натуле. Ну как водится, заходим, поздравляю Андрюшку с Новым годом, желаю ему расти большим и умным и дарю ему самолет. Потом присел с ним на диван, рассказал сказку про семерых козлят. Наташка суетится — торт на стол тащит, нас приглашает. Я просто так и спрашиваю Андрюшку: «А у тебя желание какое-нибудь есть? Вот загадаешь желание, я палкой стукну об пол, и обязательно оно в Новом году исполнится… Загадывай!» Сполз он с моих коленей, схватился за бороду и на ухо тихо-тихо шепчет: «Милый Дедушка Мороз, найди мне папу, пожалуйста. А я тебе обещаю, Дедушка Мороз, что буду кушать хорошо и спать вовремя ложиться и… рыжую Зинку за косички дергать в садике не буду». Тут у меня, Андрюха, и дыхание сперло. Сижу как дурак, глазами хлопаю, а сказать ничего не могу… Вот так-то… А Натуля молодец! Снова поступила в институт и учится, и парня растит. Андрей молча крутил в руках незажженную сигарету. Что греха таить, Наташа ему нравилась. В первый же день работы он обратил внимание на стройную веселую девушку с лукавыми и добрыми глазами, неброскую, но словно притягивающую к себе. И уж, конечно, никак он не мог предполагать, что у нее растет сынишка! — Андрей, Росляков вызывает. — Игорь бросил на стол папку с документами и закурил. — Ох, и врезал он мне… — За что? — За дело… Полковник просто так не врезает. Иди, а то и тебе достанется. Андрей мигом проскочил знакомый «предбанник» и постучал. — А, Андрей Петрович, проходи, что стоишь. Я вот что тебя хотел спросить… Как у тебя идут дела с отрядом Смолягина? Новости есть? — Я побеседовал с Марией Степановной Смолягиной и Василием Егоровичем Дороховым. Сейчас изучаю материалы отряда… — Начал правильно, боец. Росляков поднял телефонную трубку. — Егоров, зайди ко мне. Полковник ждал Егорова, молча дымя сигаретой. — Вот что, Андрей Петрович… Мне кажется, что гибель отряда и близкое расположение разведывательно-диверсионной школы гестапо неспроста… Да… — Он нетерпеливо махнул застывшему в дверях Игорю. — Ты тоже вникай… На мой взгляд, надо сейчас идти по двум направлениям: выяснение причины гибели отряда и второе — школа. Я бы посоветовал вам изучить материалы архива гестапо в Белоруссии. Чем черт не шутит, вдруг найдем какие-нибудь следы… Верно? Росляков добродушно усмехнулся, отчего его круглое лицо вмиг подобрело, а у глаз появились мелкие морщинки. Игорь молча покосился на Андрея, словно говоря: «Мог бы и сам догадаться… А впрочем, и я хорош!» — У меня все. — Росляков встал и прошелся по кабинету. — Ты, Егоров, свободен, а ты, Андрей, останься на минуту… Кудряшов опустился в кресло. — Ты не обижайся на меня, Андрей Петрович, — голос Рослякова звучал ровно, без нажима, — я тебе как старший товарищ хочу сказать… Андрей неотрывно следил за широкими плечами полковника. — Неразворотлив ты несколько… Конечно, я понимаю, дело новое, ляпов допускать не хочется… Но учти: основа успеха оперативного работника состоит в быстроте мышления и умении ориентироваться. Главное, — в голосе Владимира Ивановича вдруг зазвучала веселая нотка, — учись анализировать факты и…импровизировать при отработке версий… Тогда пойдет! Вопросы есть? Давай, боец, не расстраивайся. Странно, но это замечание Рослякова никакой обиды или неприятия не вызвало. Андрей вдруг понял, что неспроста был этот минутный разговор с полковником, что тот наверняка знает, что творится у него сейчас в душе. Снегу выпало много. Андрей шел по узкой тропинке от Ворожеек на Радоницкие болота, мысленно благодаря отца за то, что тот заставил обуть валенки. Мороз стоял небольшой, градусов десять. Пар от дыхания вылетал пухлыми клубами и, хотя ветра не было, сразу же пропадал за спиной. Валенки Андрея проваливались в снег с приятным скрипом, а плечами он задевал ветки березок, и от этого на шапке вырос холмик снега, который от движения то и дело осыпался на лицо, но он не обращал на это внимания, вслушиваясь в таинственную тишину пролеска и всхлипыванье снега под ногами. Дорохова Андрей увидел издалека. Василий Егорович выгребал навоз из коровника. Он как-то нехотя втыкал вилы в коричневую кучу и коротким, мощным рывком выбрасывал дымящуюся массу наружу. Серо-зеленая фуфайка распахнулась, разлетаясь при каждом взмахе полами, словно крылами, и показывался верх старых, в полоску, затянутых ниже пояса тонким ремнем штанов. Дорохов работал, даже не работал, а исполнял работу. Нудную, но нужную… Головы он не поднимал и только при броске чуть оглядывался, словно примечая место, куда ложился дымящийся шлепок. Андрей подходить не спешил. Он долго стоял на тропинке, курил, собирался с мыслями, провожая глазами каждый взмах рук Дорохова. Из трубы дороховского домика косой кудреватой струей тянулся дым, неясное солнце заставляло матово поблескивать снежную пыль на буграх и поленнице, сложенной ровно и высоко. На заледеневшей веревке болтались две пары подштанников, глухо бренчавших на легком ветерке. Андрею вдруг захотелось так же, как Дорохов, стоять в распахнутых воротах коровника, коротко и резко, не оборачиваясь назад, швырять дымящийся навоз, смахивать рукавом фуфайки пот со лба и щуриться на тусклое зимнее солнце. Знать, что в избе ждет, попыхивая, самовар на столе и колотый сахар в мутной сахарнице с отбитыми ручками, дымящаяся картошка, густо политая топленым маслом, и капуста в тарелке, на которой, поблескивая, тают маленькие льдинки. Андрей вдруг настолько ясно представил небольшую комнатку дороховской избушки, что ему даже захотелось протянуть руки к выбеленной стене печи и, держа их на расстоянии, немного так постоять. Дверь избы распахнулась, и на крыльцо в наброшенном на плечи полушубке вышла Варвара Михеевна. — Василий, — донеслось до Андрея, — самовар поспел. Опосля дометаешь… Дорохов не спеша воткнул вилы в кучу и распрямился. Прихрамывая, вышел из коровника и громко высморкался, словно выстрелил: — Добренько, Варюшка. Значитца, погреемся, да и гостенек наш вовремя поспел, — он вдруг обернулся и, пристально посмотрев на кусты, в которых стоял Андрей, добродушно, но с какой-то натугой, крикнул: — Выходь, что ль, Андрей Петрович… Замерзнешь так стоять-то… Андрей, усмехнувшись, вышел на поляну перед дороховской избой. Он не торопясь шел по тропинке и, чувствуя насмешливый взгляд Дорохова, злился на самого себя. — Здравствуйте, Василий Егорович, — поздоровался он, — и вы, Варвара Михеевна, здравствуйте. Та, как и в прошлый раз, низко поклонилась и, суетливо поправив полушубок, скрылась в сенях. — Неловок ты, значитца, Андрей Петрович, — ухмыльнулся Дорохов, не сводя с него пристального, изучающего взгляда. — Я тебя приметил, когда ты еще через перелесок ломился, словно кабан на водопой. Всех сорок распугал. Ну, проходи, проходи… Скидывай мешок-то свой. Андрей снял с плеч рюкзак и, держа его в руках, долго обивал валенки о ступеньки крыльца. Снял шапку и ударил ей по колену, подняв при этом целый вихрь мелких снежинок, отряхнул варежкой с воротника и груди иней. Все было, как и в прошлый раз: не спеша пили чай, отдыхая и нехотя перебрасывались словами. Кряхтел Василий Егорович, близоруко помаргивала его жена. Варвара Михеевна сидела за столом недолго. Выпив чашку-другую чая, она вдруг встала и, суетливо поправив передник, стала собираться. — Куда ты, мать? — спросил Дорохов, видимо, озадаченный этими сборами. — В магазин пойду, — ответила Варвара Михеевна, повязываясь платком и беря в руки большую сумку, сшитую из клеенки. — Намедни сказывали, что в магазин крупчатку завезли. Надоть бы взять кило десять на праздники, чай Новый год не за горами. — Папирос возьми, — спокойно сказал Дорохов, ставя чашку на стол и морща лоб, — да соли и перца. Скоро кабанчика забивать, а соли курам на смех. После того как Варвара Михеевна вышла, Дорохов долго молчал, словно собираясь с мыслями, и наконец негромко выдохнул: — Вот так, значитца, Андрей Петрович… Сбежала моя жена, чтобы мы поговорить могли… Андрей внимательно посмотрел на него. — Василий Егорович, я очень прошу вас, — Кудряшов дотронулся до рукава гимнастерки Дорохова. — Рассказать все подробнее. Понимаете, может, был с вами какой-то случай, который вы запамятовали, по который мог бы мне помочь. Может, был какой-то эпизод, на ваш взгляд, незначительный, а на мой, очень важный. Вот, к примеру, о разведшколе. Как вы ее раскрыли, часто ли бывали там? — О разведшколе… — Дорохов усмехнулся. — Не я ее раскрыл, а Смолягин Тимофей. Я что, человек не шибко грамотный… — Ну а все-таки, Василий Егорович, как вы догадались? — Тут, вишь, какое дело получилось, Андрей Петрович. Тимоха стал меня расспрашивать о том, что фашисты устроили на Выселках. Оказывается, им тоже здорово досталось, когда они напали на торфоразработки. И Тимоху заинтересовало, что там немцы делают, если такую охрану поставили. Я ему и говорю, вроде как торф добывают. Сам видел, как подводы с торфом вывозят. Тимоха насторожился и спрашивает: «А почему вроде?» Я тут ему свои сомнения и выложил: народу, говорю, там человек тридцать ошивается, а толку мало. Да и морды у них больно холеные… Тимоха тогда и говорит: ты, дескать, попробуй туда проникнуть и присмотрись повнимательней. А тут случись так, что у них полицая, который туда воду колодезную возил, с перепою кондрашка хватил, а я возьми и покрутись перед Хлыстом. Он посмотрел на меня да и говорит: «Что вы мучаетесь, вот хромой и будет воду возить…» Стал я туда ездить и присматриваться, примечать… Потом полицаи, которые ко мне ездили, как-то, напившись, стали говорить, что уж лучше из кустов пулю схлопотать, чем в НКВД попасться. Я и смекнул, что не чисто на Выселках, и Тимохе сразу сообщил. Через неделю Тимоха снова пришел и сказал, что там наверняка шпионская школа устроена, и еще просил, чтобы я приметы их запоминал, имена и ему сообщал. Незадолго до гибели отряда снарядил я лошаденку и поехал на Выселки с водой. Привез, гляжу, ведут фашисты трех ребят наших. Избитые, в рванье одном. Еле бредут, сердешные… Слил я, значитца, воду в чан, сдал мясо, стал выезжать из ворот. Обыскали меня, как положено, и выпустили… Поехал я домой не той дорогой, что в Ворожейки вдет, а другой, она сразу к болотам поворачивает. Правда, плохонькая, но тогда подморозило, и я решил, что проеду. Отъехал метров пятьсот, слышу, вроде как кто-то стонет. Остановился, доковылял до кустов, глядь, а там парнишка на земле корежится. Выглянул я на дорогу, никого — и к парнишке. Он без сознания лежит, только постанывает. В крови весь. Рядом яма, значитца, разворошенная, а в ней еще два парня лежат. — Дорохов судорожно глотнул воздух, потер горло. — Только мертвые. Подхватил я его и проволок до канавы, что на другой стороне дороги была. Думаю, бросятся искать, пущай решат, что через канаву прошел. Потом следы свои от волока замел, положил парнишку в телегу, прикрыл хворостом и погнал кобылку-то рысью… Дорохов замолчал, припоминая давние события, сумрачно глядя в догоравшие поленья в печи. Стемнело. Света они не зажигали, и только мерцающее пламя углей высвечивало угловатое, морщинистое лицо Дорохова, бросая тень на бревенчатые стены избы. В избе пахло мятой, кустики которой были развешены на веревочках поверх закопченного жерла русской печи. — А дальше, — негромко произнес Андрей, нарушив затянувшееся молчание. — Дальше?.. Дальше как-то неладно вышло… — Дорохов сконфуженно помолчал, но потом, видимо, собравшись с духом, продолжил: — Доехал я до старицы и пошел глянуть на гарь. Там еще до войны пожар был, и весь лес выгорел, пустая да ровная, словно плешь, гарь получилась. Решил я осмотреться поначалу. Там, бывалоче, бабы клюкву собирали, а мне лишний глаз и вовсе не нужон был… Да и на патруль можно было нарваться. Фашисты-то по лесу не особливо охочи шастать были, а вот до гари ходили. Вышел я, значитца, постоял, посмотрел — никого. Покурил. Думаю, куда спешить. Успеется еще в яму-то лезть, да и парнишке вроде бы ни к чему снова к фашистам попадать. Вернулся, сел на телегу, и тут словно меня кольнуло, приподнял хворост, а парнишки-то и нет. Соскочил я, стал звать его. Кличу потихонечку, что, дескать, не пужайся, свой я, не выдам тебя. И только ветер шуршит. Прошел я по кустам. Думаю, может, выполз и сомлел где. Никого нет. Следов и тех не видно — стемнело здорово. — Куда он мог деться? — искренне удивился Андрей, представив себе на секунду места на старой гари: там и зайцу негде спрятаться. — Сам ума не приложу… — Дорохов закашлялся и стал разгонять дым рукой, бросив окурок в печку. — Я, значитца, когда дня через три ко мне Тимоха наведался, рассказал ему все. Пожурил он меня, но не особливо. Я вот сейчас думаю, Андрей Петрович, что он меня так ругал, что парнишка этот в отряд дополз-таки… Может такое быть? «Уж не о том ли парне мне Мария Степановна рассказывала? — вдруг подумал Кудряшов. — Того самого, которого она переправила через Груню Алферову в отряд? Может быть… А полностью раскрываться он ей не стал — побоялся. Поэтому и сказал, что из эшелона бежал… Теперь понятно, почему Тимофей Смолягин не стал ругать Дорохова за потерю ценного человека! Тот уже в отряде был и, наверное, все рассказал…» — Вернее всего он до Груни дополз, — вдруг сказал Дорохов, — до ее избы-то с километр, может, чуть поболе. А она уж к Тимохе его переправила. Груня у меня — последняя связь… Не такая она баба была, чтоб в стороне стоять… — А вы точно знаете, что Груню Алферову расстреляли? — Еще бы. При мне Хлысту один полицай докладывал… — Она сама местная была? — Да как сказать. Иван-то Алферов наш был, ворожейковский. А вот ее взял из Плетнева. Деревня эта верст за пятнадцать от Радоницких болот к северу стояла. Да и сейчас стоит, что ей сделается. Сказывал, помню, Иван, что она одна жила. Родители померли. А Груню Иван справно увел у плетневских парней. Раза два они его били смертным боем, чтоб к ней не ездил… — Дорохов усмехнулся. — Ивана в сороковом году за хорошую работу охотхозяйство велосипедом премировало. Вот он к Груне и катал на нем. Съездит, а утром, глядишь, весь перевязанный и велосипед свой чинит. Крепко бедолаге доставалось. Да и потом не повезло. Убили его перед самой войной браконьеры. Витька Прохоров его нашел. Дня через три после уж смерти. Приезжала милиция, что-то там замеряла, записывала, ко мне приходили, спрашивали, не слышал ли явыстрелов в тот день. Как раз открытие на пролетную в тот день было, там вокруг болот грохотали охотники, что уши позакладывало… Следователь потом сказывал, что пулей круглой его уложили, а за что и про что, ничего не говорили. Так-то вот, Андрей Петрович. Дорохов встал и, потянувшись, закрыл дымоход заслонкой, включил свет. Лампочка под дешевеньким абажуром загорелась желтым мигающим светом, все время пыжась разгореться поярче и от натуги то и дело вспыхивая и тут же снова притухая, как слабенький огонек на мокром осиновом полене. Ночью Василий Егорович Дорохов не спал. Он сидел за деревянным столом и клеил свои старенькие резиновые сапоги. До весны было далеко, и, можно сказать, работа была неспешная, но Василий Егорович не мог сидеть сложа руки, когда думал. Он аккуратно вырезал из куска старой камеры заплатку и долго зачищал ее шкуркой, сосредоточенно поднося к глазам, прикидывая и осматривая, потом так же сосредоточенно зачищал разошедшийся шов и снова смотрел, как бы мысленно одобряя свою работу. Достал с полатей бутылочку резинового клея и, осторожно опрокинув ее, капнул на прокуренный указательный палец, помазав зачищенные места, закрыл пузырек и задумался. «Надо бы завтра, — думал он, глядя, как подсыхает клей, — веток на заячьих тропах подбросить да осины нарубить им, чертям косым. Стожки пора лосям ставить. Работы хоть отбавляй. Солонцы пора делать. На озере проруби рубить, чтобы рыба не задохлась…» — Ложись, Василий, — позвала с высокой, кровати Варвара Михеевна, приподымаясь на подушке и недовольно косясь на свет. — Ишь ты, разохотился. Поди, до весны-то еще как семь верст до небес, а ты уж за сапоги взялся. Полуночник старый. Ложись, ложись. Завтра доделаешь. А то и я не могу заснуть при свете-то. Ишь как светит проклятая: вечером не видно ни зги, а к ночи прямо как солнышко. — Оно и понятно, — рассудительно отвечал ой Дорохов, намазывая клеем подсохший слой, — вечером-то все у телевизора засиживаются, а к ночи-то, поди, в кровать тянет. Вот и светит хорошо. Вот сказывали, что нас к централи подключат, тогда, что ль, купить нам телевизер? — неожиданно спросил Дорохов, поднимая глаза от сапог. — Да на кой он нам, лупоглазый, нужен? — ахнула та, даже сев на кровати и всплеснув руками. — Как на что? — спокойно возразил Василий Егорович и, поправив очки на носу, продолжал: — Ребятишки на каникулы приедут — посмотрят. Все, как у людей будет. Нет, надоть купить, — решил он. — Вот заколю кабанчика, мясо в санаторий свезу и куплю. Сказывают, в сельмаг хорошие телевизеры поступили, «Рекорд». Да и парнишкам интереснее будет. А то как приедут домой, только их и видели. То с удочками на озеро ускачут, то по ягоды закатятся. В доме не видать. Непорядок это… — Ох, Василий, не потому они дома не сидят-то… — еле слышно вымолвила Варвара Михеевна и, сложив на коленях руки, уставилась застывшим взглядом в пол. — Да ты и сам знаешь. Дорохов хмуро сопел, прилаживая на приклеенной заплате деревянную струбцину. Зажав склеенное место между двумя кусочками фанеры, он затягивал струбцину, которая при каждом повороте тихо поскрипывала. То ли он не рассчитал усилия, то ли струбцина расклеилась, но вдруг раздался треск, и струбцина лопнула в пазах. А черт! — хрипло выругался Дорохов, с силой ударив сапогом о край стола и тут же отшвырнув его в угол избы. — Чего ты под руку лезешь? Сколько раз говорил, не суй нос ко мне, когда я дело делаю! Что тебе надобно? Ну, знаю я, знаю, почему они дома не сидят, ну и что… Я, что ль, виноват в том? — Василий Егорович вскочил и заковылял по комнате. Вдруг он остановился возле кровати и что-то хотел еще выкрикнуть, но, взглянув на вытиравшую слезы жену, тихо опустился рядом с ней и, обняв ее худые и угловатые плечи, тихо сказал: — Сам я все знаю, Варварушка, знаю… Что поделаешь?.. — А там-от как? — спросила Варвара Михеевна, вытирая краешком платка слезы. — Не знаю, — сумрачно ответил Дорохов и начал снимать гимнастерку. Раздевшись, он молча опустился на кровать рядом с женой, но уснуть не мог. Ворочался, вспоминая разговор с Кудряшовым. Странно, вдруг он, никогда не любивший вспоминать прошлое, боявшийся этих воспоминаний, почувствовал, что не может уснуть как раз потому, что эти самые воспоминания как-то успокоили его душу. Словно он еще раз прожил эти мгновения и еще раз понял, что поступал правильно. Что не было ошибок… Никогда и никто с Дороховым так не разговаривал: просто, по-человечески, без видимой участливости и сожаления, но с огромным желанием помочь. На всю жизнь запомнил Василий Егорович молоденького лейтенанта из СМЕРШа, который вел первый допрос. Невысокого роста, с малиновым шрамом на правой щеке, в застегнутом наглухо мундире, на котором поблескивали два ордена Красного Знамени, лейтенант внимательно, почти не мигая, смотрел на Дорохова и изредка задавал сиплым голосом вопросы. Был он какой-то нервный, с постоянно двигающимися руками: наверное, лейтенант недавно вышел из госпиталя. — Вот что, Дорохов, спасает тебя, — только то, что жители деревни в один голос подтвердили, что ты в карательных операциях против советских граждан и партизан участия не принимал. Так сказать, холуйствовал перед фашистами, и только. Кормил «завоевателей» дичью и ягодами. Потому ты, Дорохов, косвенно содействовал поддержанию боевого духа фашистов, а значит, был их пособником. — Гражданин следователь, — Дорохов уже «научился» общению, — я же говорил, что был в партизанском отряде как бы разведчиком, по заданию командира пошел работать в полицию… — Как бы… по заданию… Я вот что скажу тебе, Дорохов, — шрам на щеке лейтенанта побагровел, — если бы ты, сука фашистская, попался мне в 1942 году, то я просто шлепнул бы тебя без суда и следствия… Такие, как ты, в Смоленске моих стариков в газовой машине за пять минут на тот свет отправили… А тут… мои товарищи уже в Берлине воюют, а я тобой, недобитым прихвостнем, занимаюсь… Лейтенант долго молчал, сдерживая ярость, и в кабинете было слышно его свистящее дыхание. — Только одному удивляюсь… Все перед войной «активистами» были. Ударниками… Небось пел «Если завтра война…», а как фашисты пришли, сразу же все гады, вроде тебя, повыползали… Полицейскими, карателями стали… Мразь!.. Нет, мало мы вас перед войной почистили, мало! Потом был другой следователь. Пожилой капитан, равнодушный, спокойный. Дорохов в который раз рассказывал свою историю, тот молчал, изредка доставая из кругленькой коробочки леденец и бросал его в рот. Допросы были долгими, нудными. Капитан то и дело прерывал, просил повторить ту или иную деталь. Когда Василий Егорович повторял, то еле заметно усмехался и снова бросал леденец в рот. Шли дни, недели. Потом объявили, что завтра суд. Дорохов к этому времени внутренне ожесточился, сжался в комок. Понимая, что доказать он ничего не может, Василий Егорович ждал одного — суда. Молоденький лейтенант оказался прав. Тройка учла, что подсудимый не принимал участия в карательных операциях против советских граждан и партизан, и вынесла приговор: пятнадцать лет. Эшелон шел долго, почти три месяца. Дорохов, и от природы не шибко разговорчивый, всю дорогу молчал, не отвечая на расспросы соседей. Ему казалось, что вот-вот со скрипом отъедет вагонная дверь и войдет Варюшка, и тогда он скрежетал зубами и отворачивался к стенке вагона. Публика была самая отчаянная, в основном уголовники. Часто выясняли отношения, а однажды утром из вагона вынесли труп. На вопрос конвоира, что случилось, урки дружно ответили: — Повесился, гражданин начальник. Конвоир недобро усмехнулся, но шума поднимать по стал. Однако буркнул: — Закопайте за насыпью. Лагерь был небольшой. На первой перекличке Дорохов, хромая, сделал шаг вперед и, как положено, назвал статью и срок. — Что с ножкой? Натер? — издевательски-ласково спросил офицер в долгополой шинели. — Не гнется. — А… Сука фашистская… не гнется. Ничего, через педелю ты у меня польку-бабочку запляшешь. Состав заключенных был разношерстный. Уголовники, каратели, оуновцы, которых, кстати, было не так мало, и «враги народа», сидевшие ещё с довоенных лет, а потому создавшие свой, особенный клан. Верховодили оуновцы. А ими, как ни странно, плюгавенький, довольно молодой человек, требовавший называть себя «паном Вишневецким». Много позже Дорохов узнал историю этого пана, который носил высокое, по понятиям оуновцев, звание «провиднык». Иосиф Вишневецкий до войны окончил Львовский университет и стал активистом Организации украинских националистов. Сначала выполнял мелкие поручения, потом пошел в гору и стал редактором листка, который выходил раз в месяц. В 1939 году Вишневецкому пришлось туго. Он сменил фамилию — помогли друзья — и ушел преподавателем в глухую деревенскую школу, не порывая связи с Центром. Он походя собирал сведения о частях Красной Армии, аэродромах и настроениях односельчан. Раз в месяц к нему приходил связник, забирал донесения и уходил. Оуновцы ждали войны, но и сами не сидели сложа руки, готовили оружие, списки «москалей», а проще — коммунистов и тех, кто им сочувствовал. Немецкие войска вошли во Львов не под барабанный бой. Тем не менее оуновское подполье встречало их хлебом-солью. Пан Вишневецкий за особые заслуги стал редактором газетенки, выходившей на украинском языке. Газета вовсю восхваляла «новый порядок», выла по поводу «застенков НКВД», в которых пан Вишневецкий никогда не был, а потому врал со слов, но вдохновенно. После освобождения Львова пан Вишневецкий получил свой гонорар — двадцать пять лет — и пошел на отсидку. К удивлению, в лагере он встретил целую группу своих «коллег» по ОУН и как-то незаметно стал главарем. Уголовники пытались установить свои права, но не тут-то было. Оуновцы шутить не любили. После первой стычки за бараком нашли «пахана», вернее, его труп. Потом еще несколько. Удавка с колечком в руках «профессионалов» действовала наверняка. Уголовники приутихли, потом и вовсе смирились, стараясь не идти на конфликт с «панами». В сорок седьмом по этапу пришел новый зэк — Дорохов, которому с ходу дали кличку Хромой. Хотя Вишневецкий и его компания прекрасно знали, по какой статье пришел Хромой, но что-то в нем их настораживало. Вишневецкий пытался несколько раз вытащить Дорохова на разговор — не получилось. Интерес к нему пропал до тех пор, пока Редактор не узнал, что Дорохов написал кассационную жалобу. — Сука, — решили оуновцы и договорились Хромого припугнуть. Однажды ночью его вызвали из барака. Там стоял Вишневецкий и его два приближенных. — Хлопцы, це сука, — показал он пальцем на Дорохова. — Кончайте! Тут случилось неожиданное. Первый же, кто к нему подступил, неожиданно тонко по-бабьи вскрикнул и сел. Рука у карателя висела плетью. Василий Егорович простым сжатием раздробил кисть. Второму досталось больше. Дорохов чуть отступил, когда оуновец бросился на него с ножом, и по-мясницки, наотмашь ударил по затылку. Со стуком ударилось тело о землю. Василий Егорович обернулся — Редактора и след простыл. На следующее утро оперуполномоченный пытался выяснить, кто покалечил двух человек. Дорохов молчал, Вишневецкий, естественно, тоже. Установилось зловещее перемирие, готовое разразиться жестокой дракой. Так длилось несколько лет. В начале пятидесятых годов лагерь начал быстро расти. Буквально за месяц прибыла не одна сотня заключенных. Дорохов и еще несколько человек были направлены на строительство бараков. Администрацией лагеря было обещано в случае ударного строительства всей бригаде «премпаек». Строительство закончили к 7 ноября. Этот день был объявлен нерабочим. Василий Егорович накануне получил еще один отказ на кассационную жалобу. Его вызвал начальник лагеря и, с интересом разглядывая стоящего перед собой, зачитал отказ. Помолчал и вдруг неожиданно сказал: — Дорохов, послушай моего совета — кончай ты с этим… Ничего ты не добьешься, кроме неприятностей. Меня так уже запрашивали, что ты за фрукт и «не навесить ли ему еще пятерку за грамотность». Василий Егорович хмуро выслушал и попросил разрешения быть свободным. — Иди, Дорохов, — с сожалением произнес начальник. За долгие годы в аппарате ГУЛАГа капитан впервые почувствовал если не расположение, то странное для него чувство уважения к этому замкнутому, работящему мужику. И хотя вся его натура сопротивлялась этому, и хотя он сам себя уговаривал, что это фашистский пособник, возможно, каратель, но ни на секунду в глубине души капитан не сомневался в правдивости рассказа Дорохова. После войны он сталкивался с фактами, когда наши разведчики, заброшенные в фашистский тыл, после возвращения в расположение Красной Армии были осуждены. Им не верили даже ближайшие товарищи, думая, что молчание их было связано с перевербовкой гестапо. И наоборот, когда от кого-нибудь из них шли чересчур важные и секретные сведения о продвижении фашистских войск или о работе спецслужб, находились «бдительные» сотрудники, кстати всю войну просидевшие в Москве, которые тут же начинали уверять, что это «игра», «деза», подсунутая гестаповцами. Фронтовики не ломали ни перед кем шапки, вели себя достойно и обособленно. И капитан невольно начал задумываться, сопоставлять и… сам боялся собственных мыслей. 7 ноября пришла почта. Дорохов получил письмо от Вари. Как обычно, он делал так всегда на протяжении всего срока, Василий Егорович надел чистую рубаху и присел в своем бараке на нары, чтобы без помех прочитать письмо. Не успел он и страничку перевернуть, как в барак ввалилась компания во главе с Вишневецким. Они были в подпитии. Ни для кого не было секретом, что администрация «платила» оуновцам «за порядок» водкой. — Матка бозка! — фальцетом закричал Вишневецкий. — Глядите, хлопцы-панове, Хромой чистую рубаху надел? Праздник Великого Октября отмечает… Ха-ха! Ты что, лишнюю пайку перед буграми отрабатываешь? Кто ты такой? Такой же, как и мы, фашистское отребье, бешеные псы, питающиеся падалью? Под большевика работаешь, сука… Попался бы ты нам перед войной… Я бы тебя, холуй, собственной рукой, — Вишневецкий сделал характерный жест вокруг шеи, — удавил бы! Дорохов молча сложил Варино письмо и сунул в карман. Как-то криво ухмыльнулся, глядя на хохотавшую кодлу оуновцев, встал и, прихрамывая, направился к выходу из барака. Те его пропустили, но в самих дверях возник Вишневецкий. На улыбающемся лице со звериной ненавистью горели глаза. Дорохов понял, что драки не избежать. С нар наблюдали зэки, но никто не пошевелился, даже не попытался вмешаться. Дорохов сделал еще шаг и неожиданно резко опустил кулаки на голову Вишневецкого — тот мешком рухнул на пол. Василий Егорович бил его зло, не так, как дрались в юности стенка на стенку — весело, с ухарством и беззлобно. Он бил, как бьют в лагере сук-наседок — с желанием убить. Оуновцы остолбенели. В жуткой тишине были слышны только хряпающие удары, и вдруг… — Бей панов! С нар горохом посыпались зэки. Через секунду в бараке шла ожесточенная драка. Особенно жуткая потому, что никто не кричал, не ругался, дрались молча, понимая, что с секунды на секунду может ворваться охрана. Через минуту все было кончено. Зэки полезли на нары, а оуновцы, отплевываясь, подняли Вишневецкого и двинулись к выходу. В дверях один обернулся: — Ну, быдло вонючее, кровью харкать теперь будете! В ответ ему помчалась деревянная чурка, которой пользовались «фитили», чтобы забраться на верхние нары. Оуновец пошатнулся и стал оседать на пол, закрыв ладонями разбитое вдрызг лицо. Василий Егорович получил пятнадцать суток карцера. Когда он, пошатываясь от свежего воздуха и слабости, вышел, охранники доставили его к капитану. — Вот что, Дорохов, — мрачно произнес капитан, не глядя на него, — за драку в зоне я мог бы тебя отдать под лагерную тройку. Это, как минимум, пятерка… Но тебе повезло… Не до тебя сейчас. Неделю назад умер Сталин… Василий Егорович шатнулся вперед-назад. — Как?.. А как же теперь?.. Как? — Не знаю… Иди в барак и не высовывайся больше. Иначе… сам понимаешь. Дорохов доплелся до барака и рухнул на нары. Сколько мыслей пронеслось у него, сколько он передумал — один бог ведает. А может, и не было мыслей, а в голове стучал один и тот же, как пульс, вопрос: — Как же теперь? Как жить? В бараке было тихо. Заключенные по застарелой привычке старались не показывать своей реакции на смерть Сталина, но ночью то там, то здесь собирались группки и тихо обсуждали, что их ждет впереди. Они и не подозревали, что сидеть им еще несколько лет, а первыми выйдут на свободу, по злой воле Берии, уголовники, которым была предназначена жуткая миссия — вызвать дестабилизацию целой страны.
— Андрей, как дела? — спросил Игорь, потягиваясь в кресле. Андрей неопределенно пожал плечами. Говорить было нечего. То ли сказывался недостаток опыта, то ли однобокость информации, накопленной за все встречи и разговоры, но в голове Андрея был сумбур. Правда, где-то в глубине души теплилась надежда на то, что разгадка близка, но это чувство было настолько неопределенно и расплывчато, что Андрей боялся признаться даже самому себе в этом. — Фактов нет, — наконец произнес Андрей, поднимая взгляд на приятеля. — Просмотрел я последние радиограммы отряда, отправленные задолго до того, когда начался решающий бой. Сообщаются координаты разведшколы и все… У меня создалось впечатление, — вдруг медленно произнес Андрей и, встав, прошелся по комнате, — что эта каратель пая операция не была спланирована фашистами… Что-то произошло в школе, и это «что-то» заставило фашистов немедленно начать операцию против партизан… А уверенные действия карателей убеждают меня, что гитлеровцы знали точное расположение отряда, но откуда… непонятно. Может, в отряд проник агент гестапо? Кто он?.. — Кудряшов задумался и, прищурив глаза, рассматривал на стене календарь. — Меня также волнует тот паренек, которого спас Дорохов незадолго до боя. Понимаешь, если он был курсантом школы, то почему Смолягин не сообщил никаких данных о курсантах в Центр? А если это была игра гестапо? Возможен такой вариант? Игорь кивнул головой. — С другой стороны, — Егоров полистал документы в папке. — Вот… установлено, что гибель отряда была вызвана широкой карательной операцией фашистов против партизан по всей области. — В том-то и дело, что нет. — Андрей порывисто подошел к столу. — Смотри… Каратели начали действовать 2 ноября, а бой на Радоницких болотах произошел на десять дней раньше… Значит, не планировали фашисты эту операцию. Что-то заставило их вопреки приказу начать раньше. Что? — А из Белоруссии нет новостей? — Жду. Там найдены материалы гестапо, где упоминаются наши места. Зазвонил телефон, и Андрей рванулся к своему столу. — Андрей Петрович, — голос начальника звучал глуховато, — у меня в кабинете председатель Радоницкого райисполкома Прохоров Виктор Матвеевич. Зайди, пожалуйста. Когда Кудряшов вошел в кабинет Рослякова, тот разговаривал с пожилым человеком, сидящим в кресле рядом с письменным столом. Прохоров был одет в серый костюм. На белоснежной рубашке красноватый галстук. На левой стороне пиджака несколько рядов орденских колодок. Лицо грубоватое, с крутым подбородком и большим, с горбинкой носом. Курчавые волосы, несмотря на то, что их, очевидно, старательно расчесывали, торчали в разные стороны. Говорил он резко, басовито. Казалось, что он сдерживает голос, чтобы тот не слишком гремел. — Бюро обкома партии, Владимир Иванович, — услышал Андрей, закрывая за собой дверь, — приняло решение об осушении Радоницких болот. Нам выгода от этого прямая — появятся распашные земли и дешевое удобрение. — Знакомьтесь, — начальник посмотрел в сторону Андрея, — старший оперуполномоченный Кудряшов. Прохоров Виктор Матвеевич, председатель… — Да мы знакомы, — загудел Прохоров. — Так вот куда ты, Андрей, ушел? А я был уверен, что ты на партийную работу перейдешь! Жаль, жаль… Андрей неопределенно пожал плечами, не зная, как себя вести. Он знал Прохорова хорошо. Работая в обкоме комсомола, Андрей курировал комсомольскую организацию Радоницкого района и встречался с ним не раз и не два. — Да? — вопросительно, но неудивленно произнес начальник отдела и продолжил: — Тогда прошу садиться, Андрей Петрович… Прошу Вас, Виктор Матвеевич, еще раз сначала. — Пришел я вот по какому делу… В нашем районе живет и работает егерем Дорохов Василий Егорович. Мой товарищ и земляк. Во время войны он служил у фашистов лесничим. Как он мне говорит, а я ему верю, послал его на этот «пост» командир партизанского отряда Тимофей Смолягин. После войны с его делом разбирались. Ни в каких карательных операциях он не участвовал, но за якобы «пособничество» немцам отсидел. Не хотелось бы мне на его месте очутиться, — вырвалось у Прохорова, и он поежился. — Односельчане-то не видят его в упор. Косятся… И их понять можно. Отряд погиб. Мужья, отцы и братья их там были, а Дорохов жив… — Прохоров замолчал. Молчали и чекисты. — Много лет прошло, много воды утекло, но я уверен, что Дорохов пошел служить к фашистам только по приказу Смолягина. Иначе быть не могло — не таков он, Василий Дорохов. — Простите, Виктор Матвеевич, — осторожно вставил Андрей, — я бывал у Дорохова… Прохоров удивленно поднял брови. — Я хочу немного пояснить, — Росляков укоризненно покосился на смутившегося Кудряшова. — Руководством управления поручено нам заняться делом о гибели партизанского отряда Смолягина, а Василий Егорович Дорохов, по его словам, один из партизан. Поэтому наше внимание к его судьбе оправдано… Так что ты хотел спросить у Виктора Матвеевича? — Про детей Дорохова. Где они живут, дома я их не видел. — У меня… Из сторожки до школы почти пятнадцать верст… А у меня своих двое да Василия двое. Вроде как футбольная команда… — неловко улыбнулся Прохоров. Росляков бросил взгляд на часы и встал. — Я прошу меня извинить — у меня сейчас совещание начинается, — полковник смущенно развел руками, — продолжайте без меня. В комнате было тихо. Негромко шуршал на столе вентилятор, разгоняя табачный дым. Прохоров курил взахлеб. Рука с папиросой подрагивала, от чего дым завивался мелкими колечками. — Пепел, Виктор Матвеевич. — А? Что? — Пепел упадет. Прохоров решительно потушил папиросу о край пепельницы и, повернувшись к Андрею, сказал: — Андрей… Ты не возражаешь, если я тебя буду так называть? — И, увидев кивок головы, продолжил: — Понимаешь, Андрей, с Василием Дороховым меня связывает долгая дружба… Многое передумал Виктор Матвеевич Прохоров, прежде чем решился на этот шаг. Противоречивые чувства обуревали его, заставляли снова и снова вспоминать свою жизнь, жизнь друзей: Василия Дорохова и Тимофея Смолягина, Марии и Варвары и многих других. Почему-то теперь Прохоров оценивал свои поступки иначе, чем раньше. То, что после войны, когда он, боевой, заслуженный солдат, вернулся с фронта в родные края, казалось мелким и незначительным, теперь приобрело весомость. С тоскливым стыдом вспоминал Виктор Матвеевич себя и Василия Дорохова, которого тогда звали просто Васюхой. Сквозь прожитые годы острее вспоминались обиды, нанесенные им Васюхе, и то, как на это реагировал он сам… незлобно, с какой-то не по годам всепрощающей улыбкой умудренного жизнью человека. Может быть, потому, что был молчалив и застенчив, Васюха вызывал шутливые, а иногда и не очень шутливые насмешки. Вздрогнул Виктор Матвеевич, словно что-то вспомнил, и неожиданно тихим голосом сказал: — Слушай, Андрей, все равно без этого не обойтись… Летние вечера в Ворожейках были тихими, словно девичьи вздохи. Солнце пряталось в туман на болоте, как в пуховое одеяло. Небо в том месте нежно меняло окраску: малиновые тона переходили в оранжевые, еще выше в еле заметные зеленые, потом в синеватые, синие. А над самими Ворожейками уже горели, помаргивая, яркие звезды. Загорались мутные огоньки в избах, да и то ненадолго: керосин жалели не потому, что он был дорог, просто ходить за ним надо было в Гераньки, за пятнадцать верст. Самая яркая лампа — двенадцатилинейка была в доме Маши Уваровой, потому что все уваровские бабы испокон века были кружевницами. А им без света как без рук. Парни и девки собирались возле колодца. Был там вытоптанный бойкими каблуками пятачок и поваленная грозой береза. Первым к колодцу подходил Витюха Прохоров с двухрядкой. Пробегал пальцами по кнопкам, наигрывая и то и се, и в общем что-то непонятное. Разыгрывался. Доставал пачку папирос и ловким щелчком отправлял одну в рот — он сам видел, как в Гераньках так делал Афонька Смирный, лучший гармонист в районе, а может быть, и во всей области. Распускал шнурок на вороте фиолетовой футболки, точно такой же, как и у Афоньки, и, наклонившись левым ухом к мехам, медленно и нежно брал первый аккорд. Звук гармони плыл в воздухе, как запах черемухи весной, и тут же возле колодца появлялась Маша Уварова в цветастом: платье и небрежно наброшенном на плечи платке. Невысокая, ладная, она словно нехотя присаживалась рядом, наполняя Витюхино сердце волнением и болью. Ненароком поводила на него бровью, впиваясь лукавым, обжигающим взглядом. Расправляла оборки на коленях, заставляя Витюхины глаза косить на стройные, загорелые ноги в белых носках и легких туфельках. Вздыхала, от чего гармонь издавала тут же негромкий стон. — Что-то сегодня парней не видно… — Здрасьте вам, — обижался Витюха, — а я что, молотилка! — Какой ты, Витюша, парень! Ты гармонист наш ненаглядный! — звонко хохотала Маша, ненароком прижимаясь к нему плечом. — Здрасьте! — Из темноты возникала фигура Тимки Смолягина. Он был тоже в футболке, только белой. Тимофей шагнул поближе к поваленной березе и, поправив пшеничные волосы, разлетевшиеся тут же по сторонам, сел возле Маши. — Как живете, ребята? — Ой, не могу, — захохотала Маша, прижимая узенькую ладошку к губам, — Тимоха, да мы же сегодня вместе сено косили, что же ты спрашиваешь? Как избрали тебя секретарем ячейки, так ты совсем обюрократился! Как дела? Как сажа бела… — А он, Маня, даже галифе выменял на базаре после того, как его избрали, — пустил шпильку Витюха, мучительно завидовавший Тимке, когда тот появлялся в них на посиделках и комсомольских собраниях, — чтоб на настоящего комсека походить… Вишь, какой сурьезный сидит, словно поп на поминках! — Кстати, о попе, — спокойно и не торопясь сказал Тимка, — не ты ли это, Прохоров, гераньковскому попу в нужник дрожжей насыпал? Цельную неделю вонь по деревне идет… — Так ему и надо, долгогривому, — горячо выкрикнул Витюха, — чтоб людей не стращал всякой поганью… «Вопиум» недодав ленный! — перевел дыхание и вдруг быстро добавил: — Я, конечно, ничего такого не делал, но считаю, что все правильно. — Я тебе, Витюха, в последний раз говорю, — не повышая голоса, сказал Смолягин, — еще раз такое отчебучишь — на ячейку вызовем. Ты с религиозным дурманом убеждением борись, а не хулиганскими выходками. — Вызовет он, как же, — бормотал присмиревший Витюха, — испужал, поди, до смерти. Я сам кого хошь вызову. Нашелся, а еще дружок-годок называется… Вышла луна, и сразу стало светло. Даже темные бревна колодца, казалось, засветились серебристым светом. Слева от изб и берез на широкую улицу упали черные тени, а крыши пожелтели, словно по ним прошлась кисть с позолотой. Возле колодца стало люднее — ребята подходили поодиночке и группами. Смех, шутки. Кто-то над кем-то подтрунивал, вспоминая сломанные на сенокосе грабли, кто-то рассказывал о новом фильме, который шел в гераньковском клубе. Неожиданно на дальнем краю села дружно загавкали собаки. — Иван Алферов на велосипеде к Груньке покатил, — тут же определил кто-то причину, — опять ему плетневские накостыляют… Намедни таких фонарей навешали, что «тпру» сказать не мог! — Много вы понимаете! — сердито сказала Маша. — Вот это называется любовью! За пятнадцать верст катает и никаких фонарей не боится… Не то что вы! Верно, Варюха, я говорю? Варя Лагина, невысокая, курносенькая девушка, молча пожала плечами и ничего не ответила. Была она какая-то незаметная, тихая. Даже на посиделках старалась сесть в сторонке, больше молчала, а на вопросы отвечала односложно. Парии ее обходили. Что это за девка, которая ни частушку не придумает, не спляшет! Вот Мария — это да! Она и за словом в карман не полезет, да и редкий парень мог ее переплясать. А Варька? Как-то раз Витюха Прохоров, обозленный, что Мария на него и смотреть не хочет, пошел ее провожать. Возле калитки Вариного дома он настойчиво ее обнял и привлек к себе, пытаясь поцеловать. — Не надо, — сказала ровным и тихим голосом Варя, — слышишь, не смей. И Витюхе стало вдруг невыносимо стыдно. Он был готов тут же убежать, но самолюбие не позволяло сделать шаг в сторону, и он, разжав руки и мучительно краснея в темноте, хрипло и задиристо вымолвил: — А те я те сделал? Подумаешь, «королева» нашлась! Да я таких девок целовал, что ты им и в опорки не сгодишься! — Вот к ним и ступай, — с еле заметной ноткой презрения сказала Варвара. — До свиданьица. — И она, легко ступая, направилась к избе мимо застывшего Витюхи. — Эх, Витюха, сыграй, что ли… Споем, девоньки? — Маша встала и, поправив платок на плечах, подошла к Варе. Села рядом с ней и, обняв ее, тихо и нежно пропела первое слово. В песню вступали исподволь, словно каждый точно знал, где он должен вступить, чтобы не нарушить ее, а только подчеркнуть своим голосом напевность и красоту русской мелодии. — А где Василий? — неожиданно спросила после наступившей тишины Маша. — Что-то его сегодня нет? — Да тут я, — раздался из темноты негромкий голос, — уж так ладно вы пели, ребята, что и мешать не хотелось… От колодца к стволу березы подошел невысокий кряжистый парень в наброшенном на плечи пиджаке. На круглом, неулыбчивом лице выделялись мохнатые брови и широкий, лопатистый нос. Кудрявые волосы спускались на шею и уши, а на лбу вились мелкими колечками. Брюки заправлены в яловые, пыльные сапоги, а старенькая сатиновая косоворотка была аккуратно заштопана, но неумело, по-мужски, через край. — Чего так поздно? — спросил Тимофей, прикуривая папиросу. — Да поперву садки на болотах осматривал, а потом по хозяйству дела были, — невозмутимо ответил Василий, — огуречики прополоть надо было, чай растение простор любит… Ребята громко засмеялись. — И чего ты огурцы огуречиками зовешь? — спросил Виктор Прохоров, наваливаясь грудью на гармонь. — А кто его знает, — добродушно ответил Дорохов, — у нас на болоте все их так зовут. Огуречики да огуречики. Знать, потому, что вкусные они у нас растут. Что для соленья, что так… — Ты, Васюха, со своими садками да огуречиками так холостым и останешься, — хохотнул Прохоров, толкая локтем Машу. — Не бойсь, своего не упущу, — негромко и твердо бросил Василий и взглянул на Машу и Варвару, сидевших рядом с гармонистом.
«Герр штандартенфюрер СС… Довожу до вашего сведения, что при проведении контрольных мероприятий службой безопасности школы в одной из групп, предназначенных для заброски в тыл противника, выявлено три курсанта, готовивших побег. В соответствии с инструкцией служба провела с ними игру. После ареста группа была расстреляна. Однако через два дня установлено следующее: из общей могилы исчезло тело курсанта по кличке Лось. Прочесывание местности результатов не дало, так как после акции целый день шел сильный дождь, уничтоживший следы. Обыски в деревне Ворожейки результатов также не принесли. Докладываю на ваше решение.— Я чувствовал, что в школе что-то произошло… — горячо начал Андрей, но, встретив добродушный взгляд полковника, смутился. Росляков кивнул.Начальник школы Н-125 штурмбаинфюрер Адольф Готт».
«Герр штандартенфюрер СС… Сообщаю вам, что в районе дислокации школы неоднократно замечалась работа коротковолновой радиостанции русских. Судя по почерку радиста, можно предположить, что работает первоклассный специалист. Выходит на связь крайне редко, но все же нами установлена периодичность его работы. Пеленгаторная служба установить точное место его нахождения не смогла. Прочесывание близлежащих лесов крайне затруднено из-за непроходимых болот. В связи с тем, что в районе школы не было активных действий партизан или парашютистов, предполагаю, что в районе Радоницких болот находится разведгруппа русских, которая ведет активное наблюдение за школой. В связи с этим полагал бы: установить вокруг школы дополнительное кольцо постов полицейских из Радоницкой комендатуры. Провести в Гераньках и Ворожейках ночные обыски с целью выявления лиц, сотрудничающих со скрывающейся группой русских.Штурмбаннфюрер СС Готт»
«Герр штандартенфюрер СС… На Ваш запрос сообщаю, что тело курсанта Лося обнаружить не удалось. Полагаю, что он был обнаружен группой, скрывающейся на Радоницких болотах. С целью обезопасить школу от расшифровки полагаю провести следующие мероприятия: 1. Немедленно начать ранее Вам доложенную операцию «Лесник». 2. В случае положительного исхода начать немедленную операцию по захвату группы русских или ее ликвидации. Прошу Вашего разрешения.Штурмбаннфюрер СС Готт»
«Герр штандартенфюрер СС… Операция «Лесник» развивается по намеченному плану. Согласно Вашего указания после фотографирования архивы и личные дела курсантов и заброшенной агентуры уничтожены. Фотопленки направлены в Ваш адрес. Личный состав школы после проведения операции по захвату разведгруппы русских передислоцируется, как оговорено, в пункт «Д».Штурмбаннфюрер СС Готт»
«Герр штандартенфюрер СС… Операция «Лесник» закончена. В связи с создавшейся обстановкой прошу разрешения на немедленную ликвидацию разведгруппы русских силами гарнизона полевой жандармерии ГФП-650 и полка пехоты, дислоцирующегося в поселке Гераньки. Вывод агента Лесник предполагаю провести в момент боя, что обеспечит ему легенду и даст возможность использовать ого в дальнейшем.Андрей почему-то вдруг подумал, что какой-нибудь год назад он даже и представить себя в роли контрразведчика не мог. Он невольно усмехнулся и, сдерживая улыбку, наклонил голову и еще раз пробежал глазами документы. — Мне кажется, что картина начинает проясняться, — раздался глуховатый голос Рослякова, — как думаешь, Андрей Петрович? — Да как-то сразу… — замялся Андрей, оторванный от своих мыслей, — не соображу… Только думаю, что не Лося ли Дорохов спас? По-моему, его. — По-моему, тоже. — Полковник подошел к окну и из-за занавески достал большой термос. Разлил горячий кофе по стаканам и под укоризненным взглядом Петрова виновато развел руками. — Не могу без него, проклятого… Ну, фантазируй, боец, фантазируй. — Так как Смолягин ничего не сообщил в Центр о личном составе школы, думаю, что Лось или был убит Лесником, внедрившимся в отряд, или умер от ран. Кудряшов растерянно замолчал — иссякла фантазия. Может быть… Мне думается, Владимир Иванович, что надо искать Лесника. Кто он, что он… — Лося тоже… Эту версию отбрасывать нельзя. Кстати, посмотри, Андрей, по архивам контрразведки СМЕРШ этого фронта, нет ли где упоминания о захвате заброшенных групп из этой школы. — Слушаюсь, — Андрей встал. — Разрешите идти? — Дерзай, боец. Росляков и Петров молча пили кофе. — Ну как, Владимир Иванович, старший опер? — невинно спросил Петров. — Толк будет… — Росляков сполоснул стакан и спрятал термос за штору. — Пишет, чертяка, здорово. Посмотри его отчеты, залюбуешься. Психологию людей понимает… — Да я и смотрю, — в тон вставил Петров, — что ты вроде как воспитателем его стал. — Не воспитателем, — Росляков добродушно погрозил ему пальцем, — а наставником. — Ты, Андрюша? — Петр Никитович повернул лицо к двери. — Я, папа, — Андрей прошел в комнату и, наклонившись, поцеловал отца в щеку. — Как ты? — Хорошо, хорошо… — Отец сделал попытку привстать с кресла, в котором сидел, но Андрей ласковым прикосновением руки заставил его снова опуститься. — Я сам… Папа, я купил сосисок и торт. Сейчас я быстренько отварю рожки, и будем ужинать. А потом — чай. Андрей прошел на кухню и, достав из портфеля покупки, разложил их на столе. Взял с полки кастрюльку и, налив в нее воды, поставил на газовую плиту. В прихожей снял костюм и повесил на плечики. Рубашку долго пристально осматривал, скомкал и бросил в ванную. Надел синий тренировочный костюм и вошел в комнату. — Ну, как работа? — спросил отец. — Нормально. А у тебя как? — Хорошо. — Петр Никитович улыбнулся. — Целый день слушал приемник… Здорово все-таки. Раньше я на него как-то и внимания не обращал, а сейчас, как говорится, единственная связь с миром. — Ну, ты это брось, папа, единственная, — с укоризной сказал Андрей и присел на подлокотник. — А я? Сейчас почитаем с тобой газеты… Так, ты передовицу будешь слушать? Отец кивнул. Он ждал этой минуты целый день. Той самой, когда Андрей присядет на подлокотник и, развернув свежие газеты, начнет читать. От газет пахнет типографской краской, и этот запах Петра Никитовича сразу же успокаивал, убеждал, что он живет и что он нужен. После того как газеты были прочитаны, Андрей стал накрывать на стол. — Почему ты не женишься? — Рано мне, батя. — Андрей ласково провел рукой по руке Петра Никитовича. — И работы много… успею еще. — А мне вот внучонка хочется понянчить, — неожиданно теплым и дрогнувшим голосом произнес отец. — Детей я очень люблю, Андрюша… — Будет время, папа, понянчишь… Давай-ка лучше ужинать. После ужина Петр Никитович улегся на диван и, включив приемник, стал слушать последние известия, а Андрей на цыпочках вышел в коридор и, стараясь не шуршать бумагой, развернул заранее приготовленный сверток. — Батя, тут Дед Мороз приходил, — шутливо сказал Андрей, усаживаясь рядом с отцом, — и принес тебе подарок на Новый год. — Какой? — удивился Петр Никитович. — Магнитофон… «Спутник» называется… Отец Андрея ослеп шесть лет назад. Тяжелое ранение, полученное при взятии Праги, сказалось через двадцать пять лет. Петр Никитович тяжело переживал свою слепоту. Ночами не спал, ворочался. За два месяца он похудел, осунулся, сразу почувствовал себя стариком. Таким отца Андрей видел только, когда умерла мать Андрея, Елизавета Васильевна, или, как ее звал отец, Лизанька. Все в ее руках спорилось, горело. Зная о тяжелом ранении мужа, она все заботы по хозяйству взяла на свои плечи. Как-то незаметно и умело оберегала мужа и сына от домашних дел, как ей казалось, хлопотливых и скучных. Отец и Андрей занимались своими делами, особенно не раздумывая, откуда берется на столе каждый вечер ужин, по утрам выглаженные и пахнущие свежим ветром рубашки, отутюженные брюки. Петр Никитович работал заместителем директора педагогического техникума по воспитательной работе и преподавал в нем историю КПСС. Работы было много, хлопот хоть отбавляй. По вечерам за ужином он обычно рассказывал жене о своих делах, заботах. Елизавета Васильевна слушала его внимательно, горестно вздыхала, что-то советовала, негодовала вместе с ним, переживала. Андрей учился в институте на пятом курсе. В тот год его избрали секретарем комсомольского бюро курса и членом комитета комсомола института. Забот прибавилось, и дома он показывался поздно вечером, так же, как и отец, торопливо проглатывал ужин и с набитым ртом рассказывал матери о своих заботах. Мать и для него находила какие-то советы, а самое главное — участливость и доброту. Поэтому, когда Елизавета Васильевна легла в больницу, отец и сын думали, что все это ненадолго и скоро снова в квартире зазвучит ласковый и заботливый голос матери. Но Елизавета Васильевна из больницы не вышла. Невыносимо тяжко стало в квартире Кудряшовых. Все напоминало об утрате. Каждая вещь, каждая мелочь, казалось, хранили тепло ее рук, и от этого боль становилась еще ощутимей. Петр Никитович постарел и сдал. И только Андрей поддерживал его. Он сам, не понимая этого, своими разговорами о комсомольских делах заставлял отца как-то забыться. Они еще больше сблизились — отец и сын. Они вдруг почувствовали, что нужны друг другу каждую минуту, постоянно. Андрей к тому времени закончил политехнический институт и работал на заводе инженером, а Петр Никитович по-прежнему в педагогическом училище. Встречались они вечером и, на скорую руку приготовив ужин, садились за стол и рассказывали, перебивая друг друга, о своих делах. Однажды Андрей заметил, что отец шарит утром руками в поисках очков по крышке стола, хотя очки лежали на самом видном месте, и предчувствие беды сжало ему сердце. Он молча подал отцу очки, а тот вдруг крепко сжал Андрею руку и вздохнул. После этого случая Андрей стал провожать отца на работу и встречать. Но отец видел все хуже и хуже, врачи разводили руками — тяжелое ранение головы. Вскоре отцу пришлось уйти на пенсию. Из дома он не выходил. Целыми днями сидел в пустой квартире и что-то писал. Писал торопливо, засиживаясь по ночам. На укоры сына отвечал односложно: «Андрюша, пойми, сынок, мне надо закончите до того…» Тут он замолкал и снова брался за авторучку. Но буквы с каждым днем становились все больше, строчки в рукописи все реже. А Андрей, возвращаясь домой, все чаще заставал отца сидящим в кресле с закрытыми глазами. Однажды Андрей взял несколько листов и прочитал: это были его воспоминания. Жизнь отца, деда… Андрей, работавший к тому времени в отделе пропаганды обкома комсомола, усмехнулся. В его столе лежало несколько громадных рукописей воспоминаний старых комсомольцев, участников гражданской войны. Были они несовершенны и к печати не годились, но… у Андрея не хватало сил сказать об этом этим заслуженным людям. Он понимал их. Прожив жизнь, они хотели рассказать о ней его поколению, но не умели… Читая торопливые записи, Андрей вдруг понял, что отец этим живет. А когда Петр Никитович не смог продолжать записи, Андрей понял, что отец потерял дело, которое давало ему силы жить.Штурмбаннфюрер СС Готт»
— А зачем мне магнитофон? — удивленно спросил Петр Никитович, поворачиваясь лицом к сыну. — Понимаешь, отец, я подумал, что ты сможешь продолжать свою работу… Ну ту, которую ты начал и не закончил. — Андрей ласково погладил отца по плечу. — Это очень просто: вставляешь кассету, включаешь магнитофон на запись и диктуешь. Да это и удобней, чем писать авторучкой. Я слышал, что сейчас все писатели пользуются только магнитофонами… Плечо отца под рукой Андрея вздрогнуло. Отец прижался щекой к его пальцам и изменившимся голосом спросил: — А ты что, читал? — Читал, папа. Отец молчал, и Андрей, поняв молчаливый вопрос, спокойно и тихо произнес: — Я думаю, отец, это нужное дело… И для тебя, и для меня… Ты должен продолжать работу. Ты просто обязан довести ее до конца. Я буду помогать тебе, папа. На машинке печатать я умею. Ты будешь надиктовывать на кассету, а я по воскресеньям перепечатывать. Из-за невысоких бугров и пологих холмов, которыми так богата подмосковная земля, кокетливо извиваясь, бежит речка с удивительно чистым и звонким именем — Истра. Недолог ее путь, не глубока она, не широка. Тысячи ключей питают ее на всем пути, и, наверное, от этого так холодна ее вода, а течение быстро. Иногда кажется, что Истра живет как живое существо и радуется и хочет радовать всех. Около высокого холма, на котором опальный Никон выстроил Новоиерусалимский монастырь, делает Истра крутой изгиб, огибая широкий луг вблизи березовой рощицы. На этом лугу стоит небольшая деревенька Никулино. Десяток домов, столько же огородов, на которых ровными рядами тянутся к солнцу нежно-зеленые побеги картофеля да пачками стрел растет лук. Около самой речки, на отшибе, стоит маленькая закопченная кузница, возле которой в беспорядке валяются сломанные бороны, плуг с выщербленным ножом и еще какие-то металлические полоски, бруски, прутья. Двери в кузницу широко распахнуты. Там, около гудящего пламени горна, ловко переворачивая клещами раскаленную заготовку, стоит невысокий мужчина с небольшой черной бородкой и взлохмаченной головой. Полинявшая от пота косоворотка с оторванными рукавами распахнута на груди. Кожаный фартук испачкан ржавчиной, гарью, копотью и бог знает еще чем, и кажется, что сними его сейчас Никита Иванович и поставь на пол, и будет фартук стоять словно каменный, повторяя складную фигуру старого кузнеца. А в глубине кузницы ловко гоняет старые, латаные-перелатаные меха Петр, сын Никиты Ивановича, чумазый парень с широкими плечами и мускулистыми руками. Русые волосы вьются колечками, домотканая рубаха заправлена в старые порты, подпоясанные веревкой. — Нут-ко, Петруха, подсоби. Петр, бросив ремень, которым качал меха, быстро подходит к отцу и, приняв из его рук клещи, без видимых усилий перебрасывает светящуюся заготовку на наковальню и берет в руки молот. Кует он играючи, шары мышц перекатываются под кожей, кудряшки лезут в глаза, и он, досадливо морщась, сердито шевелит бровями, словно хочет этим движением подправить волосы. Слетает при каждом ударе окалина, сыплются искры, а на черном металле наковальни отчетливо начинает появляться золотистый контур серпа. — Будя, парень… — Отец отбрасывает молоток и снова сует поковку в гори. — Нут-ко, Петруха, пошевели меха, чтой-то тускнеть железо стало. И снова мерно вздыхают меха, попискивая благодаря незаметной дырочке, которую, как ни искал Петр, так и не смог найти. Да и нужно ли искать ее? Может, как раз этой незатейливой песни и не хватает для работы, для того, чтобы каждый день был наполнен грохочущей радостью, гудящим пламенем горна… И снова падает молот на наковальню, снова старый кузнец ловко переворачивает почти готовый серп и, наконец, как-то по-особому звякнув молотком, кидает темно-красный, словно бровь матерого глухаря, серп в ведро с водой и, разогнувши спину, бросает: — Шабаш, Петруха, подмети пол… Чичас мать харч принесет, обедать будем. Нам ишшо с тобой десяток серпов этих сработать надоть. Возьми ведро, сходи на речку… Петр, прикрывшись ладонью, внимательно смотрит на косогор, за которым спряталась их деревня. — Смотри-ка, батя, хтой-то на лошади скачет… — Петр показывает рукой на отчаянно несущегося во весь опор всадника. — Мишутка Калугин… — определяет Никита Иванович, зорко всматриваясь в седока. — Ишь, шельмец, как ловок! — В голосе его звучит одобрение. — Десять годков, а скачет ладно… Чтой-то он несется, как угорелый? — вдруг с зародившейся тревогой спрашивает он сам себя, забыв, что рядом стоит Петр. Всадник остановил лошадь прямо перед ними. Разгоряченная кобыла тонко и нервно перебирает ногами, а Мишутка, вертя головой и стараясь все время смотреть на Никиту Ивановича, тонким срывающимся голосом кричит: — Бяда, дядя Никита! Война началася… Папаня прислал до вас, чтоб, значит, сразу в деревню бежали… Чичас по радио будут выступать… Бяда, дядя Никита! Никита Иванович вздрагивает, лицо каменеет, и только серые губы что-то беззвучно шепчут. Он долго смотрит вслед умчавшемуся Мишутке, потом оборачивается к застывшему Петру, как-то тяжело и по-новому смотрит на сына. — Так… — не раскрывая губ, наконец, выдавливает он, — отработались, значит, мы с тобой, Петруха… Полезли-таки гады… Чтоб им ни дна ни крышки не видать… Собирай инструмент и догоняй… Он широким шагом направляется в деревню, а Петр, сорвавшись с места, начинает собирать инструмент и поковки, складывает все в кузницу и, быстро накинув амбарный замок на петли, резко поворачивает ключ. Окидывает взглядом кузницу и бегом догоняет отца. Врытый в землю стол под старой яблоней в саду Кудряшовых был накрыт наспех. В глубокой тарелке вперемешку с квашеной капустой лежали соленые помидоры и огурцы. Шмат сала был не порезан. В кринке холодело молоко. На запотевшем ее боку появились капельки воды, медленно стекавшие вниз и оставлявшие на крутых боках кринки темные потеки. Отдельно стояли моченые яблоки, источавшие кислый и в то же время аппетитный запах. Яркое летнее солнце стояло почти в зените и сквозь колышущуюся листву яблони бросало длинные желтые блики на накрытый стол и две лавки вдоль него. На лавке, уставившись в стол невидящими глазами, сидит жена Никиты Ивановича Дарья Сергеевна, невысокая, рано постаревшая, в синем сатиновом платке. Она тихо вытирает уголком платка заплаканные глаза и украдкой поглядывает на хмурого мужа и взволнованного Петра, который старается есть с достоинством, то и дело поглядывая на отца, словно примеряется к его неторопливым движениям. Никита Иванович, погруженный в свои думы, этого не замечает. Его морщинистое лицо побагровело, словно он что-то мучительно обдумывает, стараясь найти такие слова, чтобы остались в памяти надолго. Наконец он кладет вилку на стол, неторопливо вытирает загорелой ладонью рот и, бросив взгляд на жену, начинает медленно говорить: — Вот что, Петруха, ты один у нас с матерью… Дед твой, да и я всю жизнь были солдатами справными… Не посрами нас, Кудряшовых… всех русских людей, земляков своих не посрами… Петр слушал напряженно, не поднимая глаз. Ему вдруг почему-то показалось, что голос стал у отца другим: требовательным и жестким, и от этого у него вдруг заволновалось сердце, и ему захотелось встать, как перед учителем. Он тихонечко положил вилку на стол и, выпрямившись, старался медленно и незаметно прожевать картошку, которую перед самым началом разговора положил в рот. — На рожон не лезь… — Никита Иванович сурово посмотрел из-под лохматых бровей на сына. — Слушай командира и смекай, как лучше выполнить его приказ… Но и живота своего не жалей. Помни: друга раз выручишь, он потом тебя тысячу раз спасет! Не знаю уж, как получится, по ежели в разные части попадем, пиши матери… Через нее спишемся. Помни, каждое письмо матери — весточка не только от тебя, но и от меня… А ты, мать, ключи от кузницы спрячь. Вернемся, надо будет хозяйство налаживать… Неладно как-то все, — с беспокойством быстро проговорил он, — серпов маловато сробили, да и жатку не отремонтировали… Эх, бяда, бяда! Старший Кудряшов вытащил из кармана часы на цепочке и, отколупнув крышку ногтем большого пальца, бросил взгляд на циферблат. — Однако пора нам, парень… — каким-то поскучневшим голосом сказал он. — Прощавайся с матерью, Петруха. Дарья Сергеевна обняла притихшего Петра и вдруг, не выдержав, тихо заплакала, прижимаясь всем телом к широкой его груди. Худенькие ее плечи вздрагивали, и высохшие тонкие руки жадно и нежно гладили плечи и шею сына. В груди Петра поднялось огромное чувство нежности. Он вдруг понял, что, может быть, видит мать в последний раз, и, крепко сжав ее в своих объятиях, быстро зашептал: — Мама, ты не беспокойся… Все хорошо будет… Мы с батяней скоро вернемся, мама… Ты себя береги… это… ну, не беспокойся, мама. Никита Иванович, молча смотревший на них, встал. — Давай-ка, мать, поцелуемся, что ли… Ну, ну… Ты-то уж меня не на первую войну провожаешь! Чего ты, мать, в самом деле… — говорил он, с любовью и волнением гладя волосы жены. — Да и Петруха у нас парень ладный, хоробрый… Справный солдат получится из него… Не сумлевайся.
Возле сельсовета собралась вся деревня. Уходящие на фронт стояли окруженные родственниками. Кое-где слышались рыдания, быстрый говор. Возле двух полуторок, рядом с председателем колхоза и секретарем парткома стоял пожилой лейтенант в плохо пригнанной форме и усталым лицом. В нем Никита Иванович узнал инструктора райкома партии Зеленцова и направился к нему. Молча пожал руку и негромко сказал: — С нами поедете, Денис Алексеевич? Зеленцов кивнул головой, но тут же добавил: — Только до военкомата… Я ответственный за мобилизацию от райкома партии. Народ прибывал. Пришли даже старики, которые, сколько Петр помнил, обычно сидели на завалинке сельсовета и тихо обсуждали последние новости. Мать цепко держалась за его рукав и, жадно вглядываясь в его глаза, тихо шептала: — Петрушенька, ты уж, сынок, поосторожней там… Один ты у меня ненаглядный… один… — Да ладно, мама, — смущенно проговорил Петр, осторожно оглядываясь по сторонам и стараясь высвободить руку. Но кругом стояли его друзья — ребята его села, и их, точно так же, как и его, держали за руки матери и с полными слез глазами что-то тихо нашептывали, изредка касаясь уголками платка глаз. Взгляд Петра скользил от одной группки людей к другой, изредка останавливался на знакомых лицах, словно старался запомнить их. — Твой, что ли, парень, Никита? — кивнул в сторону Петра Зеленцов. — Мой… восемнадцать исполнилось… Не думал не гадал, что придется вместе с сыном воевать, — грустно добавил Никита Иванович. — Ты тоже… на фронт? — спокойно спросил Зеленцов, не глядя на него. — А как же, Денис Петрович, — так же спокойно произнес Кудряшов, — чай мы с тобой солдаты старые — нас учить этому ремеслу не надо… Ты-то, Денис, уж и форму нацепил, как я погляжу. Митинг кончился быстро, и тут же раздалась команда: «По машинам!» И только все расселись на новых лавках в кузовах полуторок, как те, поднимая шлейфы пыли, тронулись. Медленно, медленно уплывали назад знакомые до боли дома. Медленно, медленно отставали бежавшие за машинами жены и матери, спотыкаясь, что-то крича и протягивая руки. Дарья Сергеевна пробежала шага два и, бессильно опустившись на землю, невидящими от слез глазами смотрела на мужа и сына. Такой она и осталась в памяти Никиты Ивановича и Петра. Такой и вспоминал ее Петр всю жизнь.
— Что это ты, боец, уж больно скромен на совещаниях? — Росляков с шутливой строгостью посмотрел на Кудряшова. Андрей смущенно пожал плечами. — Ты не красней. — Да вы, Владимир Иванович, сами все ставите на свои места, так что и добавить нечего. — Ты же оперативный работник, Андрей. Слушай, думай, анализируй… А вдруг тебе придет в голову мысль, которая может оказаться ценней двухчасовой беседы. Верно я говорю, Петров? Геннадий Михайлович серьезно кивнул головой. — Хорошо, — довольно произнес Росляков и нажал кнопку звонка. Дверь открылась, и на пороге показался дежурный. — Попросите войти Марию Степановну Смолягину. Смолягину полковник встретил около дверей и, бережно поддерживая под руку, провел и усадил ее в кресло. Мария Степановна была одета в темное платье с высоким воротничком и домашние валенки в литых галошах. На голове пушистый платок с длинными косичками по углам. Она спокойно опустилась в кресло и с любопытством осмотрела кабинет. Встретилась глазами с Андреем, чуть улыбнулась и, опустив глаза, поправила на груди концы платка. — Мария Степановна, — голос Рослякова прозвучал мягко, — вы уж нас извините, что потревожили, но, как говорится, нужда заставила… Конечно, много лет прошло с тех пор, трудно вспомнить, но вы должны нам помочь. Речь идет о тех людях, которые служили у немцев, в полиции или там еще где-то. Вспомните, пожалуйста, как они выглядели, какие-то характерные приметы. Ну, скажем, родинка, манера говорить, какие-нибудь увечья, бросающиеся в глаза. Смолягина выпрямилась в кресле и внимательно посмотрела на полковника. — Постарайтесь вспомнить, Мария Степановна, это очень важно для нас. — Немного таких у нас было, — наконец выговорила она, — немного… Во-первых, конечно, Хлыст. Настоящей фамилии его никто не знал. Ходил он в галифе и гимнастерке. Зимой в полушубке командирском и валенках… Худой такой, голова вперед вытянулась… лицо костлявое, а уши… уши треугольником. Вот так вот висели. — Мария Степановна показала руками в воздухе треугольник. — Нос мясистый и с горбинкой, — продолжала она, напряженно потирая виски, — волосы всегда зализанные, беленькие, словно у мальчонки летом… — Вы не видели его в немецкой форме? — спросил майор. — Нет, такого не было… он в штатском ходил. — Мария Степановна, а вот людей с Выселок вы видели? Бывали они в селе? — Почти ни разу… — Смолягина задумалась, припоминая, потом нерешительно добавила: — Вот только однажды. Они вместе с Хлыстом на машине остановились около моего дома, и шофер из колодца набирал воду. В машине сидел начальник, наверное: уж больно Хлыст вертелся на сиденье, когда слушал того. — Простите, Мария Степановна, — Андрей подошел поближе, — помните, вы рассказывали о пареньке, которого прятали в погребе? Вспомните, пожалуйста, как он выглядел, куда был ранен? Не помните ли вы фамилию его? — Тощой он был больно, Андрей Петрович, — Смолягина повернулась к нему, — тощой, прямо кожа да кости, стриженный наголо, но волос маленько отрос, небритый… Перевязывала я его, он раненый был. А вот с лица не помню его. Фамилия его, ежели не запамятовала, не то Лозовой, не то Лозинов… — А откуда он, как он попал в эти края, ничего не говорил? — Нет… Вот только сказал, что из эшелона бежал, и все… — И еще один вопрос, Мария Степановна. — Андрей словно проверял свои мысли, словно хотел что-то услышать от Смолягиной. — Мария Степановна, вот когда вы нашли этого паренька, откуда слышалась стрельба? Не помните? — Кажись, с Выселок, — она подумала, — нет, точно с Выселок. Окромя, как на Выселках, нигде собак не было. А там немцы сторожили с собаками, это я наверное помню. Все село смеялось, когда этому прихвостню собаки портки порвали, Дорохову Ваське. — Как это было? — негромко спросил Петров. — Да он воду одно время возил туда. И как-то ехал через село, а навстречу фашисты шли с собакой. Васька-то пехом шел и лошадку под уздцы вел. Ну а фашист и спустил собаку на него. Он, было, бежать, а хромой, далеко не убег, догнала его псина. Ну и порвала портки начисто. — И никто не остановил? — Остановил, как же: «свой» ведь, из полицейской управы через окно офицер что-то закричал, потом выскочил на улицу и по морде этому солдату съездил. — Вы ведь, Мария Степановна, хорошо его знаете. Что это за человек, Василий Дорохов? — Человек! Вы скажете, Андрей Петрович. Сволочуга натуральная! Наши мужья в партизанском отряде воевали, а он фашистам прислуживал. — Смолягина покраснела от негодования и нервно теребила платок. — Да и до войны такой был, только не показывал. Сколько он наших парней в лесу изловил и ружей поотымал, так и не сочтешь! Смолягина замолчала и, отвернувшись, смахнула слезинку. Андрей хотел задать еще один вопрос, но остановился и молча посмотрел на Петрова, который в раздумье вертел в руках шариковую ручку. Росляков встал и прошелся по кабинету. Распахнул занавески, и в кабинет ворвалось яркое зимнее солнце. На столе, в стеклах книжного шкафа заиграли солнечные зайчики. Даже по темному металлу сейфа, стоявшего в углу комнаты, прошли светлые блики. Неслышно открылась дверь, и в комнату вошел дежурный офицер. Он подошел к столу и вполголоса сказал: «Товарищ полковник, срочные телеграммы». Росляков быстро пробежал их глазами и, сложив в папку, отодвинул на край стола. — Мария Степановна, — полковник налил стакан воды из графина и пододвинул Смолягиной, — и последняя просьба к вам: у нас есть несколько фотографий… Не могли бы вы их посмотреть в сказать, кто на этих фотографиях вам знаком? — Конечно, — Смолягина с трудом улыбнулась, — конечно. — Андрей Петрович, пригласите понятых. Петров разложил на столе несколько фотографий, потом обернулся и произнес: — Товарищи понятые, вы присутствуете при опознании фотографий государственного преступника. Прошу подойти к столу и быть предельно внимательными. Прошу и вас, Мария Степановна. Смолягина, несколько побледневшая, тяжело поднялась из кресла и подошла к столу. Она внимательно рассматривала фотографии, даже подносила к настольной лампе, горевшей на столе. Положила, снова взяла. — Вот на этой, — она взяла среднюю фотографию и протянула Рослякову, — вот на этой Хлыст. Только он в немецкой форме, а вот у нас в деревне он никогда ее не носил. — Прошу внимания, — Петров протянул понятым фотографию, — прошу рассмотреть номер фотографии — номер два. Значит, на фотографии номер два Марией Степановной Смолягиной был опознан государственный преступник, разыскиваемый органами государственной безопасности. Когда полковник Росляков и остальные распрощались со Смолягиной и Андрей проводил ее до дверей, Петров раскрыл папку и прочитал: — Косяков Юрий Иванович, тысяча девятьсот второго года рождения, уроженец г. Киева, активный участник молодежной группы контрреволюционной организации «Центр действия». 8 апреля 1924 года приговорен Киевским губернским судом к высшей мере наказания — расстрелу. Однако ВУЦИК заменил утвержденную Верховным судом УССР меру наказания на 10 лет лишения свободы. Из мест заключения бежал… Позже появился в Польше, примыкал к различным белоэмигрантским организациям. Был завербован германской разведкой. Неоднократно выполнял террористические и диверсионные задания на территории Украины, Белоруссии. Агент гестапо с тридцать шестого года. Как видите, послужной список богатый. Я думаю, что Косяков скорее всего работал в школе на службу безопасности. — Похоже, что ты прав… Андрей Петрович, прошу все материалы сразу докладывать мне. Андрей повернулся и направился к двери.
Хотя елочный базар был недалеко от дома, сходить за елкой Андрей сумел только часам к двенадцати. День был морозный, солнечный, Андрей шел не спеша, поглядывая на прохожих, торопившихся по своим делам, на разукрашенные витрины магазинов. Около ворот хоккейной площадки, временно использованной под елочный базар, стояла небольшая очередь. Андрей встал в конце и, развернув газету, начал читать. Очередь двигалась медленно: люди, входившие в ворота, выбирали елки не торопясь, долго переставляли прислоненные к бортам деревца, словно самую красивую и желанную нарочно припрятали. Прочитав газету, Андрей сунул ее в карман и, задумавшись, достал из пальто пачку сигарет. Прикурил. — Граждане, не курочьте елки, все оне одинаковые… — Продавец, небритый мужчина лет сорока, одетый в черный полушубок и огромные валенки, стоял около выхода и, опираясь о длинную рейку с отметками, притоптывал ногами. От мороза его лицо посинело, он то и дело шмыгал носом и, на мгновение приложив рейку к выбранной ели, кричал: — Два двадцать… лотерейку на сдачу не возьмете? К воротам пробился мальчишка лет семи. Он ухватился за металлические прутья и, затаив дыхание, во все глаза смотрел на людей, выбирающих елки. — Андрюша, где ты? — раздался знакомый голос, и Андрей удивленно обернулся. В конце очереди он увидел Наташу Померанцеву. — Наталья, — позвал он, взмахивая рукой, — где ты ходишь, я уже полчаса тут стою? Давай сюда… да быстрей, сейчас моя очередь. Наташа слегка покраснела, но подошла. — Здравствуйте, Андрей, — шепотом сказала она ему на ухо, — я вот с сынишкой за елкой пришла, а народу столько, что уж собралась уходить, больно холодно. — Ну вот сейчас и выберем… — ответил он и, бросив взгляд на мальчишку, по-прежнему стоявшего около ворот, спросил: — Это ваш, Наташа? Она кивнула. Потом перевела взгляд на стоявшего у ворот сына, какое-то мгновение смотрела на него и вдруг быстро посмотрела на Андрея. — Андрюша, иди сюда, — позвала она. Мальчик подошел и хмуро взглянул на Андрея. — Это дядя Андрей, — сказала Наташа, поправляя ему шапку, — он работает вместе со мной. Сейчас мы с ним будем выбирать елку. Хочешь? — Ага, — сказал мальчишка и шмыгнул носом. Он как-то по-птичьи наклонил голову и стал рассматривать Андрея. Елку выбирали долго. Андрюшка бегал от одной кучи к другой, весело кричал, хватал ели за длинные колючие лапы и бегал то к Андрею, то к Наташе, тащил их за руки к выбранной елке и, захлебываясь, говорил: — Не… дядя Андрей, ты только посмотри на эту… Ма… а там есть такая здоровая, здоровая, ну прямо до неба… Пойдем туда, ма? Ну, пойдем… Наконец ели были выбраны. Наташа взяла небольшую и очень кудрявую, а Андрей выбрал чуть больше. Они с отцом любили, чтобы новогодняя елка стояла прямо на полу, упираясь макушкой в потолок. Обе елки нес Андрей. Андрюша шел сзади и поддерживал свою елку за макушку. Около дома Андрея они остановились. — Наташа, я мигом занесу елку, а потом помогу вам, — сказал Андрей и добавил: — А то давай зайдем ко мне на минутку… И Андрюшка погреется заодно, а то замерз, наверное. — Андрей, неудобно как-то, — сказала Наташа, не поднимая на него глаз, — ни с того, ни с сего и в гости… — Ничего, ничего… Пойдем, Андрюшка, ко мне в гости? Мальчишка шмыгнул носом и, бросив взгляд на мать, серьезно сказал: — Можно зайти. Только ненадолго, а то нам еще игрушки покупать. Правда, мама? — Отец, — сказал Андрей, входя в прихожую, — у нас гости. Наташа, не стесняйся… Снимай валенки, Андрюшка, сейчас будем пить чай… Папа, это Наташа с сынишкой в гости к нам зашли. Помнишь, мы в театре вместе сидели? — Конечно, конечно, помню, — засуетился Петр Никитович и, встав с кресла, в котором сидел, стуча палочкой, вышел в прихожую. На его лице светилась добрая улыбка. — Это хорошо, что вы к нам в гости пришли, а то мы с Андреем сидим одни все время. Ни к нам гостей, ни мы в гости… Ну, малыш, давай с тобой знакомиться. — Он присел на корточки и протянул руки. — Ну тут же я, — удивленно воскликнул мальчик, — тут, а вы куда-то вбок смотрите… Я так не люблю. Наступившую тишину нарушил голос Петра Никитовича. — А я, Андрюшенька, не вижу… Вот руки не туда и протянул. Мальчик вздрогнул и робко прижался к Наташе. На его лице появилось удивление, потом жалость. Вдруг он громко вздохнул и сказал: — Ничегошеньки? — Ничегошеньки. — Ни полбуквочки? — Андрей, — резко одернула Наташа, — как ты можешь так? Но мальчик не слушал. Он подошел вплотную к Петру Никитовичу и, взяв его руку в свою, погладил ее. — Ты, дедушка, не расстраивайся… Я сейчас тебе все расскажу, и ты как будто все, все увидишь. У Петра Никитовича дрогнула рука, и он ласково погладил вихрастую голову. — А я и так знаю, какой ты… Хочешь, расскажу? Ты маленький и непоседливый. Волосы у тебя курчавые, на носу веснушки. Уши торчком, а нос загогулиной… Так? — Нет… — радостно засмеялся Андрюшка, — нос не загогулиной, загогулиной это у дяди Андрея, а у меня римского профиля. Пока Петр Никитович разговаривал с Андрюшкой, Андрей вытащил елки на балкон. Быстро подмел пол на кухне и только собрался поставить чайник на газовую плиту, как в кухню вошла Наташа. — Ну, Андрей Петрович, знакомьте меня с вашей кухней… — Она забрала чайник из рук Андрея, быстро поставила его на плиту, чиркнула спичкой. — Андрюша, возьмите у меня в сумке пирожные и конфеты… Масло сливочное есть у вас? В холодильнике? Она открыла холодильник, достала масло. Когда Андрей вошел в кухню со свертками, Наташа посмотрела на него и, вдруг улыбнувшись, сказала: — Что-то наши притихли… Посмотри, Андрюша, пожалуйста, а то я своего сына хорошо знаю — наверняка куда-нибудь полез. Андрюшка и Петр Никитович сидели рядом на диване и о чем-то тихо беседовали. Мальчик, увидев входящего в комнату Андрея, наклонил к себе голову Петра Никитовича и громким шепотом спросил: — Дедушка, а что, дядя Андрей в футбол умеет играть? — Умеет, а как же. — В конце концов, — рассудительно сказал мальчик, — и в очках играть можно… Они же на носу, а не ногах. А мне нравится у тебя, дедушка. Во-первых, можно с ногами на диване сидеть, а во-вторых, поговорить есть с кем… Дядя Андрей, — тут же перевел он разговор, — а это твое ружье висит. — Мое. — А ты что, солдат или охотник? — с уважением спросил Андрюшка и добавил с завистью: — Эх, мне бы такое! Дядя Андрей, возьми меня на охоту… Пожалуйста. — Возьму, если мама отпустит. — Не-е… — Мальчишка сморщил нос и сокрушенно покачал головой. — Мама не отпустит. Скажет, мал ты еще… Эх, а мне бы такое ружье! Чай пили в большой комнате. На столе, покрытом белоснежной скатертью, стоял чайник и старый чайный сервиз. — Дедушка, а ты когда елку будешь ставить? — Мальчик лукаво посмотрел на Андрея и мать. — Может, тебе помочь надо? Так ты мне так и скажи… — Конечно, Андрюшенька, — обрадовался Петр Никитович, — приходи помогать… А может, — он посмотрел невидящими глазами на стол, — ты ко мне и Новый год придешь встречать? Приходи, малыш, мы с тобой поиграем, а потом я тебе сказки буду рассказывать. — А к вам на седьмой этаж Дед Мороз заходит? — подозрительно спросил Андрюшка и напряженно посмотрел на него. — А как же, — серьезно ответил Петр Никитович, — каждый Новый год. Вот в прошлом году он дяде Андрею рубашку подарил, а мне шахматы… Приходи — и тебе что-нибудь подарит. — Ой, что вы, Петр Никитович, — вспыхнула Наташа, — как можно? Не выдумывай, Андрей, вставай из-за стола и будем одеваться… и так засиделись. — Наташа, — Андрей коснулся ее руки, — а в самом деле, приходите к нам на Новый год. Ну что вам… нам в одиночестве такой праздник встречать. Она покраснела и нерешительно посмотрела на сына. — Мам, пойдем… — Андрюшка хитро наморщил нос и добавил: — Может, Дед Мороз и тебе подарок подарит! — Кудряшова мне… Кудряшова… — Андрей прислушивался к еле слышному взволнованному голосу в телефонной трубке. — Андрея Петровича… — Слушаю вас, Кудряшов у телефона, — крикнул Андрей, пытаясь перекрыть шум и треск в трубке. — Андрей Петрович? Здравствуйте… Смолягина звонит… Андрей Петрович, радость-то какая! Отыскался мой постоялец. Жив, оказывается… Приехал намедни с ребятишками в гости. — Кто отыскался? Я не понял вас, Мария Степановна. Кто приехал и с какими ребятишками? — Ну тот самый, которого я в погребе прятала. В школе он работает, на Украине, а сейчас приехал на каникулы. Лозовой его фамилия. Слышите меня, Андрей Петрович? — Кажется, я вас понял… Отыскался тот самый человек, которого вы прятали в погребе и которого потом отвели в отряд? — Да, да… Андрей задумался и какое-то мгновение рассматривал телефонную трубку, словно мог в ней увидеть таинственного постояльца Марии Степановны. Новость обрадовала его. Как-никак, отыскался живой свидетель трагической гибели отряда Смолягина. А может, этот человек внесет и в дело Дорохова какую-то ясность: ведь последние дни отряда, несомненно, проходили перед его глазами. Как только он остался жив, каким образом ему удалось спастись?
В дом Смолягиной Андрей постучал около двух часов пополудни. Мария Степановна дверь открыла сразу. — Здравствуйте, Андрей Петрович, — радостно всплеснула руками она, — а мы вас ждали еще вчера. Долго спать не ложилась… Да и поговорить о чем было: как-никак после войны первый человек, который моего Тимошу последний раз видел. — Она прикрыла глаза рукой. — Ой, да чего же мы в сенях-то стоим! Проходите в дом, Андрей Петрович, проходите. В доме никого не было. Но по торжественной чистоте, по необыкновенному порядку чувствовалось, что в доме появились гости. В горнице, пожалуй, ничего особенного не изменилось, а вот в двух маленьких комнатах, что были справа и слева от русской печи, высокие кровати были накрыты чистыми покрывалами и еще стояло по одной раскладушке. В сенях Андрей разглядел четыре больших рюкзака и коричневый чемоданчик, наподобие тех, которые берут в дорогу командированные ненадолго люди. Кудряшов разделся и с радостью прошел в натопленную горницу. Сел на знакомый деревянный диван и, потирая замерзшие руки, поежился. — Чайку, Андрей Петрович? — С удовольствием. Он молча прихлебывал из большой чашки крепкий чай, откусывая от куска сахара. Еще никогда он не пил такого вкусного, дарящего хорошее настроение чая! — Андрей Петрович, — сказала Смолягина, — а я о вас сказала, что вы корреспондент газеты и книгу пишете о партизанском отряде. — Почему? — Да так… — Смолягина неловко потупилась и чуть слышно вымолвила: — Неудобно гостю сказать, что вы… Что подумает? Еще подумает, что не доверяю ему… «А может, это и к лучшему? — подумал Андрей. — Зачем человека настраивать на другой лад? Приехал он в места, где когда-то воевал, встретил человека, спасшего ему жизнь, полон впечатлений, воспоминания нахлынули. Может, как раз в такой момент он и вспомнит какую-нибудь деталь, штрих, которого не хватает в деле о гибели отряда Смолягина». — А где же они? — спросил Андрей, оглядывая горницу. — На Выселки пошли. — Мария Степановна посмотрела на часы и негромко ахнула: — Господи, да уж три часа! Сей момент должны возвратиться… Вы уж не обессудьте, Андрей Петрович, обед ставить надо гостюшкам моим. Последние слова Мария Степановна произнесла ласково, словно говорила о своих детях. Она неслышно поднялась со стула и принялась хлопотать около печи. Открыла заслонку, и по горнице пахнуло смолистым жаром и запахом кислых щей. Запах был такой смачный, что у Андрея невольно свело скулы и он проглотил слюну. Мария Степановна, напевая, подхватила ухватом большой чугунок и вытащила его на край печи. Потом снова запустила ухват в печь и вытащила чугунок поменьше. Прикрыла печь заслонкой и, протянув руку вверх, открыла задвижку дымохода побольше. Андрей думал о том, что этот приезд, в сущности, совершенно чужого человека перевернул жизнь Марии Степановны Смолягиной. Куда делась та тихая, внутренне сосредоточенная женщина, которую увидел он в первое свое посещение Ворожеек? Откуда появилась эта жизнерадостность, материнская забота? — Идут… — вдруг сказала Мария Степановна, останавливаясь посреди избы. Она торопливо поправила платье и провела рукой по седым волосам. И тут же в сенях что-то загрохотало, раздался веселый смех, говор, дверь в избу распахнулась, и в комнату вошли четверо ребят лет четырнадцати и невысокий человек в пожелтевшем командирском полушубке и шапке-ушанке. — Ребята, ребята, — укоризненно, но весело произнес он, — а кто ноги будет вытирать? Мария Степановна, хоть вы на моих орлов повлияйте: совсемот рук отбились. Ребята смущенно переглянулись, выскочили в сени и через минуту вошли обратно, но уже без валенок, в одних носках. Мужчина тем временем снял полушубок и аккуратно повесил на гвоздь возле двери, сверху приспособил шапку и длинный домашней вязки шарф. Пригладил редкие седые волосы и, достав из кармана пиджака пластмассовый футляр с очками, бережно водрузил их на нос. Андрей с любопытством рассматривал гостя. Лицо круглое, со смеющимся вздернутым носом и крупными хрящевыми ушами. Через лоб тянется тонкая ниточка давно зажитого шрама, на переносице она пропадает и появляется снова чуть ниже левого глаза, спускается вниз по щеке и заканчивается красноватым рубцом. Плечи сутуловатые, как у человека, просиживающего много времени за столом. Синий костюм сидел на нем несколько мешковато, но чувствовалось, что владелец привык к нему и носит с удовольствием. Застиранная кремовая рубашка, а на ней дешевенький черный галстук на резинке. — Ну и погодка, — произнес он, потирая руки, и только тут взглянул на Андрея. — Здравствуйте… Это Андрей Петрович Кудряшов, — быстро произнесла Смолягина, расставляя на столе тарелки, — из газеты… Помните, я вам рассказывала, Константин Павлович? — Лозовой, — коротко представился тот и крепко пожал руку Андрею, — учитель истории. Вот приехал с ребятишками своими посмотреть на места, где когда-то воевал… Вернее, не воевал, а горя хлебал. Вот если бы не Мария Степановна, не сидел бы сейчас за этим столом, а лежал бы где-нибудь возле Выселок… — Он замолчал и, окинув взглядом притихших ребят, вполголоса продолжал: — Да, не каждый человек может так поступить, не каждый. А вы, Андрей Петрович, давно в газете? — Недавно, — коротко ответил Андрей, — я был комсомольским работником до недавнего времени, писал, печатался. — Что ж, писать, как говорится, дар божий. Успехов вам на этом поприще. Я слышал, будто вы хотите книгу писать о партизанах? — Документальную повесть. Сейчас собираю материал, так вот и с Марией Степановной познакомился. И вас, Константин Павлович, буду просить помочь, если не откажете. — Ну, помощник, положим, я плохой, а что знаю — все ваше… Ребята, помогите Марии Степановне, — негромко, но с силой сказал он. — В прошлом году, — снова повернулся Лозовой к Андрею, — мой класс занял первое место в Синельниковском районе по сбору металлолома. Нас премировали поездкой в Москву, а мы подумали с комсомольским активом и решили поехать по местам партизанских боев. Что ни говорите, Андрей Петрович, — понизил голос Лозовой, — а надо нашим ребятам не только рассказывать о героизме, но и показывать, где это и как было. Я в этом глубоко убежден… Потом они обедали. Кислые щи, сваренные Марией Степановной, хвалили все и так долго, что хозяйка совсем смутилась от этих горячих и дружных похвал. Лозовой вел себя свободно. Шутил, смеялся, но Андрею почему-то казалось, что делал он это ради Марии Степановны, которая радостно суетилась возле стола, то и дело вскакивала, чтобы еще что-то подать, что-то убрать. Андрей заметил, что Лозовой нет-нет да ласково, с трогательной заботой вскочит, примет из рук хозяйки очередную ношу и вскользь укорит, чтобы не суетилась. Ребята вели себя за столом тихо, словно понимая, что что-то здесь недоговаривается, словно чувствуя, какими незримыми нитями связаны их учитель и эта женщина. После обеда школьники ушли гулять по селу, а Лозовой и Андрей, присев на низенькую скамейку около поддувала печи, закурили. Константин Павлович курил не торопясь, со смаком глотая дым, а затем выпуская его тоненькой струйкой в закопченную дыру. Пиджак он снял и остался в кремовой рубашке и галстуке. От всей его фигуры веяло чем-то таким школьным, что Кудряшов почти наяву представил, как он выходит к доске, на которой развешены Карты. На ходу кладет журнал на стол, потирает руки и, зорко оглядевши притихший класс, берет указку. Говорит он таким же тихим голосом, иногда прерывает урок шуткой, иногда строго смотрит на не в меру разговорившихся учеников и, чуть повысив голос, продолжает рассказывать. — Да, Андрей Петрович, — неожиданно произнес Лозовой и посмотрел на Кудряшова, — хоть и недолго я был в отряде, но Тимофей Смолягин произвел на меня неизгладимое впечатление. Сильная личность! Ведь он был учителем до войны! На фронт я ушел в первые дни войны из-под Харькова… Осталась жена, два сына в деревне… Попал в окружение, тяжело ранили при выходе. Очнулся — никого нет, лежу, в лесу тихо, только где-то далеко отзвуки боя. Понял, что наши прорвались и ушли, меня то ли убитым посчитали, то ли в пылу боя не заметили, что упал, — только нет никого… Встал, прошел несколько шагов, чувствую, падаю… Когда очнулся: не помню. Пополз, сколько полз, тоже не помню. Полз на лай собак, очевидно, деревня была близко. Очнулся от удара ногой в лицо. Поднял голову — фашисты! Бросили за колючую проволоку, а там таких, как я, тысячи полторы, и почти все тяжело раненные… Недели две прошло. То ли я живучий, то ли молодой просто был, но немного оклемался. Потом погнали на какой-то полустанок и погрузили в теплушки. Кто по дороге падал — пристреливали… — Лозовой вздрогнул, по лицу его прошла судорога. — Потом поезд тронулся, и повезли нас… Лозовой достал новую сигарету и, прикурив от окурка, несколько раз крепко затянулся. Какое-то время он молчал, сидел задумавшись, словно еще раз переживая и осмысливая происшедшее с ним. Андрей тоже молчал, с нетерпением ожидая продолжения. Он понимал, что торопить нельзя, через силу сдерживался, чтобы не сказать: «Ну а что дальше?» — В теплушке вместе со мной был парень один. По-моему, его звали Олегом. Он где-то оторвал штырь металлический, и часа за два работы мы вынули из пола доску. Сидим, смотрим, а спускаться жутко, грохот, все мелькает, аж мороз по коже идет… Знаете, Андрей Петрович, — усмехнувшись, произнес Лозовой и посмотрел на Кудряшова поверх очков, — я уж к тому времени и в атаку ходил, и бомбежки видел, и сам убивал, и в меня стреляли, а тут такое безотчетное чувство страха сдавило сердце, что пошевелиться не могу… Олег спустился первый, долго висел, словно примеряясь, потом разжал руки и пропал в грохоте. Не знаю; повезло ему или нет, но после него решился и я. Была уже глубокая ночь. Повис я над землей, а руки разжать не могу… В ушах стук колес стоит, ветер бьет пылью и камушками… Потом, слышу, стук колес вроде реже стал. Понял, поезд на подъем пошел, и разжал руки. Лицо в кровь рассадил, ладони… Да вот след еще до сих пор, — Лозовой прошел пальцем по шраму на лице, — а вот потом промашку дал. С перепугу, наверное, вскочил, как только последний вагон прогрохотал надо мной, а меня с тормозной площадки фриц заметил и выстрелил. Меня отбросило с насыпи под откос. Отполз я в болото и отлежался. Гать нашел, ну и пополз по ней. Ночью ползу, днем заберусь в кусты и отлеживаюсь. Голову и грудь кое-как перебинтовал чем попало… На вторую ночь выполз я на какой-то косогор. Обрадовался до смерти, что сухо стало. Нашел палку и заковылял, А через сотню метров на колючую проволоку напоролся. Завыла где-то сирена, пальба поднялась, я снова в болото. Как мог, быстро уполз, вскочил, даже шагов сто пробежал, потом у меня из раны на голове кровь хлынула, упал. Очнулся: слышу, собаки лают. Ну, думаю, пропал ты, Костя! От овчарок не уйдешь! Собрал все силы и побрел. Сколько шел и куда, не знаю. Помню, вышел на поляну и вижу, какая-то женщина хворост собирает. Я что-то крикнул… — Константин Павлович тяжело перевел дыхание и проглотил слюну, несколько раз сильно затянулся дымом. — Как все дальше было — убей меня бог, ничего не помню! Только через дней пять в себя пришел. Недели две я у нее отлеживался. А как почувствовал, что могу ходить, говорю ей, что, мол, так и так, хозяйка, спасибо вам, а мне надо к своим подаваться. Тут меня Мария Степановна и свела к девушке, что на краю болота жила. Груня, кажется, звали ее, а та к Смолягину в отряд переправила. Боец, конечно, из меня никудышный был — голова кружилась, рвало часто, но помогал, делал, что в моих силах было. Снаряжал магазины ребятам к автоматам, финки точил. Несколько раз в дозоры ходил… В тот день, когда отряд бой принял, я тоже в дозоре был. Фашистов заметил издалека. Как было условлено, крикнул кряквой… Ну а дальше такое началось, что небо с овчинку показалось. Мины рвутся, кругом очереди автоматные. Слышу, Тимофей командует: «Отходить всем по старой гати!» Мы туда, а там засада. Кинулись к топи, что в середине Радоницких болот. Сколько шли, не знаю, только светать уже стало. Оглянулся: я один… Дня два отсиживался в болоте, потом вышел на сушь… Три дня ждал, что кто-нибудь из ребят выйдет — никого. Ну и тронулся я на восток. Через пару месяцев к своим вышел. На полковую разведку наскочил. Потом госпиталь, фронт. Кончил войну в Вене. Вернулся в свое село, а там никого… Жену с детьми немцы в хате сожгли, в селе тоже, кроме двух-трех стариков, никого не осталось… Тяжко мне там было, вот и подался в Полтаву. Поступил в педагогический институт, окончил и пошел учительствовать. Так вот до сих пор и стою у доски… — Лозовой поднял на Андрея тяжелый, уставший взгляд, задумчиво поковырял кочергой в угольках. — Жениться не смог по новой, так и коротаю жизнь бобылем… Спасибо, ребятишки у меня в классе хорошие. Заходят, не оставляют одного… Лозовой замолчал. Наморщив лоб, он оперся на кочергу и, казалось, совсем забыл о присутствии Андрея. В избе было тихо, и только ходики мерно постукивали на стене. Света они не зажигали. Возможно, Лозовому было удобней так вспоминать, далекие годы, а Андрею казалось неудобным встать и нарушить такую минуту. — Не видел я смерти Тимофея Смолягина, но знаю — умер он как герой, — неожиданно глухо, с еле сдерживаемым волнением выдавил Лозовой. — До сих пор простить себе не могу, что не ослушался его приказа и не остался рядом с ним… До сих пор простить себе не могу… — Константин Павлович, — спустя некоторое время обратился к нему Андрей, — а что вы думаете о гибели отряда? Не странно ли то, что сразу, одним махом, погибает весь отряд? Пусть он был малочисленным, но они же все погибли во время боя… Значит, гитлеровцам кто-то помогал? — В общем, конечно, тут на первый взгляд много странного, — согласился с ним Лозовой и достал новую сигарету. — Отряд был малочисленным — раз, занимал, по военным понятиям, гибельную позицию — два, имел связь с большой Землей — три, а самое главное, он практически не вел боевых действий. Все это мне показалось странным, когда я попал в отряд… Но спрашивать, сами понимаете, Андрей Петрович, не принято. — Лозовой горько усмехнулся. — Хотя, конечно, могли бы доверять и побольше, все-таки, что ни говори, ели из одного котелка и не всегда досыта… Я как-то раз даже попытался сказать, что, дескать, позиция у нас хуже не придумаешь, да и место не ахти: болота, сырость. Но мне Тимофей так сказал: «Ты, Костя, вопросов не задавай. Базу отряда и его позицию выбирали соответственно его задаче. Понял? Вот так-то, парень!» Естественно, что после такого ответа вопросов у меня не возникало. — Долго вы в отряде были, Константин Павлович? — как бы невзначай спросил Андрей. — Чуть больше месяца, а потом тот бой… Вы уж не обессудьте, Андрей Петрович, — неожиданно виновато улыбнулся Лозовой. — Мало что я вам могу рассказать об отряде. — Ну а о его бойцах? Ведь вы их знали. — Даже и их мало… — Лозовой встал и, подойдя к двери, включил свет в горнице. Посмотрел на карманные часы, висевшие на ремешке в нагрудном кармане пиджака, озабоченно покачал головой, словно отмечая, что время позднее. — Устал я с непривычки, Андрей Петрович. Ребятам что: хоть целый день на ногах, и все нипочем, а в мои годы уже не побегаешь, стареть стал. — Далеко ходили сегодня? — Да не очень, до Выселок и обратно. Посмотрели могилы… — Лозовой проглотил комок в горле, — товарищей моих… Рассказал я им немного, показал, где бой шел. Думаем сходить на то место, где Груни избушка стояла. Потом туда, где я выходил из болота. Может, удастся на базу пройти. Лед-то, по-моему, еще крепок. Ребята фотографировали. Приедем в школу, фотостенд устроим. Вы надолго сюда, Андрей Петрович? Может, с нами и сходите? А потом в газете сможете выступить: следы от этой войны долго люди будут находить. — А к Дорохову не заходили? — негромко спросил Андрей, внутренне подобравшись, словно ждал услышать нечто важное. А кто это? — удивился Лозовой и застыл посреди комнаты. — Не знаю такого… А разве Мария Степановна не рассказывала вам его историю? — в свою очередь, удивился Кудряшов, вставая с перевернутой табуретки, на которой сидел возле поддувала. — Странно… Дорохов, как он говорит, тоже был в отряде, только не на болоте, а на берегу. Разведчиком партизанским… Вам разве не приходилось об этом слышать? — Нет… — растерянно произнес Лозовой и дрожащей рукой снова надел очки, — первый раз слышу. Послушайте, Андрей Петрович, да вы меня прямо к жизни заново возвращаете! Надо же такое — еще один мой боевой товарищ жив! Спасибо вам большое… Это же надо! — Лозовой взволнованно заходил по горнице, невнятно говоря и жестикулируя. Андрей не перебивал его. Он ждал, пока Константин Павлович успокоится, чтобы продолжать разговор. А Лозовой все ходил по горнице, и на его возбужденном лице были написаны неподдельное волнение и радость. Неожиданно он остановился и, вынув из кармана маленькую склянку, вытряхнул на ладонь таблетку и сунул в рот. — Нитроглицерин, — тихо сказал он, виновато поглядев на Андрея, и покачал головой. — Что поделаешь, Андрей Петрович, годы… А тут радость такая… Только, — он закрыл глаза и несколько мгновений сидел не шевелясь, ожидая, пока подействует лекарство, — только почему же Мария Степановна мне ничего об этом не сказала? Ведь мы так долго с ней говорили… И о Тимофее, и о ней самой. Непонятно… Может, забыла? Невозможно такое… А, Андрей Петрович? — Тут сложная история, Константин Павлович. — Андрей помолчал, обдумывая ответ. — Во время войны, как утверждает Дорохов, он был послан Тимофеем Смолягиным на службу к фашистам. Сначала воду им возил… — Тут Андрей замолчал, прикидывая, стоит ли говорить все, как было на самом деле: — Часть у них стояла в районе Выселок какая-то секретная, вот он туда воду и возил. — Да что, там же школа шпионская была! — вскрикнул Лозовой и тут же снова схватился за сердце. — Мы же только перед самым боем догадались об этом… Нам и задача была дана: обнаружить школу гестапо… Я же именно на нее напоролся в ту злополучную ночь, Андрей Петрович! Может, этот Дорохов как раз и был тем разведчиком, который раскрыл ее? Может, как раз он помог Тимофею раскрыть провокатора, которого к нам заслали? Так это же живой герой вашей будущей книги, Андрей Петрович! Сердце Андрея сжалось от волнения, но перебивать беспорядочную речь он не торопился. Он знал по работе с людьми еще из комсомола, как важно дать человеку выговориться. Как важно уметь выслушать человека, не перебивая его, мысленно выстроить схему дальнейшего разговора. Слушая, Кудряшов сопоставлял сведения из архивов, обнаруженных белорусскими чекистами, и тем, что рассказал Лозовой. — Какого провокатора? Все думают, что отряд погиб в результате карательной операции фашистов… Во всяком случае, это похоже на правду, — вымолвил он, когда Лозовой умолк. — И я так думаю, Андрей Петрович, — негромко сказал Лозовой и, присев на диван, обхватил голову руками. — Потому что провокатор был разоблачен еще до боя. Сообщить гитлеровцам расположение он не мог: новые люди за пределы острова не отпускались… Появился этот человек непонятно. Однажды утром я готовился заступать на боевое дежурство и ждал, когда со мной будет говорить Смолягин. У нас так было заведено: каждый, заступающий на дежурство, инструктировался командиром. Ждал, ждал, потом подхожу к комиссару, а он в этот момент вышел из командирской землянки. Подхожу и говорю, что так, мол, и так, боец Лозовой готов заступить, а он вдруг перебил меня и говорит: «Слушай, Лозовой, ты можешь оказать первую помощь раненому?» Ну я докладываю, что прошел курсы санинструкторов в свое время и, если медикаменты есть, то могу. Комиссар огляделся и говорит: «Заходи в нашу землянку, и чур — держи язык за зубами!» Захожу. На топчане лежит парень в порванном красноармейском обмундировании, в крови весь. Снял остатки гимнастерки, вижу два пулевых ранения. Одно в голову, другое в область живота. Вижу, дела плохие: бредит, жар. Говорю, обращаясь к Смолягину: «Товарищ командир, не жилец этот парень…» Только сказал, как он глаза открывает и шепчет: «Врешь, выживу…» — и снова потерял сознание. Действительно, через денек стало ему получше. Оказалось, что я с первого взгляда не рассмотрел его ранения, на животе верхние ткани задеты, а на голове контузия от пули. Близко пролетела, вот у него и вздулась кожа, а потом лопнула. Сами понимаете, Андрей Петрович, какой из меня лекарь за двухнедельный курс санинструктора… — Лозовой усмехнулся, зло сощурил глаза, хмыкнул. — Все продумали, сволочи! Даже раны изобразили, словно его в упор расстреливали. Потом начал он рассказывать, как из лагеря военнопленных бежал, как поймали его, как расстреливали. Такую историю рассказал, что хоть тут же его к награде представляй! Ну, я так думаю, командир все-таки решил его проверить. И точно. Поймали его через неделю около командирской землянки: подслушивал, гад! Провокатор оказался… — Константин Павлович передернул плечами, и брезгливая гримаса пробежала по его лицу. — Ну, разговор в отряде с ним был короткий — вывели ночью на гать и без стрельбы убрали… Да, наверняка это помог отряду наш разведчик. Уточнил, выяснил все… Нет, Андрей Петрович, завтра же иду к Дорохову… Завтра же! И ребят с собой всех возьму: пусть послушают рассказ старого партизана… Но только почему Мария Степановна и словом о нем не обмолвилась? — А я же говорил, что история… — Андрей помолчал. — Дорохова непростая… Понимаете, Константин Павлович, он служил у оккупантов лесничим. Служба Дорохова у фашистов налицо, а подтвердить его участие в отряде некому. Погиб отряд, никого в живых не осталось. Кроме вас… Лазовой прошелся по горнице, остановился около мерно тикающих ходиков и потрогал гирю, подвешенную вместо груза. Слегка поправил ее, потом повернулся и, выдохнув воздух, тихо сказал: — Самое страшное, Андрей Петрович, что и… ну я тоже о нем ничего никогда не слышал… Понимаете меня? Не слышал!
— Здравствуй, Андрей свет Петрович, — Петров пожал Кудряшову руку, — полковник сейчас будет. Присаживайся. Андрей прошел к столу и сел напротив Петрова. Раскрыл папку с документами, хотел что-то сказать. — Потерпи, Андрей Петрович, — произнес Петров, — вижу, что неймется… Давай лучше у полковника кабинет проветрим. Он распахнул настежь окно, и в прокуренный кабинет клубами ворвался морозный воздух, захлопали шторы, из пепельницы посыпался на стол пепел. — Ему ж курить совсем нельзя, — ворчал Геннадий Михайлович, — Сердце… и ранение у него в легкое было очень серьезное. Говоришь, говоришь… — Простите, Геннадий Михайлович, — Андрей решился задать давно мучивший его вопрос, — а вы давно полковника знаете? — Давно… А почему это тебе в голову пришло? — удивился Петров и внимательно посмотрел на Андрея. — Да так… Мне кажется, что вас связывает очень давняя дружба. Я бы сказал, боевая, что ли… — Психолог. — Петров улыбнулся. — Во время войны я у него связным был… И было мне тогда тринадцать годков… Дверь распахнулась, и в кабинет стремительно вошел Росляков. На середине комнаты он остановился и поежился. — Геннадий, опять твои фокусы с окном? — Уже закрываю. Владимир Иванович с ходу опустился в кресло, вытащил сигарету и закурил. — А где Егоров? Позови его, Андрей, пожалуйста. Через минуту все были в сборе, и Росляков, закуривая вторую сигарету, спросил: — Кто начнет? — Разрешите мне, Владимир Иванович? — Начинай, Андрей Петрович. Андрей рассказал о беседе с Лозовым, повторил некоторые, на его взгляд, интересные детали рассказа Смолягиной и Дорохова. — Так… А твое какое мнение? Андрей помолчал, собираясь с мыслями. — Понимаете, Владимир Иванович, что-то в рассказе Лозового не вяжется с теми данными, которыми мы уже располагаем… Мы точно знаем, что фашисты переполошились из-за исчезновения тела расстрелянного курсанта Лося. Иначе бы они не стали проводить операцию «Лесник». Выяснилось также, что в отряд Смолягина приблизительно в одно и то же время попадают два неизвестных человека: Лось и Лозовой. — Если, конечно, Лось попал в отряд, — негромко вставил Петров. — Точных сведений нет. Даже Дорохов не утверждает, что спасенный им парень дошел до отряда… Мне также кажется, что такой опытный командир, как Смолягин, обязательно бы привлек Дорохова для опознания спасенного им человека. — Резонно. Но… продолжай, Андрей. — Мы знаем, что отряд Смолягина погиб в результате предательства, по-моему, предателя нужно искать среди людей, которые оказались в отряде незадолго до его гибели. Это или Лозовой, или курсант Лось… Могло гестапо для полной маскировки своего агента, по версии Лозового, имитировать расстрел агента? — Могло. — Росляков встал и прошелся по кабинету. — Такие случаи были… Но здесь нельзя сбрасывать со счетов еще одного свидетеля — Дорохова. А почему фашисты не могли использовать его? Как, Геннадий, думаешь? — Андрей Петрович верно мыслит, но и не учитывать вашу версию нельзя. — Тогда будем разрабатывать все три, — полковник поморщился, потирая рукой грудь, — а к Лозовому и Дорохову прошу повнимательней отнестись… — Владимир Иванович, есть интересные сведения из архивов контрразведки СМЕРШ за 1943 год., — Игорь достал из папки несколько листов бумаги. — Есть сообщение, что контрразведкой СМЕРШ в начале 1943 года обезврежены две группы диверсантов, которые проходили обучение в разведывательно-диверсионной школе Н-125. Интересно то, что контрразведка СМЕРШ обезвредила эти две группы при активном участии бывшего курсанта этой школы — бывшего лейтенанта Красной Армии Сонина Юрия Ивановича, который передал контрразведке словесные портреты, клички, фамилии и приметы шпионов, а в некоторых случаях и предполагаемые маршруты заброски и места их действия. К сожалению, никаких сведений об этом человеке больше найти не удалось… Росляков и Петров переглянулись, Андрей вскочил на ноги. — Владимир Иванович, а вдруг это Лось? Росляков добродушно погрозил ему пальцем. — Не торопись, боец, не торопись… Ты проверял Сонина по архивам Министерства обороны? — Есть несколько человек, у которых полностью совпадают фамилии, имена и отчества… Даже год рождения. — Кто из них жив? — Никто… Четверо погибли в боях за Родину, а пятый умер в 1943 году от ран в эвакогоспитале… — Личные дела запросил? — Да, Геннадий Михайлович. — Владимир Иванович, — Андрей снова вскочил, — этот Сонин, если он Лось, должен в 41-м или в 42-м году пропасть без вести… Ведь как-то он очутился в разведшколе гестапо… Может, он в плен попал… Следы должны остаться в личном деле! — Соображаешь… Егоров, скрупулезно проверь все факты… Найди этот эвакогоспиталь, где он дислоцировался на день смерти Сонина, где Сонин похоронен, и разыщи сведения, которые он сообщил контрразведке… словесные портреты и все остальное. Это очень важно! Когда Росляков и Петров остались одни, Владимир Иванович вытащил из стола маленький пузырек и выпил подряд две таблетки. — Ты бы хоть курил поменьше! Владимир Иванович, пожалей себя-то… Не мальчишка ведь! Росляков медленно, с вымученной улыбкой растирал грудь. — Под крышкой отдохнем, Гена. Работать надо… Об одном мечтаю, чтобы сил и жизни хватило всех этих «хлыстов» най ти… Чтобы все предатели свое получили! — Игорь, — сказал Андрей, входя в комнату, — спасибо тебе, дед, что моего отца навещал… Вот неладно получилось — только уехал, как он заболел… Простыл, наверное, стоя на балконе. Он, когда меня дома нет, на улицу боится один выходить. Оденется, поставит стул на балконе и сидит, слушает, как машины по улице идут, как прохожие разговаривают… А там сквозняк, понятное дело, вот и простыл. Спасибо, Игорь. Игорь поднял на него глаза от кипы бумаг, которые он подшивал в папку, и, лукаво улыбнувшись, пробурчал: — Ишь, спасибо… Спасибом не отделаешься! Беги в гастроном и покупай… коробку конфет Наталье. Мы с ней дежурство установили: пока я с ее Андрюхой вожусь, она по магазинам бегает и по аптекам… Андрюха-то все эти дни у меня дома был. Я его и в сад отводил. Мне что: что одного, что двоих…
Полковник пришел на работу, как всегда, рано. Владимир Иванович любил эти утренние часы в пустом здании управления. Можно спокойно посидеть и обдумать текущие дела, просмотреть бумаги и почту, наметить план на день. И еще любил он достать из портфеля термос и, налив в большую эмалированную кружку крепчайшего кофе, который заваривала ему дочь, медленно попивать его, то и дело ставя кружку на стол для того, чтобы перевернуть лист в большой коричневой папке с документами. Росляков вошел в кабинет, разделся, пригладил волосы и, взяв портфель, подошел к столу. Раздвинул пошире зеленые шторы на окнах, открыл настежь форточку. Вынул из кармана кожаный футлярчик с ключами и, отперев сейф, достал папку с материалами по делу отряда Смолягина. Вечером он, конечно, не успел прочитать ничего и решил заняться этим с утра. Владимир Иванович отхлебнул кофе из кружки и раскрыл папку. Читал он внимательно, возвращался и по нескольку раз перечитывал уже прочитанное. Дело подвигалось медленно, и он уже дважды подливал себе кофе, несколько раз начинал курить, но, положив сигарету на край пепельницы, забывал о ней, и та гасла, и тогда он доставал из лежавшей на столе пачки новую и снова закуривал. Раздался телефонный звонок. — Росляков слушает. — Товарищ полковник, докладывает дежурный по управлению капитан Егоров. — Слушаю вас, капитан. — Только что по городскому телефону звонил гражданин Лозовой и просит его принять по личному делу. — Кто? — Лозовой Константин Павлович, — еще раз повторил дежурный и замолчал. Росляков даже поморщился: несколько мгновений тому назад он как раз думал об этом человеке, и тут его звонок. — Выпишите ему пропуск, капитан, и пусть кто-нибудь из работников проводит в мой кабинет. Владимир Иванович задумчиво положил трубку и некоторое время сидел неподвижно. Странное чувство овладело им, совсем как в детстве: малышу загадана загадка, и он чувствует, что разгадка вертится на кончике языка, а отгадать не может. Полковник не спеша завязал папку и спрятал в стол. Выбросил окурки в урну. Раздался стук в дверь, и полковник вышел из-за стола. — Войдите. Дверь открылась, и в комнату вошел человек в коричневом костюме. Он близоруко прищурился и неторопливо протянул руку Рослякову. — Лозовой Константин Павлович, учитель истории из пятой средней школы Синельниковского района Днепропетровской области. — Росляков Владимир Иванович, — полковник жестом показал на стул рядом со столом и, усевшись в кресло, продолжил: — Слушаю вас, Константин Павлович. Лозовой не спешил. Он внимательно оглядел полковника и, достав очки из футляра, стал их протирать, незаметно разглядывая кабинет. — Привела меня к вам… — он на секунду задумался, — необычная история… Видите ли, Владимир Иванович, воевал я в этих местах, в отряде Смолягина, чудом остался жив, всю жизнь думал, что один уцелел… А оказалось, что нет… Не один. — Это тот отряд, — словно вспоминая, спросил Росляков, — который, кажется, воевал на Радоницких болотах? — Он самый, — подтвердил Лозовой. — Отряд почти весь погиб, кроме меня, Марии Степановны Смолягиной и Дорохова, не знаю, как его звать… Ну, сначала я хотел бы сказать, почему я тут очутился через столько лет. Мы ведем в школе большую работу по военно-патриотическому воспитанию. Прошли с пионерами и комсомольцами местами боевой славы по всей области. Создали музей боевой славы. И как-то однажды меня вдруг кольнуло: «Что ж ты, браток! Неизвестных героев разыскиваешь, а своих друзей по оружию не можешь навестить и поклониться им?» Крепко мне эта думка в голову запала, а тут еще и поездку в Москву мы завоевали. И решили мы с комитетом комсомола поехать не в Москву, а в края, где я когда-то воевал. Вот таким образом я очутился так далеко от родных мест. Владимир Иванович понимающе кивнул головой и пододвинул гостю пачку сигарет. — Не ожидал я никого увидеть в живых, — продолжал Лозовой, как бы размышляя вслух, — не надеялся. И вдруг радость — жива Мария Степановна Смолягина, жена моего командира. Человек, спасший мне жизнь. — Голос у Лозового предательски дрогнул, он закашлялся. — Сколько мы с ней проговорили, сколько вспомнили да и поплакали, что скрывать… — Он задумался и, приподняв очки, судорожно вытер лицо обеими ладонями, словно избавляясь от ненужных сейчас воспоминаний. — Трудно воспоминания даются, Владимир Иванович, да еще такие… да… Ну, ладно, как говорится, ближе к делу… Так вот, дня через два приехал журналист из вашей областной газеты, фамилию не помню, а имя, кажется, его Андрей зовут. Растревожил он мне душу, — усмехнулся Лозовой, — хочет, понимаете, книгу написать о Радоницких болотах, а вернее, о нашем отряде. Ну, это его дело. А меня, честно говоря, это немного задело: как может человек писать о том, чего он никогда не видел, и не дай бог ему увидеть! Вы простите меня, Владимир Иванович, я отвлекаюсь все время… — Ничего, ничего, продолжайте, пожалуйста, — Росляков встал и, достав из шкафа еще чашку, налил себе и Лозовому кофе. — Дочка варила… Извините… — Росляков взял трубку телефона. — Росляков слушает. — Владимир Иванович, — послышался в трубке голос Петрова, — я слышал, у тебя гость… Хотел бы присутствовать, не возражаешь? — Заходи. Петров появился в кабинете через минуту и, словно не замечая Лозового, прошел сразу к столу. — Познакомьтесь, мой заместитель Петров, — представил его Росляков, — а это, Геннадий Михайлович, не поверишь — один из бойцов отряда Смолягина. — Что? — Петров внимательным взглядом окинул с ног до головы Лозового. — А мы думали… Здравствуйте. — Добрый день! — Лозовой смущенно улыбнулся. — Так вот вышло… — Константин Павлович пришел к нам по делу, — негромко произнес Росляков, снова опускаясь в кресло, — ты, Геннадий Михайлович, бери стакан с подоконника и присоединяйся к нам кофейничать. Петров налил себе кофе и сел в кресло у окна. — Так вот, Владимир Иванович, — продолжал Лозовой и, собираясь с мыслями, сделал несколько глотков из чашки, — растревожил он мне душу своими расспросами об отряде, и я ему много порассказал — человек книгу собирается писать, ему нужен материал, естественно. А потом пожалел, что рассказал… — сокрушенно закончил Лозовой и отпил кофе. — Понимаете, сказал он мне, что еще один человек из отряда уцелел, некто Дорохов. Очень я обрадовался, тем более что Андрей сказал, что он разведчиком был у Смолягина. Ну, думаю, встретимся, поговорим… душу отведем… Потом узнаю, что этот человек подозревается односельчанами в пособничестве гитлеровцам, потому что не нашлось свидетелей того, что он был послан на службу к фашистам Смолягиным. Честно говоря, — Лозовой шумно выдохнул, — хотелось мне прямо ночью пойти к нему. Чем черт не шутит, а вдруг я видел этого человека в отряде и смогу подтвердить, что он работал у немцев по заданию. Что ни говорите — судьба человеческая. — Лозовой нервно потер подбородок и поглядел на Рослякова. — Ну на следующий день прямо с утра помчался на болота. Пришел в избу, поздоровался, представился. Дорохов в это время что-то стругал ножом около стола. Посмотрел на меня исподлобья, буркнул в ответ, положил нож на стол и стал внимательно меня разглядывать, словно изучать. Взгляд у него… — Лозовой поморщился, — неприятный осадок какой-то оставляет в душе. Сидит, смотрит и молчит, словно спрашивает, а что тебе нужно-то от меня? Я и так с ним и эдак — молчит, словно воды в рот набрал. Я рассказал ему свою историю и то, как меня Мария Степановна спасла, и как я в отряд попал, и как спасся. Молчит. Потом встал, достал из печи чугунок с тушеной картошкой, из сеней принес бутылку водки. Сели за стол, выпили, и снова молчит. Я, честно говоря, вообще не пью — сердце, а сел за стол с единственной целью поговорить. Не вышло ничего… Потом пошел он меня провожать. Довел до поворота тропинки, подал руку, повернулся и поковылял обратно. Я в другую сторону пошел. Что за человек! Спросил я у него, дескать, кем был в отряде? «Лесничим», — ответил и все. Пришел я домой, а на душе так тягостно… Чувство такое, словно я видел его уже. Всю ночь провалялся в кровати, а под утро вспомнил, где я его видел. Перед боем, за день до боя, сидел я в дозоре — приказ Смолягина был такой: наблюдать и только наблюдать. Тревогу поднимать только в том случае, если пойдут фашисты. Сижу, туман рассеялся, вижу, в камышах двое идут. О чем говорят, не слышно было. Один высокий, худой, уши заметные, из-под шапки выглядывают. Второй кряжистый, сильно хромал. Дорохов был это, Владимир Иванович, он самый… — Вы точно помните, Константин Павлович? — быстро переспросил Петров, приподнимаясь в кресле. — Это очень важно! — Долго я думал, — покачал головой Лозовой и совсем тихо продолжил: — Но чем больше припоминал, тем увереннее становился — это был Дорохов, кто второй — не знаю. А вот с ним Дорохов. Петров и Росляков переглянулись. Геннадий Михайлович подошел к Лозовому. — Константин Павлович, могли бы вы вспомнить все о последних днях отряда… Не было ли каких происшествий? — Были. Провокатора мы разоблачили за неделю перед боем. Я, честно говоря, после разговора с Андреем подумал, уже не Дорохов ли помог Тимофею этого гада разоблачить, а потом засомневался. Помню, тот гад ползучий говорил, что работал с каким-то агентом по кличке Лесник… Вот почему я пожалел, что этому журналисту так много рассказал… Утром не выдержал и к вам прямо. — Ох, чую я, что неладно здесь что-то с этим самым Дороховым. Вы поймите меня правильно, товарищи, может, я преувеличиваю что-то, но, знаете, душа старого солдата покоя не дает. Может, показалось мне, так вы уж не ругайте меня — поймите… — Что вы. Константин Павлович, — вы поступили правильно. Проверим, разберемся… Спасибо вам за информацию; Не волнуйтесь, продолжайте с ребятами ваши поиски. Когда Лозовой вышел, они долго сидели молча. Потом Петров поднял трубку и набрал номер. — Кудряшов? Андрей, пошли запрос в управление комитета по Днепропетровской области с просьбой собрать сведения о Лозовом Константине Павловиче, учителе… Да? Ну, спасибо. Петров положил трубку и, улыбаясь, повернулся к Рослякову. — Кудряшов позавчера направил запросы по Лозовому о подтверждении военной службы… И еще на родину Лозового отправлен запрос с просьбой по фотографии опознать его среди старожилов деревни, в которой он родился и проживал до войны. Так-то вот, Володя!
Ночь выдалась ветреной. Изредка сквозь прогалины в облаках выглядывала озябшая луна и тут же снова пряталась. Ветер срывал с сугробов колючий мелкий снег и гнал его вдоль темных улиц. На центральной улице Геранек было светлей. Фонари, расставленные довольно часто, освещали ряд четырехэтажных домов, площадь и здание райкома партии, которое стояло немного в глубине от проезжей части. Человек, который шел по центральной улице районного центра, этого не замечал. Он, видимо, устал и шел медленно, сильно прихрамывая, то и дело останавливаясь и отдыхая. Около одного из домов он встал, молча глядел на темные окна, словно прикидывая, заходить или не заходить. Потом, решившись, толкнул дверь парадного и стал подниматься по лестнице. На третьем этаже он остановился и нерешительно позвонил. Ответа не было, и тогда он снова поднял руку и быстро прикоснулся к кнопке звонка. Через несколько минут за дверью послышалось шарканье ног, и басовитый, хриплый со сна мужской голос недовольно спросил: — Кто там? — Это я, Виктор Матвеевич, Дорохов… Дверь распахнулась, и Прохоров удивленно и тревожно посмотрел на позднего гостя. — Здравствуй, Василий, что-нибудь случилось? Дорохов, не ответив, шагнул через порог. Развязал шапку и огляделся. — Виктор, дай веник снег обмести. Он вышел в коридор и долго старательно обметал снег. В прихожей разделся, присел на стул, натужась, снял сапоги. Все это время Виктор Матвеевич молча его рассматривал. Он слишком хорошо знал Дорохова, чтобы думать, что тот зашел к нему среди ночи просто так. Значит, что-то случилось. На шум из комнаты выглянула заспанная жена Прохорова Клавдия Даниловна. Она кивком ответила на приветствие Дорохова и, зябко запахивая цветастый халат, капризно сложила губы: — Витя, зайди на минуточку… — А когда Виктор Матвеевич вошел в комнату, злым шепотом продолжила: — Слушай, когда это, наконец, кончится? Люди спать легли, завтра рабочий день… Можем мы отдохнуть? Мало того, что у нас его дети живут, так он еще и по ночам надумал врываться… Наверняка напился в городе, а ночевать… — Клавдия! — Виктор Матвеевич так глянул на жену, что та словно поперхнулась. — Запомни раз и навсегда — не лезь в наши с Василием отношения! Тебе этого никогда не понять. Раз пришел Василий среди ночи, значит, так надо… Ложись спать, я сам все сделаю… И он, не глядя на жену, вышел в прихожую. — Раздевайся, Василий, вот возьми шлепанцы. Снимай брюки, мокрые, поди, насквозь, надень мои старые. — Ты извини меня, Виктор, что я так… Вот и Клавдия Даниловна недовольна. Я поговорю с тобой и пойду потихонечку… — Куда ты пойдешь? — повысил голос Виктор Матвеевич. — Двадцать верст киселя хлебать? Раздевайся, здесь я хозяин. Когда Дорохов переоделся, они прошли на кухню. Виктор Матвеевич достал из холодильника колбасу, сыр, консервы. Зажег газовую плиту и поставил на огонь сковородку с котлетами. Посмотрел на Дорохова, зябко подергивающего плечами, и достал из шкафа початую бутылку водки. Налил полный стакан, протянул гостю. — Пей. Дорохов сконфуженно покашлял. Нахмурясь, осторожно опрокинул в рот. Несколько мгновений сидел не дыша, затем отломил кусок хлеба, понюхал и бережно положил на тарелку. — Ешь, не стесняйся. — Виктор Матвеевич пододвинул ему тарелку с колбасой. — Проголодался небось… Как Варвара поживает? Дорохов молча взял кусок колбасы и, положив его на хлеб, откусил большой кусок. Ел он, как всегда, не торопясь, каждый раз, перед тем, как поднести бутерброд ко рту, старательно его оглядывал, словно боялся, что на нем окажется соринка. Виктор Матвеевич его не торопил и, хотя ему до смерти хотелось спать, а завтра предстояло решить кучу неотложных дел, он изо всех сил старался не показать вида, что Василий пришел не вовремя. Он молча смотрел, как ест его гость, как потом пьет чай, не спеша и отдуваясь, как бережно сметает хлебные крошки в широкую загорелую ладонь, отправляет в рот и долго жует, словно перемалывает. Наконец, Дорохов вытер тыльной стороной ладони рот и негромко произнес: — Спасибо, значитца, тебе, Виктор Матвеевич… Они закурили. Дорохов курил сигарету неумело, брал ее двумя пальцами, словно она была стеклянная и могла разбиться. Виктор Матвеевич затягивался жадно, стараясь дымом развеять дрему, которая все сильнее охватывала его. — Так вот, Виктор Матвеевич, — начал Дорохов, докурив сигарету, — неладно у нас что-то. По болоту люди лазают. — Я давеча сам следы видел. — Ну и что? — чуть раздраженно и устало сказал Виктор Матвеевич. — Наверное, это тот учитель с Украины, что с ребятишками по местам боевой славы путешествует. — Прохоров встал и прошелся по кухне. — Он и у меня в райисполкоме был… Да и нам в укор — сколько лет прожили, все местные, а никто не догадался погибшим партизанам памятник поставить. А он через столько лет, — Виктор Матвеевич покачал головой, — нашел все-таки… Надо же, какой: мужик деликатный — говорили с ним о том о сем, и только в конце разговора об этом заикнулся. Говорит, стоят могилы около болота, никто туда не ходит. Говорит, хорошо бы памятник поставить в центре Ворожеек, и неизвестные могилы перенести туда же… А мы… — Виктор Матвеевич посмотрел на Дорохова и замолчал. Дорохов сидел, не шевелясь, наклонив голову. Казалось, он не слушает Прохорова, и только набрякшие вены на лбу выдавали напряжение. Глаза его были прикрыты, он еле заметно раскачивался корпусом на стуле, словно какая-то знакомая и острая боль внезапно пронзила его. — Что с тобой, Василий? — озабоченно спросил Прохоров, кладя руку ему на плечо. — Заболел, что ли? — Говоришь, учитель хочет могилы в центр села перенести? — не отвечая на вопрос, спросил Дорохов, поднимая на него тяжелый взгляд. — А зачем это надо? Ребята там погибли… Там и лежат вот уже тридцать годов. И на кой ляд их беспокоить? Кому они мешают? — Не мешают, — повысил голос Прохоров, — а надо сделать так, чтобы память о них жила. — А что она, не живет? — в упор спросил Василий Егорович, и впервые за весь разговор в его голосе зазвенела жесткая и негодующая нотка. — Мне учитель-то тоже об этом говорил. О памятнике, значитца. Я, по правде говоря, не поверил, а сейчас вижу, что не шутковал он… — задумчиво пробормотал Дорохов. — Так ты ради этого и шел двадцать верст пешком? — недовольно поморщился Прохоров и зевнул. — Ошалел ты, что ли, на старости лет, Василий! Никто не собирается именно сейчас переносить могилы в центр Ворожеек. Это дело не простое, и до весны никто заниматься им не будет… И ты не волнуйся, не прыгай… Сейчас для тебя не это главное. Главное, — Виктор Матвеевич внимательно и строго посмотрел на насупившегося Василия, — чтобы разобрались в твоем деле. Дорохов вздрогнул и с тревогой посмотрел на него. Он был уверен, что о его приходе в приемную управления госбезопасности никто не знал. — Что смотришь? — спокойно продолжал Прохоров. — Знаю я все. А знаю потому, что сам там был и просил за тебя… Сиди спокойно на своем болоте и жди, когда разберутся с тобой… А учитель этот, кстати, делает большое и нужное дело — память о героях не должна исчезать. Я, честно говоря, думал и надеялся, что поможет он и в твоем деле… Послушай, — он неожиданно горячо и с болью посмотрел на Дорохова, — неужели ты его не помнишь? Ну, может, видел когда-нибудь? Встречал в отряде? Так… Василий Дорохов молча курил, не поднимая головы и сумрачно разглядывал ноги в серых домашних носках. На его лице застыло хмурое и тревожное выражение,словно он был недоволен этим разговором, словно он разбередил зажившую рану. — Ну, никак я не могу взять в толк, почему о тебе не знает ни Мария, ни этот учитель? — Да я в отряде-то не был ни разу… Откудова я мог его видеть? — с досадой воскликнул Дорохов и тут же испуганно приложил ладонь ко рту. — Меня Тимоха-то обычно в камышах встречал около кривой березы. Поговорим и расходимся, — почти шепотом закончил он и замолчал. На лице Дорохова застыло какое-то горькое и безнадежное выражение, он вдруг понял, что его мечты и надежды рушатся и в сердце заходит знакомая боль и обида на самого себя, на свою несчастливую судьбу. Василий Егорович вспомнил, как сегодня днем к нему пришел незнакомый человек и, назвавшись участником партизанского отряда Смолягина, долго рассказывал о себе, о Тимофее и Марии, о своем спасении после боя. Он говорил, а Дорохов не знал, как поддержать этот разговор, мучительно молчал, не имея силы рассказать о своей доле, чтобы не оттолкнуть от себя. Потом Василий Егорович долго смотрел вслед Лозовому, который уходил по еле заметной тропинке в сторону Ворожеек, и думал о том, что тот, не питая к нему никакого зла, больно ударил в самое незащищенное место, словно поставил точку в конце длинного, нескладного предложения, до того запутанного, что точка оказалась для него спасением. «Пришел человек, — размышлял Дорохов, не отрывая взгляда от одинокой строчки следов на снегу, — пришел с надеждой увидеть товарища, а увидел меня… А мне тоже хотелось поговорить, вспомнить… Эх, почему я такой неладный! И сам словно в нужник провалился, и человека расстроил!» Не мог после этого Василий Егорович работать, он слонялся без дела по двору, курил, потом вдруг собрался, и, ни слова не говоря жене, зашагал к Ворожейкам. Шел и думал. И чем больше думал, тем больнее и больнее становилось ему. — Ладно, Василий, — прервал его размышления Прохоров, отчаянно зевая, — давай спать укладываться… Легли они в большой комнате. Виктор Матвеевич, чтобы не тревожить жену и детей, лег на раскладушке, а Дорохову постелил на узкой неуклюжей кушетке, которую купила его жена, уверяя, что это настоящий «ретро». Потушили свет, но Виктор Матвеевич не мог заснуть. Он ворочался, кашлял. — Витюха, — послышался шепот с кушетки, — а как мои-то? — Ничего, отличники оба… Гришатка вымахал с версту… — Я бы… того… — Василий Егорович сел на кушетке, — посмотрел бы… — Только тихо. В маленькой комнате они… Не разбуди. Дорохов встал и босиком подошел к двери, приоткрыл ее. В маленькой комнате, которую Виктор приспособил под кабинет, стоял диван-кровать. Свет от уличного фонаря проникал сквозь незадернутые шторы и высвечивал в темноте головы его сыновей. Дорохов на цыпочках вошел и остановился около дивана. С краю спал Гришатка. Его взлохмаченные волосы выделялись на подушке крупными завитками. Он осунулся с тех пор, как его видел Дорохов, чувствовалось, что вытянулся и стал еще угловатей. Гришатка чуть улыбался, и от этой улыбки в груди у Дорохова поднялся тяжелый и горький комок. Он сел на пол и прислонился щекой к дивану, словно стараясь обнять его, прижать к сердцу. Виктор Матвеевич, стоя в дверях, смотрел на Дорохова, на его неестественно вытянутую ногу и чувствовал, как к горлу подкатывает старая, знакомая боль. Андрей ввалился в кабинет начальника райотдела милиции, молча плюхнулся на продавленный диван и виновато посмотрел на изумленного капитана милиции, который пил чай из огромной синей чашки с цветочками. Фролов встал из-за стола и, не говоря ни слова, налил из чайника, стоявшего на полу, еще одну чашку, только красную, но с такими же лихими цветочками. Бросил туда кусков пять сахара, посмотрел на Андрея и добавил еще три, размешал и сунул в красные, окоченевшие руки Андрея. Кудряшов глотал горячий чай, не чувствуя ни вкуса, ни сладости, он отогревался. На второй кружке Кудряшов смог поблагодарить капитана. — Спасибо, Михаил Семенович, чуть богу душу не отдал… — Где же ты так промерз, Андрей Петрович? — Фролов добродушно усмехнулся. — Сказал бы мне, я бы тебе штаны на меху выделил для твоих поездок. — Не говори, Михаил Семенович, — покачал головой Кудряшов. — Сначала был в Плетневе, потом через болото прошел к Дорохову, но заходить не стал, а пошел прямо в Ворожейки. — Крюк будь здоров, — согласился Фролов. — Чего это тебя понесло? Мог бы и на автобусе доехать. — Долго ждать. — По местам боевой славы прошелся… — усмехнулся Фролов, подливая Андрею в чашку кипятку. — А это как понимать? — удивился тот, доливая заварки. — Как понимать, так и понимай… — опять усмехнулся Фролов. — Учитель по такому маршруту ходил… — Лозовой? — Он самый… — А ты откуда знаешь? — Как не знать. Он сам ко мне в милицию приходил и просил помочь с ночлегом в этих местах. Я вместе с ним и объездил эти деревни и договаривался с жителями. Не бросишь ведь на произвол судьбы — с детьми путешествует. — Это верно, — согласился Андрей, окончательно пришедший в себя. — Слушай, Михаил Семенович, а по каким ты деревням еще с ним ездил? — Сейчас… — Фролов встал из-за стола и, поправляя сползающий китель, направился к карте. — Вот смотри: Ворожейки, Плетнево, Мотняево, Бабенки и Писцово… В основном вокруг северного берега болот он ходил со своими ребятами. — Да… — согласился Андрей, разглядывая на карте маршрут Лозового. — Поиск есть поиск. А вот в Писцове-то я и не был. Как-то эта деревня выпала из моего поля зрения. Странно, очень странно. Михаил Семенович, не будет у тебя оказии туда добраться? — Посмотрим… — Он выглянул в коридор и кому-то крикнул: — Иванов, есть у нас кто-нибудь из Писцова?.. Ну-ка, позови его ко мне. Фролов закрыл дверь и повернулся к Андрею. — На твое счастье, участковый здесь толковый парнишка. Он тебе во всем поможет. Парнишка оказался здоровенным старшим лейтенантом лет тридцати. Он лихо вытянулся перед Фроловым. — Старший лейтенант Игнатьев, товарищ капитан. Вызывали? — Слушай, Игнатьев, это товарищ из комитета госбезопасности, ему надо добраться в Писцово. И помоги ему там во всем, понял? — Так точно, товарищ капитан, — рявкнул «парнишка», с уважением посмотрев на Кудряшова. До Писцова доехали сравнительно быстро. У старенького милицейского «газика» был хороший мотор, хотя он дребезжал кузовом так, что у Андрея заломило в ушах. Дорогой, выслушав Андрея, Игнатьев помолчал и хрипло произнес: — Старожилы? Как же, есть… Тетка Зинаида, почитай, года с тридцатого живет… — Мне с ней поговорить надо, вы бы пригласили ее в отделение. — Кого? Тетку Зинаиду пригласить? — капитан с сомнением покачал головой и усмехнулся. — Медведя из лесу легче в отделение пригласить, чем ее… Отвезти я вас отвезу, а там уж вы сами… Деревенька была маленькая, и казалось, что ее занесло снегом по самые трубы. Из шести домов, что вытянулись вдоль дороги, дымок курился только в четырех. В отдалении виднелись еще три дома, но признаков жизни в них не было заметно. Машина проехала в самый конец деревни и остановилась. Игнатьев выглянул из кабины и отрывисто сказал: — Дома… В огороде дрова колет. Они вошли по аккуратно расчищенной дорожке во двор и тут же увидели тетку Зинаиду, которая колола дрова у высокой поленницы. Ей было лет шестьдесят. В солдатской телогрейке, серой деревенской юбке и больших валенках. На голове лихо заломлена старенькая шапка-ушанка. На звук шагов тетка на мгновение подняла голову. — Здравствуйте, тетка Зинаида… — не очень решительно произнес Игнатьев и, сняв шапку, поклонился. — Тут до вас товарищ приехал. Поговорить ему надо с вами… — Пущай говорит, — милостиво разрешила тетка, лукаво посмотрев на Андрея. — Только, судари вы мои, недосуг мне стоять, так что вы поколите мне дрова, а я тем временем и поговорю. Делать было нечего, Игнатьев, покачав головой, скинул дубленый полушубок и стал колоть дрова, а Кудряшов, усмехнувшись на теткину ловкость, присел рядом с ней на здоровенный комель березы, который лежал чуть в стороне от поленницы. — Зинаида… — Степановна… — Зинаида Степановна, не помните ли вы, кто жил в деревне во время войны? — скороговоркой выпалил Андрей. — Эк, милый, как же не помню? Всех помню. Только девять домов в Писцове было, сейчас четыре осталось… Старики помирают, а молодые норовят в город податься иль на центральную усадьбу, к кину поближе. Тетка Зинаида задумалась, полезла в карман телогрейки, достала пачку «Примы». Ловко закурила и, с удовольствием затянувшись, бросила взгляд вдоль улицы, словно что-то припоминая. — С краю Белохвостовы жили, — проговорила она, — потом хохлы — Костенки, дале Ножкины… Настька беркулезная, сводная сестра Алферова Ивана. Андрей замер. — Как вы сказали? — Настька беркулезная. У Настьки мать-то при родах померла, вот ее Алфериха и кормила грудью почти с год. Считай, совсем родными с Иваном почитались. Померла она в сорок четвертом. Доконал беркулез. — А жену Ивана Алферова вы знали? — Груньку-то? Как не знала… — тетка обидчиво поджала губы, — я Груньку век помнить буду… Гнилой сруб мне продала… Мужика-то ее перед самой войной в лесу браконьеры порешили, так она посередь самой войны примака в дом привела. — Какого примака? — не понял Андрей. — Обыкновенного. Ты коли, коли, милый, — прикрикнула она на устало разогнувшегося Игнатьева. — У нас свой разговор, а у тебя свой… Обыкновенного, с руками и ногами. Жила-то она на кордоне алферовском, а потом сюда перебралась, к Настасье. Так до самого конца войны и жила… — Вы не ошибаетесь, Зинаида Степановна? — переспросил Кудряшов. — Как это ошибаюсь? — возмутилась тетка Зинаида. — Да я у нее в сорок четвертом году вот этот самый сруб и купила. Даже бумага с сельсовета есть. — Ничего не понимаю, — произнес Андрей. — Разве Алферова не погибла во время войны? — Кто, может, и погиб, только не Грунька… — ехидно заявила тетка Зинаида, выбрасывая окурок и сплевывая на снег. — Эта баба нигде не погибнет. Мужичонка, правда, ей плохонький попался, болел, почти из избы не показывался. Его Грунька пристроила в госпиталь, в котором работала… — А куда она потом девалась? — Кто его знает… — Тетка пошамкала губами. — Сруб и избенку продала и уехала с госпиталем. — Вестей никаких от нее не было? — Как не было? Было. Году в пятидесятом письмецо мне пришло, все про Ваську Дорохова расспрашивала. Этот хлюсг у фашистов служил, — тетка понизила голос и, оглянувшись, подмигнула. — Я баба прямая, я не стала церемониться… Взяла да и снесла его в Гераньки к уполномоченному. Андрей и Игнатьев переглянулись. — А чего это вас всех до Груньки потянуло? — с любопытством спросила тетка Зинаида. — Этот самый учитель-то уж больно интересовался, словно свататься к ней хотел. И Маруська потом прибегала. — А разве Смолягина не знала, что Алферова осталась жива? Она раньше не интересовалась? — Милок, не те времена были, чтоб кем-то интересоваться! Да Маруська к тому ж, окромя себя, никем никогда не интересовалась… — Спасибо, Зинаида Степановна, большое спасибо… — А вы чего, уходите? — огорчилась тетка Зинаида. — А то б покалякали еще… Дров-то вон сколько…
— Мария Степановна, — Лозовой встал из-за стола и аккуратно смахнул пылинку с рукава пиджака, — скажите, а почта есть в деревне? — А как же… Пятый дом от меня. — Позвонить по межгороду можно оттуда? — Вообще-то телефона нет, но можно попросить Веру, она по служебному закажет. Лозовой надел пальто, шапку. — Так говорите, Вера… — Он задумчиво повертел в руках перчатки. — Надо директору школы позвонить… Волнуется, наверное… — Знаешь что, Константин, пойду-ка я с тобой. Мне-то Вера не откажет — крестная. Вера оказалась молоденькой девчушкой, круглолицей и розовощекой. — Номер телефона? — Львов, пожалуйста… — Лозовой замялся. — Директор в доме отдыха сейчас… На лыжах катается. — Костя, я пойду… По хозяйству дел много. Ребятишек-то кормить надо. — Да, да, Мария Степановна… Какие разговоры. Я поговорю и домой. Львов дали через час. Лозовой осторожно приложил трубку к уху и негромко сказал: — Это я… Да, да, заканчиваем. Много материалов собрали. Для нашего музея боевой славы… Да, я же говорю, что нашел уникальные материалы, но, к сожалению, в очень плохом состоянии. Что вы говорите? Нет, ничего невозможно разобрать… Хорошо, конечно, захвачу… Да, знакомых тут встретил… по отряду партизанскому. Кого? Дорохова Василия Егоровича, сейчас лесником работает… Да… Жив, здоров… А вообще надо с вами посоветоваться… да, как музей по-новому оформить. Хорошо, как приеду, зайду… До свидания. Лозовой положил трубку и какое-то время стоял, словно забывшись. — Поговорили, Константин Павлович? — Что? — Поговорили с директором? — Вера с улыбкой смотрела на Лозового. — А… да, да. Спасибо. Сколько я вам должен? — Рубль сорок три… — Андрей Петрович, — голос Рослякова звучал глухо, — быстро к начальнику управления со всеми материалами по смолягинскому отряду и Егорову скажи. Когда Кудряшов и Игорь вошли в кабинет начальника управления, там были Росляков и Петров. Начальник управления негромко беседовал с Росляковым, то и дело что-то переспрашивая. — Здравствуйте… Прошу поближе. Начинайте, Владимир Иванович. Росляков встал и четко доложил весь ход дела, отмечая наиболее интересные детали. — Так, так… Значит, вы говорите, Владимир Иванович, Лозовой приходил к, вам с заявлением. А до этого он нашел следы партизанки Алферовой. Вы нашли, где проживает Алферова? — Так точно, товарищ генерал. Кудряшов встал и открыл папку. — Когда свидетельница упомянула, что Алферова работала в госпитале, я дал запрос в Центральный архив министерства обороны, и мне пришел ответ, в котором был указан номер госпиталя, дано подтверждение того, что Алферова работала в нем санитаркой. Последний город, в котором находился госпиталь, Батуми. Там он был расформирован и превратился в обыкновенную клиническую больницу. Алферова проживает в Батуми — вот справка адресного бюро. — А ваше мнение, кто предатель? — Лозовой, — уверенно заявил Кудряшов. — Первое, что меня насторожило, это его удивление, что остался жив еще один свидетель — Дорохов. И только когда Лозовой понял, что Дорохов его не знает, он успокоился. Потом розыск Алферовой… И, наконец, откуда рядовой боец партизанского отряда может знать кличку пусть даже разоблаченного вражеского агента Лесник? Эту кличку могли знать только Смолягин, начальник фашистской разведывательно-диверсионной школы Готт и… сам агент Лесник. Может, поэтому Лозовой при беседе с полковником Росляковым и играл на словах «лесничий» и «лесник». Росляков подтолкнул локтем Петрова и еле заметно ему подмигнул. Полковник чувствовал, что ему начинает нравиться старший лейтенант. Пусть еще неопытный, резковатый в суждениях и поступках, но, безусловно, — в этом полковник был уверен — влюбленный в свою новую работу. Владимир Иванович понял и то, что Кудряшова отличало от многих молодых оперработников: умение работать с людьми, умение их выслушать, ненавязчиво и спокойно поддерживать беседу. — Вы правы, Андрей Петрович. — Голос генерала прозвучал резко. — Дополнительные сведения по Лозовому есть? Доложите. Воинская служба подтвердилась, место рождения тоже, старожилы деревни по фотографии его опознали. Но странно… — Не понял, почему странно. — Я внимательно читал протоколы опознания, товарищ генерал, и мне показалось, что опрашиваемые больше помнят то, что он им привез в подарок после войны, а не его самого. Опрашиваемые — старики. Причем, один из них полуслепой, второй… — Андрей смущенно замолчал, — спившийся тип… Он за стакан водки кого хочешь опознает. Другие жители деревни или приезжие, или молодежь послевоенных годов рождения. Так что опознание нельзя считать верным. — Согласен. Владимир Иванович, какие меры приняты по отношению к Лозовому? — Изучаются все связи, по месту жительства установлено наблюдение. Кроме этого, чтобы обезопасить Алферову, дана ориентировка нашим коллегам в Батуми. Я предполагаю, что Лозовой может у нее появиться… Надо немедленно командировать в Батуми Кудряшова. Пусть он проведет допрос Алферовой в качестве свидетеля и опознание Лозового на месте. Возможно, это и будет последняя точка. Еще что-нибудь есть? — Разрешите, товарищ генерал? Росляков посмотрел на приподнявшегося Егорова. — Перед самым вызовом к вам я получил сведения о Сонине. Самое интересное, что он умер, как значится в документах, в том самом госпитале, где работала Алферова. — Уж не тот ли это «примак», — задумчиво произнес генерал, — о котором так красочно рассказывала Кудряшову бабка Зинаида? Это наводит на мысль, что Сонин может оказаться тем самым Лосем из сообщения гестаповца. Андрей Петрович, прошу вас самым тщательным образом разобраться в этой истории. И потом, в командировке могут быть самые неожиданные ситуации. Судя по последним сведениям, Лозовой начнет активно действовать очень скоро. Поэтому постоянно держите меня и руководство органов госбезопасности Аджарии в курсе дела. Ясно? — Так точно, товарищ генерал. До Батуми Андрей летел долго. Самолет посадили из-за метеорологических условий в Сухуми. Часа два пришлось ходить по небольшому двору Сухумского аэропорта и проклинать субтропики. В небольшом кафе Андрей съел жидкий люля-кебаб, который расползся, как студень на сковородке. Народу было много, все были раздражены и зло посматривали на большой громкоговоритель. Очень много было детей. Они капризничали, бегали, дрались друг с другом, тут же мирились и снова дрались. Андрей смотрел на них и вспоминал, как часа за четыре до его отъезда в аэропорт вдруг раздался звонок. Он пошел открывать — на пороге стояли раскрасневшаяся Наташа и Андрюшка. — Дядя Андрей! — заорал он, бросаясь ему на шею. — А где дедушка Петя? — Здесь я, шалун… — Отец, шаркая тапками, вышел в коридор и повернул улыбающееся лицо на голос Андрюшки. — Ну-ка, пошли в комнату, я тебе подарок приготовил! Услышав про подарок, мальчишка рванул в комнату, потащил за руку дедушку Петю, оставив Наташу и Андрея одних. Здравствуй, Андрюша… — тихо сказала Наташа и о вызовом посмотрела на него. — Привет. Что это ты на меня так смотришь? — с улыбкой спросил Андрей, принимая из ее рук сумку. — Словно хочешь поцеловать, да не знаешь с какой стороны подступиться… — Я не знаю? — Наташа гордо тряхнула головой и вдруг неожиданно для себя самой обняла Андрея за плечи и поцеловала прямо в губы и тут же, смутившись своей смелости, густо покраснела. — Молодец… — только и сумел произнести Андрей, потянулся к ней, но Наташа строго и в то же время шаловливо погрозила ему пальцем. Часа через два они пошли провожать Андрея на автобус. Шли молча. Андрею вдруг показалось, что между ними появилась какая-то призрачная ниточка из невысказанных слов и мыслей, и он, взглянув на Наташу и встретясь с ее взглядом, нежно улыбнулся и крепко пожал ручонку удивленно посмотревшему на него Андрюшке. Автобус подошел сразу же. Андрей смущенно, словно он в этом был виноват, еще раз пожал ручонку Андрюшке и, выпрямившись, посмотрел на Наташу. Она мгновение колебалась, потом обняла его, еще коснувшись губами щеки, тихо прошептала: — Приезжай скорее. Автобус быстро удалялся от остановки. А Андрей стоял и смотрел в заднее стекло на две уменьшающиеся фигуры и чувствовал, что они оба ему бесконечно дороги.
Самолет приземлился в Батуми поздно вечером. Андрей вышел за ворота летного поля и растерянно посмотрел вокруг. Куда идти, он не знал. Кто-то тронул его за рукав. — Кудряшов? — Да… А вы, простите, кто? — Реваз Колидзе. Прошу, Андрей Петрович, в машину. Они сели в белые «Жигули», которые сразу же сорвались с места, словно пришпоренные. Реваз вел машину классно, на грани, как говорят, «фола». — Ты не удивляйся, Андрей, что я тебя встречаю. Это мне Игорь звонил. Понял? — чуть хрипловатым голосом произнес Реваз и громко захохотал, отчего «Жигуль» даже немного вильнул. Наконец до Кудряшова дошел смысл сказанного. Конечно же, не за «личные заслуги» его встречал в аэропорту сотрудник Комитета государственной безопасности Аджарской АССР Реваз Колидзе. Игорь побеспокоился о нем и позвонил своему старому другу по институту. — Андрей, остановишься у меня дома, — тоном, не допускающим возражения, сказал Реваз. — Ты когда-нибудь на Кавказе в гостях был? — Нет… — несколько неуверенно пробормотал Андрей, ошарашенный напором Реваза. — Тогда знай, отказываться и говорить «нет», чего-то не хотеть на Кавказе ни в коем случае в гостях нельзя! — Реваз с шутливой угрозой поднял палец вверх. — А то резать будем! — И он захохотал. Дом Колидзе был большой, двухэтажный. На первом этаже находился гараж и кухня, на втором — четыре комнаты и большая веранда, тянувшаяся вдоль передней и боковых стен дома. Андрея ждали. Жена Реваза, Цисаниа — невысокая женщина, с тонкими красивыми чертами лица и удивительно выразительными глазами, робко, так показалось Андрею, протянула ему руку и сразу же стала хлопотать вокруг стола. Зато две дочки Реваза, немного освоившись, прилипли к Андрею, словно к родственнику. — Сегодня отдыхаем, завтра работаем… — остановил Реваз Андрея, хотевшего спросить что-то у него, и поднял бокал. Утром, когда они ехали на работу, Реваз рассказывал об Алферовой. — Живут в однокомнатной квартире, получил ее муж как участник войны. Она работает в десятой горбольнице старшей сестрой, прибыла сюда вместе с эвакогоспиталем в 1944 году, да так и осталась. Муж ее — участник войны, инвалид, работает в «Союзпечати» киоскером. Замуж вышла в пятидесятом году. Вот и все, что удалось узнать. Мало, да? — Он вопросительно посмотрел на Андрея и сокрушенно покачал головой. — Больше никто ничего про них не смог сказать… Все в один голос говорят: хорошие, простые и отзывчивые… Словно сговорились! — А муж кто? — Алферов Юрий Иванович, под судом не был, под следствием не был… и так далее. «Алферов? Странно. Может быть, однофамильцы, — подумал Кудряшов, — такое бывает… Не часто, но бывает». — Небогато, — протянул Андрей, хотя, честно говоря, он не рассчитывал на что-то большее. — Ладно, спасибо, Реваз, и на этом. Ты со мной пойдешь на беседу? — Конечно, дорогой! — захохотал Реваз и шлепнул его по плечу. Нужный им дом находился в центре города напротив городского базара. Они молча поднялись на пятый этаж, и Реваз позвонил. Дверь открыла полная женщина с седой косой, уложенной короной на голове. — Здравствуйте, Агриппина Ивановна. Это вот товарищ, который хотел с вами поговорить и о котором я вам говорил… Алферова чуть кивнула и жестом пригласила войти. Квартира была небольшая. Комната метров шестнадцать, из нее выход на кухню. В комнате стояла недорогая стенка, письменный стол у окна, телевизор, два кресла и диван-кровать. Было чисто и уютно. Андрей вежливо улыбнулся, сел на диван и не спеша оглядел комнату. Реваз устроился на стуле напротив Андрея и незаметно подмигнул: дескать, начинай. На кухне неожиданно послышался кашель и, тяжело опираясь на костыли, вышел худой мужчина без ноги. Он молча поздоровался с Андреем и Ревазом. — Юрий Иванович, — глуховатым голосом представился он, опускаясь на диван рядом с Андреем. — Так что у вас за вопросы ко мне? — спросила Алферова, не глядя на Андрея. — А вы, простите, разве не догадываетесь? — Думаю, что да… Вы хотите расспросить меня об отряде Смолягина? — Верно. Нас интересуют некоторые обстоятельства гибели партизанского отряда Смолягина. Я бы вас очень просил, Агриппина Ивановна, чтобы вы рассказали о людях, с которыми вам пришлось встретиться перед боем, после него… — Что ж, спрашивайте… Простите, не запомнила имя и отчество? — Кудряшов Андрей Петрович. Андрей помолчал, выжидая паузу, которая помогла бы направить разговор в нужное русло. — Простите, Агриппина Ивановна, знакома ли вам фамилия Дорохов? — Конечно, — воскликнула она. — Это напарник моего бывшего мужа, тоже лесничий… А что с ним? Я одно время пыталась его разыскать, но… ничего не получилось. — Односельчане считают его гитлеровским пособником и подозревают, что он повинен в гибели партизанского отряда. — Кого? Василия? — Алферова привстала со стула. — Да вы в своем уме? Васька Дорохов был в партизанском отряде разведчиком… Это я точно знаю… Ох, господи, да что же это делается! — совсем по-бабьи всхлипнула она. — Дорохова подозревают! Да Тимофей Смолягин-то даже своей жене Марии не доверился, а только Василию одному… Это же кремень, а не мужик… Вы успокойтесь, Агриппина Ивановна, успокойтесь… Вы могли бы рассказать о партизанском отряде все, что вы знаете? Как можно подробнее. Алферова задумалась, подперев ладонями щеки, и сразу же неуловимо напомнила Андрею его маму, которая, задумавшись, принимала такую же позу. — В июле сорок первого Тимофей ко мне приехал и просил показать, где были зимовки моего мужа Ивана, которого перед самой войной кто-то застрелил в лесу. Собралась я, и пошли мы с ним в лес. Дорогой он мне и намекнул, что, может, в нашем районе партизаны появятся, так чтоб я не удивлялась. Договорились мы о том, что связной придет по паролю. Когда уж фашисты пришли, долго никого не было, и я стала забывать о поручении Тимофея. Один раз он сам пришел, спрашивал, не был ли кто. Говорю, нет, Тимоха, никто не был. Потом стали появляться люди у меня. Придет ночью, я его по паролю привечу, накормлю, пакет от него приму или ему передам, ну, в общем, не очень мне хлопотно было. Один раз Тимофей мне мимоходом сказал, если от Василия Дорохова какая весточка будет, так чтоб я немедленно шла на Ивановский плешак и ему в дупле оставила эту весточку. Я, понятно, удивилась. Васька-то к немцам лесничим устроился, и сказала ему это, а Тимофей на меня так посмотрел, что у меня и язык отнялся. Тут я и поняла, что к чему. Ну, потом-то Тимофей мне в открытую сказал, что Василий наш человек, но об этом ни одна живая душа вокруг не знает, даже его Мария. Так и сказал, даже Мария! Так и шло у нас… Только однажды просыпаюсь от страшного грохота, — Агриппина Ивановна болезненно поморщилась, словно через столько лет до ее ушей долетел грохот боя, — бой идет на болотах. Я быстро собралась и хотела уходить, да не успела. Фашисты нагрянули на мотоциклах с собаками, человек тридцать, и полицаи… У меня с Тимофеем уговор был: если немцы появятся, то знак ему подать. Растопила я печь вовсю, а в печь нет-нет да и подброшу соснового лапника: он такую искру дает, что над трубой за версту в сумерках видно. Немцы-то ничего, а один полицай заметил и своим сказал. Ну они на меня и набросились. Очнулась я только под утро в километре от хаты своей, как шла или ползла, не помню… А Тимоха Смолягин и все наши погибли… — Алферова тихонечко вытирала мелкие слезы, катившиеся по ее щекам. Тяжело заскрипел диван под Юрием Ивановичем, насупился Реваз, внимательно слушавший Алферову. — Домой, сами понимаете, возвращаться не могла и уползла я на одну из зимовок Ивана — там был запасной склад отряда — и там отсиделась… А уж когда фашистов поперли от нас, тогда подалась в село, где жила Иванова молочная сестра, там пожила… Потом около нас эвакогоспиталь открыли, пошла туда санитаркой работать, да так, видимо, и присохла к этой специальности. Потом кончила курсы медсестер и стала работать. Вот и все… Она страдальчески улыбнулась и смахнула со стола невидимую ниточку. — Скажите, Агриппина Ивановна, а вы поддерживали связь с женой Смолягина Марией? — Нет… Тимофей запретил ей приходить ко мне, а мне с ней встречаться. Один только раз от нее пришел солдат. Нет, она его привела. Бежал солдатик из эшелона военнопленных… Выходила она его да и переправила в отряд. В Ворожейках-то фашист на фашисте сидел… Гестапо было, полицаи… Я, помнится, еще отругала ее на чем свет стоит. Говорю, что ж ты, дуреха, курьи твои мозги! Тимофей строго-настрого приказал никого в отряд не приводить, а ты… Что за человек? Откуда? Машка-то хорохорится. Баба она с гонором. Он, говорит, наш. Я только и сказала, что дура ты, Машка, так дурой и помрешь. Спрятала я солдатика у себя, на болота не повела… А как Тимофей пришел, так ему все и выложила. Тимоха поговорил с пареньком и забрал с собой… — Не видели вы его больше? — Нет… — Так, Агриппина Ивановна, можете вы подтвердить, что Дорохов Василий был разведчиком в партизанском отряде Смолягина? — Конечно… Могу и письменно подтвердить… — Это обязательно… У меня еще один вопрос к вам… Не интересовались вы дальнейшей судьбой своих товарищей? — Как не интересовалась? — усмехнулась Алферова. — Еще как интересовалась… Как немцы ушли, я с госпиталем уехала. Там разговоры всякие были, говорили, что отряд весь погиб. Я, честно говоря, думала, что и Василий погиб. Потом госпиталь перевели, и уехала я… Как-то написала в село письмецо, хотела узнать о Василии, как он, жив остался или нет… Ответа не было. Агриппина Ивановна замолчала, задумчиво накручивая на палец бахрому скатерти. Молчал и Андрей, молчал Реваз, молчал и муж Алферовой. Негромко откашлялся Юрий Иванович, покосившись на Андрея, достал пачку «Беломора» и закурил. Дым медленно поднимался желтоватыми и синими волокнами, а вверху разгонялся небольшим сквозняком. — Простите, — Кудряшов покосился на ее мужа, который, насторожившись, перестал курить, — вот вы, Агриппина Ивановна, сказали, что жили у молочной сестры Ивана Алферова… Вы одна жили или с кем-то?.. — Да вот он рядом с вами сидит: муж мой — Юрии Иванович. Он тоже у Смолягина в отряде был… Андрей почувствовал, что у него сжимается сердце. — Так вы Сонин? Юрий Иванович молча кивнул головой. — А почему… Алферов? — Жизнь мне Груня спасла… Вот я и взял ее фамилию. — Простите, Юрий Иванович, но по архивам Министерства обороны вы умерли от ран. Сонин невесело усмехнулся. — Я и сам удивляюсь, что жив… А что касается архивов… Я ведь действительно был при смерти, а врачи, видимо, поторопились в списки внести. Время было сложное. Госпиталь то и дело переезжал с места на место, врачи постоянно менялись. Одни на фронт с эшелоном, другие на их место. Трудно было. — Юрий Иванович и Агриппина Ивановна, нам необходимо произвести опознание государственного преступника. Карателя, на руках которого кровь многих советских людей… Вы сможете это сделать? Алферовы переглянулись, и Юрий Иванович кивнул. — Реваз, срочно двух понятых. Колидзе тут же исчез из комнаты и через пять минут привел двух пожилых мужчин. Кудряшов объяснил, как проводится опознание, и разложил на столе несколько фотографий. — Агриппина Ивановна, пожалуйста, посмотрите на эти фотографии. Алферова медленно встала и, прижимая руки к груди, подошла к столу. — Вот на этой… тот солдатик, которого Мария Смолягина ко мне привела… — Как его зовут? — Дай бог памяти… Костя Лозовой, кажется. Реваз оформил протокол опознания. — Юрий Иванович, теперь прошу вас. Сонин быстро поднялся и шагнул к столику. Он несколько секунд вглядывался в фотографии и вдруг, побледнев, стал оседать на пол. Реваз и Андрей бросились к нему. — Там, — прошептал помертвевшими губами Сонин, — на первой… агент гестапо Лесник. Жив остался, сволочь… «Скорая помощь» приехала быстро.
Тимофей Смолягин сумрачно смотрел на лениво попыхивающий огонь в маленькой печурке, которая не столько грела, сколько дымила. Но и это было хорошо: комаров в землянке почти не было. — А я верю этому парню, — с силой произнес он, не поворачиваясь к комиссару отряда — Хромову, который сидел, привалившись к мокрой стене. — Два побега. В последний специально готовился… Его данные о Леснике точные. Лозовой признался, что он фашистский агент… Хромов кивнул и надсадно закашлялся, потом долго и шумно дышал, словно у него поперек горла встал какой-то комок. — Ты прав, Тимофей… Не спорю. Но проверить бы все до конца… Хотя как? Кто его может опознать? — Может. — Смолягин встал, потер поясницу. — Может… Есть у меня один человек — Дорохов. Ты о нем знаешь. Да боюсь, у нас времени нет. В этом ты, Кондрат, прав… Думаю, фашисты за нас возьмутся… Вот тебе и проверка, — он невесело усмехнулся. — Если возьмутся, то не соврал паренек, и цены его сведениям нет… Жаль только, что батареи у рации сели… Ты вот что, Кондрат, упакуй сведения в стеклянную фляжку и залей горловину смолой. Положи ее в тай-пик за обшивку… — Ладно, командир… А черт, опять кружит. В землянку донесся звук авиационного мотора. — А с этим предателем что будем делать? — С Лозовым? — Ну. — Держи под арестом. Его надо подробно допросить… Скажи охране, чтоб глаз не спускали. У меня такое впечатление, что заслали его к нам с заданием… Сверху послышались глухие разрывы, дверь землянки распахнулась, и на пороге появился Лозовой. Губы его беззвучно шевелились. Дрожащими руками он поднял «шмайсер». Тимофей, прикрывая Кондрата, сделал несколько шагов к порожку и длинно, во весь рост повалился, роняя печурку, ящик, на котором стояла рация и какие-то банки. Барабанила очередь, и пустые гильзы, глухо звеня, посыпались на земляной порожек. Лозовой стал пятиться к выходу. Наверху он остановился и, повернувшись, дико закричал. К нему в грязных окровавленных бинтах, сжимая в руке карабин, подходил Сонин. Лозовой скатился к воде. Срывая с себя фуфайку, он бежал к качающимся вдалеке камышам, не слыша разрывов мин и не видя, как плюхают и подымают невысокие фонтанчики воды пули. Он знал, что на берегу его ждут… — Не уйдешь… — Сонин выстрелил. Лозовой дернулся и, прижимая руки к голове, стал медленно оседать в воду, поворачиваясь, словно желая посмотреть в лицо стрелявшего. Сонин, покачиваясь, вошел в землянку. — Командир, командир… Глаза Смолягина раскрылись. — Уходи, парень… слышишь, уходи… Я приказываю. Передашь все нашим… Должен дойти… — Голова его откинулась. Сонин подобрал с земли автомат. Еще раз оглядел покрытый дымом островок и тяжело направился к воде. — Нашла меня Груня. Мы долго отсиживались в избушке ее мужа, потом, когда пришли передовые части, Груня устроила меня в госпиталь. Ранения были тяжелые, хуже всего, что началась гангрена. Я попросил, чтобы ко мне привели контрразведчиков… Прямо в госпитале я продиктовал все… Все, что помнил, что долгими ночами заучивал наизусть… — Мы нашли, Юрий Иванович, ваши показания… Смущает только одно — почему там не оказалось сведений о Лозовом? — Думал, убит… Неужели я промахнулся? Век себе не прощу! — Не казните себя… Мы не промахнемся! — Я должен рассказать все.
Если накрыться с головой тряпьем и долго дышать тяжелым воздухом, то покажется, что вроде стало теплее. Ватная истома растекается по измученному телу, кажется, что падаешь в какое-то приятное забытье, и хочется спать, но мозг не дает заснуть, он кричит, он не хочет отдыхать, как того требует онемевшее от усталости тело. А спать нельзя, побег должен быть ночью — так решили все. Их было трое, все трое попали в плен под Москвой, все были из одного полка. Двое были рядовыми, а третий — лейтенант, командир взвода. Все трое попали в плен ранеными: лейтенант контуженный, те двое — один в ногу, другой в голову. Ночью, не сговариваясь, они легли вместе. Лейтенант шептал так тихо, что сам не слышал своего голоса, а они слышали — они хотели его слышать. — За сараем в проволоке дыра… Там сегодня парня какого-то застрелили… Он, когда падал, порвал ряд проволоки… Можно проползти. Ползли так, чтобы перед лицом постоянно были ноги переднего. Лейтенант полез первым. Он долго нащупывал обрыв, потом приготовленным клоком шинели осторожно взял нижний ряд колючки и стал аккуратно навертывать на верхний… Получилось. Он буквально вжимал свое тело в грязь, осторожно проползая под проволокой. Потом он ждал, когда выползут товарищи… Они лежали рядом, не веря в удачу и боясь шевельнуться. Потом отползли дальше, встали и, шатаясь на негнущихся ногах, приседая на каждом шагу, побежали… Бежали долго, а, может, и недолго, бежали, пока не запыхались и без сил повалились на затвердевшую от первых заморозков землю. Сколько лежали, не помнили. Вскочили, услыхав над собой голос: — Устали, голубчики вы мои ненаглядные, притомились… Безумными глазами смотрели они на окружающих их немецких солдат и человека, мягко им улыбающегося. Человек с тонкой, прямо-таки осиной талией и узким лицом не спеша подошел к ним и так же не спеша достал «парабеллум». Он медленно прицелился и выстрелил, продолжая улыбаться. Потом еще раз. Подошел к лейтенанту и негромко произнес: — Вставай, голубок, считай, что сегодня тебе крепко повезло! В лагере лейтенанта не били, его провели по плацу и отвели в баню, вымыли. Когда он вышел в предбанник, на стуле лежала немецкая солдатская одежда без знаков различия. Приказали надеть — надел… Кивнули на дверь — толкнул и вышел… И отпрянул: огромной буквой П вокруг крыльца, на котором он стоял, был выстроен весь лагерь. Рядом с ним стоял тот же улыбающийся человек. Он ласково положил ему руку на плечо и громко выкрикнул: — Военнопленные, сегодня два ваших товарища пытались бежать. Наш друг, бывший лейтенант Красной Армии, помог нам и предупредил побег. Эти люди, нарушившие установленный порядок, расстреляны, а наш друг будет вознагражден. — Он протянул лейтенанту, онемевшему от этих слов, пачку сигарет. Лейтенант почти физически почувствовал ненависть пленных, как плевок в лицо предателю. Он пошатнулся, схватившись за перила, хотел что-то крикнуть, но почувствовал страшную боль в позвоночнике и остолбенел, не имея возможности перевести дыхание. Один из фашистских солдат взял его за плечи и буквально внес в дом. В большой светлой комнате за письменным столом сидел тонкий, словно хлыст, мужчина и насмешливо рассматривал тяжело дышавшего лейтенанта. — Познакомимся, лейтенант… — Хлыст полистал тонкую папку бумаг на столе. — Сонин Юрий Иванович, одна тысяча девятьсот восемнадцатого года рождения, выпускник Московского архитектурного института… Окончил ускоренные курсы пехотных командиров, командир взвода, комсомолец… Знаете ли, Юрий Иванович, — голос Хлыста стал задумчивым, — по приказу немецкого командования все коммунисты и комсомольцы расстреливаются сразу на месте… — Стреляй, гад! — хрипло выкрикнул лейтенант. — Стреляй! — Ох, Юрий Иванович, — поморщился Хлыст, — к чему такая истерика? Вы еще рваните рубашку на груди, как пьяный матрос! Вы же интеллигентный человек. Тем более, что вы теперь сотрудник победоносной немецкой армии… — Что? — А то, — Хлыст насмешливо посмотрел на лейтенанта, — что те пять тысяч человек на улице уверены, что вы предатель… Кроме этого, мы сделаем еще вот такую вещь. Будем вас водить по баракам и каждого, кто на вас посмотрит или вы на кого, будем расстреливать… Через пару дней весь лагерь будет знать, что вы агент немецкой тайной полиции… А через своих людей среди заключенных мы эту легенду подтвердим… Что, не ясно? Все ясно… Отлично! Он посмотрел на задыхающегося от бессильной ярости лейтенанта. — Отсюда вы уедете в школу, где вас научат работать на рации, вести разведку и совершать диверсии… и многому полезному… Так что, дорогой вы наш Юрий Иванович, придется вам еще один семестр окончить… и выполнить задание в тылу Красной Армии. Через пару дней на руки Сонину надели наручники, посадили в машину и долго везли. Сколько прошло времени, он не знал, но по тому, как хотелось есть, понял, что прошло не менее пяти часов. Наконец машина остановилась. Дверцы распахнулись, и Сонин выпрыгнул на землю. С него сняли наручники и повели в двухэтажный каменный дом. В комнате за письменным столом сидел гестаповец в форме и что-то писал. Он мельком взглянул на него и продолжал писать. Так прошло минут сорок. Неожиданно гестаповец отложил ручку в сторону и посмотрел на него: — Встать! — негромко приказал он. Сонин продолжал сидеть. Гестаповец вышел из-за стола, подошел к Сонину и, взяв его за плечи, поднял, немного постоял, рассматривая хмурое лицо Сонина, и неожиданно, резко развернувшись, со страшной силой ударил его каблуком под сердце. Сонин, даже не охнув, мешком осел на пол. Лицо его почернело, из угла рта показалась струйка крови. — Герой… — презрительно проговорил фашист и позвонил по телефону. — Что это ты мне за дерьмо прислал? — спросил он и поморщился. — Ладно, зайди… Дверь открылась и в комнату вошел Хлыст. — Этот ничего еще… молокосос. Больше ничего из материала не было… А этот пойдет… Все переживал, что его предателем считают… На этом его и надо обрабатывать. Для школы, как агент, он находка… Рисует… Знает военное дело. Мы его поучим, потом куда-нибудь пристроим… Он от нас никуда не денется… А то, что он нас ненавидит, это не от убеждений, боится он. Я его понял… Он при допросе мигал у меня часто — боится, что бить будут. Боли боится и оскорбления боится. Этот на нас поработает… Трус — тот же зверь! От страха будет зубами грызть кого угодно… Лейтенанта поселили в комнате вместе с парнем среднего роста, курчавым и улыбчивым. Казалось, что ничто в жизни не может вывести его из прекрасного настроения. Когда лейтенант вошел, парень спал, но ему показалось, что из-под опущенных ресниц на него уставился тяжелый изучающий взгляд. Сонин положил немудреные пожитки на свою кровать, осмотрелся. Узкая, длинная комната с небольшим окном в торцевой части, две кровати напротив друг друга. Между ними тумбочка, табуретка. В углу рукомойник с тазом, рядом на гвозде полотенце. Запора в комнате нет, в двери на скорую руку сделан глазок. — Здорово! — Послышался резкий голос. — Здорово! — Сонин обернулся на голос. — Спишь? — А что прикажешь делать? — парень выпрямился. — Баб нет, водку по праздникам дают, самогонку не купишь… Как твоя кликуха? — Что? — не понял лейтенант. — Кличка, милый! — парень усмехнулся. — Отныне забудь свое имя навсегда. А то греха не оберешься! Да и тебе проще будет. Мы люди конченые. Если нас чека поймает, то со времени поимки до момента погребения пройдет ровно десять минут — как раз столько необходимо, чтобы ямку вырыть… Сонина передернуло, и это не укрылось от цепких глаз собеседника. — Милок, контрразведкаСМЕРШ с нашим братом не церемонится… — Парень негромко засмеялся. — Эк, тебя коробит… Ничего, поживешь здесь и обретешь… душевное спокойствие… Ну, давай, располагайся, а я на занятия. Через пятнадцать минут будет построение в коридоре, так ты выходи, а то по шее схлопочешь от господина унтершарфюрера. Сонин остался один и устало опустился на кровать, уронил голову на руки и застыл. События минувшей недели потрясли его, и ему необходимо было собраться, сосредоточиться, чтобы взвесить все, обдумать… За неделю из военнопленного его пытались сделать предателем и агентом гестапо! Тысячи людей видели его на крыльце вместе с гестаповцем, который «благодарил» за предательство двух товарищей. Теперь он в разведшколе гестапо… Перед ним, как в старом забытом сне, промелькнули знакомые лица ребят и девушек, студентов архитектурного института… Практика в Ростове Великом… Архитектура Древней Руси… Как давно, как невероятно давно это было. И он был счастлив… Ему казалось, что то радостное, приподнятое настроение не покинет его никогда… Дверь комнаты резко распахнулась, на пороге стоял немецкий офицер. — Встать! Следуйте за мной… Они прошли по длинному коридору, несколько раз поворачивая, и наконец остановились около кабинета. — Входите… Сонин вошел и остановился около порога. — Ближе. Сонин сделал еще несколько шагов и остановился напротив огромного письменного стола с сидящим за ним гестаповцем. Тот внимательно и с неприкрытым презрением рассматривал его. — Отныне ваша кличка будет Лось… За малейшее неповиновение — расстрел… — Немец говорил по-русски отлично, без малейшего акцента, чуть грассируя… — Из вас будут готовить разведчика и диверсанта для работы в тылу Красной Армии. И вы должны быть готовы выполнить любое задание, без нареканий и размышлений… Сейчас от вас требуется одно — беспрекословное выполнение всех приказов командования и прилежание… Все! Можете идти… Потянулись дни занятий. Радиодело, топография, стрельба, вождение автомобиля, установка мин… Времени на размышление не оставалось, а когда появлялась свободная минута, то всех курсантов собирали в большой комнате, и один из преподавателей читал выдержки из фашистских газетенок, которые издавались на оккупированной территории. «Боже, — с трудом сдерживая себя, думал Сонин, — и это были когда-то русские люди! Сами-то они хоть верят в это дерьмо?.. Предатели, ничтожные и подлые… Бежать, любой ценой бежать… Пусть лучше убьют, чем есть один хлеб с этой бандой!» Но просто бежать лейтенант не мог и не хотел. Он был солдат, а солдат всегда и везде на посту. Сонин тонко и четко рассчитал этот шаг. Как архитектор, он отлично рисовал, в институте преподаватели хвалили его способность в рисунке точно передавать индивидуальные особенности человека. Лейтенант на досуге стал делать наброски портретов курсантов, преподавателей и щедро одаривал ими всех. Несколько раз он замечал, как за его спиной останавливался один из преподавателей: высокий, лысый, в поношенной форме. Стоял долго, изредка хмыкал, дыша в его затылок устоявшимся перегаром самогона и чеснока. Звали его Непомнящий. Числился он преподавателем топографии, хотя занимался в разведшколе тем же, чем и до войны на воровских малинах. Не спеша и довольно квалифицированно подделывал советские документы: паспорта, военные билеты, удостоверения, справки. Одно плохо — почерк у него был, как говорится, курица лапой лучше пишет. Гестаповцы ругали его, но поделать ничего не могли: лучше писать не мог никто. Парня, с которым лейтенант жил, звали Лесником. Где и как он попал в плен и как его настоящее имя, Сонин так никогда и не узнал, да он и не спрашивал… хотя очень интересовался. Как-то Сонин заметил, что Лесник что-то прячет в укромном местечке в углу комнаты под половицей. Он сделал вид, что не обратил внимания на отпрянувшего в сторону Лесника. Через несколько дней, когда убедился, что Лесник его не подозревает, он поднял половицу и увидел там завёрнутый в тряпку пистолет. Первым желанием Сонина было схватить пистолет и сунуть в карман, он даже руку протянул, по вовремя опомнился. Время его кое-чему научило… Он аккуратно опустил половицу, отошел в сторонку и, присев, посмотрел, нет ли следов в бликах солнечных лучей на крашеном полу. Вроде нет… На всякий случай взял мокрую тряпку и добросовестно вымыл пол. Лесник пришел через час из бани. Он молча прошел к кровати и плюхнулся на нее. С его красного, распаренного лица градом катился пот. Он вытирал его полотенцем, болтавшимся на шее. Лесник, прикрыв глаза, внимательно осмотрел комнату, особенно долго рассматривал заветную половицу. — Ты что, пол мыл, что ли? — Да так… от скуки… — равнодушно произнес Сонин, зевая и разминая папироску. — Живем, как свиньи, кругом грязь… Хоть бы в лес пустили — грибков пособирать… — Как же, пустят… — пробормотал собеседник. — Слышал, намедни ночью пальба была? — Ну! — Ну, вот и ну… Пятерых солдат на тот свет и полтора десятка раненых… Вот тебе и ну! — Кто же их? — равнодушно бросил Сонин, садясь на кровати. — Партизаны… — Лесник встал, разделся и, залезая под одеяло, буркнул: — Перебьют они нас, сволочей… И правильно сделают! В эту ночь Сонин не спал. Беспорядочные мысли роились у него в голове, рождались варианты побега из школы и тут же отвергались. Одно он точно понимал: один он из школы не вырвется. Длинно тянулась ночь, и нудно серо начинался день. Как обычно, сначала пробежка, потом два часа физподготовки, потом радиодело… Когда началось радиодело, в класс заглянул Непомнящий и что-то тихо сказал преподавателю. Тот посмотрел на Сонина и кивнул на дверь. — Срочная работа подвалила. — Непомнящий подмигнул Сонину. — Мне одному до завтра ковыряться, а вдвоем мы за два часа управимся… Надо готовить документы — скоро две группы забрасываются. Сонин кивнул и молча пошел за Непомнящим. В маленькой глухой комнате тот достал из сейфа груду красноармейских книжек, удостоверений, предписаний со старательно вытравленными фамилиями и именами. На всех были приклеены фотографии курсантов в форме бойцов и командиров Красной Армии. — А вот тебе их «настоящие» фамилии, — угрюмо хмыкнул Непомнящий; потирая виски. — Черт, башка болит… Ты это, шуруй, а я пойду полежу. Так было не раз и не два… Сонин знал, что раньше чем к вечеру тот не появится. А появится в стельку пьяный. Редкая удача пришла ему в руки. И лейтенант работал. Он быстро вписывал фамилии в документы. Потом раскладывал их и запоминал: «Лоб крутой, нос короткий, на кончике слегка раздвоенный, лицо круглое, губы узкие, волосы темные… Звание лейтенант. Кирпичников Митрофан Васильевич, кличка Верный… Лоб узкий, покатый, нос прямой, лицо узкое, подбородок острый, уши прижаты к черепу… Рядовой Борисов Игорь Кириллович, кличка Подросток…» Это было трудно. Глаза слезились, от напряжения голова отказывалась работать, мысли путались. А он снова и снова твердил приметы, фамилии, клички. Когда Непомнящий ввалился в комнатенку, документы были готовы. Он внимательно их просмотрел и одобрительно хлопнул Сонина по плечу. Достал из кармана бутылку самогона и несколько бутербродов с колбасой, громыхнул об стол стаканом. Сонин пить не стал. — Лесник спросит, откуда, — пояснил он. — Как хочешь… Ты это… Про то, что делал, помалкивай… Сонин кивнул. — Ладно, топай. Непомнящий закрыл за ним дверь и тяжело опустился на кровать. Включил приемник и какое-то время прислушивался к визгливому голосу, крутнул ручку настройки. В комнату ворвался голос диктора Совинформбюро. Непомнящий слушал долго, потом громыхнул кулаком по столу и выругался. Налил стакан самогона и залпом выпил, взял с хлеба колбасу и долго с отвращением жевал. «Может, я не ошибся… — думал он. — Может, дойдет лейтенантик…» В дверь постучали. — Кто? — Открой, это я… Непомнящий рывком распахнул дверь. На пороге стояли Хлыст и высокий, парень с сутулыми плечами. Поношенная красноармейская форма висела на нем мешком. — Есть приказ, — не здороваясь, начал Хлыст, — переснять личные дела курсантов и преподавателей. Это фотограф, работать будет у тебя в помещении. Поможешь ему… Непомнящий кивнул и, повернувшись, подошел к столу. Молча сгреб в сторону готовые документы. — Можешь располагаться… Фотограф работал быстро. Через час проявленная пленка висела на шнурке, предусмотрительно протянутом от стены к стене. Непомнящий молча наблюдал за ним, лежа в кровати. Фотограф просмотрел пленку, удовлетворенно хмыкнул. Снова зарядил аппарат и так же методично отщелкал и ее. — Ты зачем дублируешь? — безразлично спросил с кровати Непомнящий. — На всякий случай… Вдруг не получится первая… — А… Ну давай, вкалывай. А я спать буду… Через полчаса он храпел, а фотограф, проявив дубликат, стал неторопливо укладываться. Утром, когда Непомнящий собирался на построение, он вдруг заметил на столе два рулончика. Быстро развернул один. Улыбнулся, потом аккуратно завернул оба рулончика в огрызок газеты и сунул в карман. После построения он зашел к Хлысту. — Вот. — Он положил на стол небольшой пакет. — Возьми… И на туфту меня не ловите… Кишка слаба. Хлыст развернул газету, просмотрел пленку и кивком отпустил Непомнящего. Потом нажал кнопку звонка. — Фотографа… — Уничтожить дубликат! — Он окинул взглядом сутулую фигуру, вытянувшуюся перед ним. — Напиши докладную на мое имя… Шерлок Холмс хреновый! Нашел кого подозревать!
И все-таки Сонин нашел себе товарищей для побега, хоть было это просто невозможно. Два курсанта — Бирюк и Старик — явно были себе на уме. Сонин обратил на них внимание на занятиях по топографии. Случайно им попалась карта области. Курсанты добросовестно изучали ее, но по тому, как они изредка переглядывались, подмигивали, Сонин понял: то, что надо. — Меня зовут Юрий, — негромко сказал он, когда они присели перекурить на поваленный ствол осины, — фамилия Сонин… Лейтенант… Где располагаемся, знаю… Вывести смогу… Идете? Только безрассудная смелость и решимость молодости могли толкнуть его на такой шаг. Ошибка стоила бы ему жизни. Но Сонин решился потому, что мало-помалу к нему вернулось то, что необходимо бойцу: уверенность в своих силах. Оба его собеседника переглянулись и только спросили: — Когда? Сегодня… Попробую достать оружие… После ужина, когда все разошлись по комнатам, он решительно подошел к лежащему Леснику и сказал: — Я знаю, что ты прячешь оружие. — Я? — Да, ты… — Сонин удержал его на постели. — Я собираюсь отсюда уходить… Или ты пойдешь со мной, или я тебя… — Идиот, — Лесник, отстранив Сонина, подошел к знакомой половице. — Я сам хотел тебе предложить… Если не доверяешь… — Он мгновение в упор смотрел на Сонина, словно прикидывая, что сказать: — На, возьми. Где встречаемся? — Будем выходить старой канавой. Она около лаборатории начинается — я все осмотрел… — Понял, выходи первым, а я через полчаса.
Сонин открыл глаза — над ним склонилось бородатое лицо. — Вы очнулись? Кто вы? Откуда? Лицо спрашивающего человека было спокойно и приятно. Крутые брови с изломом, черты лица детские, взгляд синих глаз твердый и вопросительный. События минувшего дня промелькнули перед глазами Сонина. Сначала то, как они выходили… Лесника почему-то не было. Они ждали его минут десять, потом Сонин, чувствуя какую-то непонятную тревогу, достал пистолет и внимательно его осмотрел — бойка не было: спилен. — Ребята, — тихо прошептал он, — нас предали, надо немедленно уходить… У них хватило ума не пойти старой канавой, но и уйти не удалось. Через полчаса пущенные по следу собаки вывели гестаповцев прямо на обессиленных беглецов. Потом их били… Потом Хлыст, помахивая пистолетом, вывел их за ограду. По бокам шли автоматчики. Сонин смутно помнил разбитую, медленно идущую навстречу заплетавшимся ногам лесную дорогу… Потом он помнил огромное отверстие дула автомата и брызжущий блеклый огонек из него… Потом кусты, наваленные на тело и больно колющие лицо… Смутно помнилось, как он перевалился через борт откуда-то взявшейся телеги и, шатаясь на дрожащих ногах, побрел прочь, стараясь ступать по краю канавы, чтобы ноги были в воде… «Собаки не возьмут, — билось у него в голове, — собаки не возьмут… Уйду!» — Кто вы, откуда, как вас зовут? — ровно и, как показалось Сонину, по-доброму спрашивал бородач. — Я из гестаповской школы… бежал, — прошептал Сонин и, чувствуя, что может потерять сознание, лихорадочно зачастил: — Пусть записывают… скорее… я продиктую. И почти в беспамятстве, жутким усилием воли заставляя открываться глаза и рот, он начал: «Лоб крутой, нос короткий, на кончике слегка раздвоенный, лицо круглое, губы узкие, волосы темные, звание лейтенант, Кирпичников Митрофан Васильевич, кличка Верный… Лоб узкий, покатый, нос прямой…» Слова вылетали хрипло, надсадно, но отчетливо и медленно, словно память отдавала их нехотя, оставляя их за собой надолго, на всю жизнь.
— Андрей, — Реваз шлепнул на стол лист бумаги. — Росляков сообщает, что учитель выехал поездом Москва — Батуми. Билет взял до Махинджаури… Где будем брать? — А что ваше руководство советует? — Шеф сказал, что лучше не придумаешь — там и возьмем. Лозового Андрей увидел сразу, как только тот вышел из вагона. Кудряшов сидел за рулем красных «Жигулей» и делал вид, что внимательно читает газету. Машина стояла посреди площади, напротив Дома быта и подозрений вызвать не могла: день был в разгаре, и машин вокруг стояло много. Андрей подал знак, и тут же к Лозовому подошел Реваз, одетый в потертые джинсы и такую же куртку. На голове фирменная кепка. — Здравствуй, отец, куда ехать, дорогой? Лозовой быстро и цепко оглядел пария. — Что ты смотришь на меня, как будто это я приехал отдыхать, а ты меня везти хочешь? — засмеялся Реваз. — Какой санаторий, отец? — Да я, собственно… — Комнату надо? Молодец. Настоящий джигит отдыхает один и диким образом! Где комнату надо? Кобулети, Махинджаури, Батуми? Да ты не смотри на меня так, видишь, мой автобус стоит, — Реваз показал на небольшой автобус, стоящий около платформы, — видишь, написано «Курортторг». Курортом торгую, — засмеялся Реваз. — Так куда, отец? — Мне бы в Батуми лучше… — Вах, отец, считай, попал прямо в цель: комната на одного, с видом на море, веранда… Два рубля за ночь? Пойдет? Лозовому, видимо, понравился лихой кавказец, и он, улыбнувшись, сказал: — Пойдет. — Молодец, отец, садись в автобус…. Рубль с тебя. — Почему так дорого? Я могу и троллейбусом… — Кавказскую поговорку знаешь — в хорошей компании плохая дорога пухом покажется. Видишь, там четыре человека сидят, только тебя одного до пятерки не хватает, а ты меня расстраиваешь. Прямо на место доставлю, даже магарыч не возьму… Поехали, дорогой! Лозовой медленно вошел в автобус и сел на среднее сиденье. Кудряшов знал, что будет дальше. Он вздохнул, и «Жигули» медленно тронулись за небольшим автобусом с надписью «Курортторг».
— Ваше имя, отчество, фамилия? Вмиг постаревший Лозовой молча поднял серое лицо на Андрея. — Я повторяю, гражданин арестованный… Имя, отчество, фамилия? — Лозовой. — Я спрашиваю вашу настоящую фамилию…
Хотя Дормидонт Васильевич знал о предстоящей высылке и конфискации имущества, приход сельсоветовцев его обескуражил. Обычно степенный и рассудительный, с зычным голосом, с чуть презрительным взглядом и уверенными движениями хозяина в своем доме, сейчас он смешался на минуту и даже растерянно оглянулся на дом, словно ждал чьего-то совета. Председатель сельсовета, его бывший батрак Степан Холостов, невысокий небритый мужичок в порыжевшей солдатской шинели нараспашку, с умным и твердым взглядом, по-хозяйски постучал кнутом по коновязи и, не глядя на Дормидонта, произнес: — Собирайся, Дормидонт Васильевич, лошадь ждет… Дормидонт от этих слов моментально пришел в себя, прикрикнул на пустившую было слезу жену и стал молча выносить давным-давно приготовленные узлы, с достоинством опуская их в телегу. Потом посмотрел на старый свой дом, медленно с чувством тревожного недоумения окинул взглядом пустые амбары и сараи, словно никак не мог смириться с мыслью, что больше никогда ни он, ни жена не увидят эти сероватые, теплые на вид стены. Они сели с женой в телегу, возница небрежно оглянулся и, сплюнув сквозь зубы, поддернул вожжами. Тронулись. — Счастливо оставаться, люди добрые… — с хрипом выдавил из себя Дормидонт Васильевич, с трудом сдерживая лютую ненависть, вдруг пробившуюся сквозь невозмутимость последних недель. — Век не забуду вашей доброты! — Катись, катись… — Холостов с усмешкой посмотрел в бледное лицо Дормидонта. — Мы тоже век тебя не забудем. Да и детям расскажем! Дормидонт устало привалился к большому узлу с самоваром и надолго затих, рассуждая сам с собой о своей жизни. Прошел час. Дорога тянулась по лесу, и вид зелени его немного успокоил. Он подставлял лицо легкому ветерку, а сам думал о Митьке, единственном сыне, который был теперь неизвестно где… Года три назад Дормидонт, дождавшись Митьку под утро с гулянки, привел в овин и, крепко прикрыв ворота, сурово на него посмотрел. — Хорош, нечего сказать. Весь искобелился, смотреть тошно. Одни девки на уме… — Дык, папаня, — пьяно икнул Митька. — Папаня… О деле когда думать начнешь? Мне, штоль, жить-то надо… Я свое пожил, все на веку повидал… Что делать думаешь? Раскулачат нас скоро… — Дык, папаня… Перестреляю паскуд! — Митька поднял кулаки на уровень перекошенного от злобы лица. — Передушу гнид коммуновских! — Передушу, перестреляю… — отец с издевкой посмотрел на него. — Щенок ты, — вздохнул Дормидонт. — Ладно, слушай меня и запоминай. Завтра возьмешь Урагана и ускачешь в район. Там продашь его на базаре… — Он резко взмахнул рукой, предупреждая вопросы сына. — Не перебивай, времени нет. Продашь и пешком пойдешь в область. Пешком, чтоб надлежащий вид принять. Документы тебе даст Смородинов Гаврила Петрович, который чайную на базаре держит, с ним договоренность есть… В городе придешь на стройку и попросишься ради Христа на работу, землю копать или бревна таскать — берись за все! Выжить надо! Выжить во что бы то ни стало… Если увидишь кого из деревни на стройке, тут же беги. Меняй места и фамилии, пока не удостоверишься, что чисто за тобой. Выжидай, сынок, выжидай… Меня — может, и не свидимся боле — не вспоминай… — Папаня… — бросился к нему враз протрезвевший Митька, сжимая крупное тело старика в объятиях. — Папаня! — Сынок… — Дормидонт прижался сухими губами ко лбу своего единственного чада. — Помни, сынок, враги они нам, смертельные враги! Вреди, как сумеешь, жги, топи, но остерегайся и жди, помни — наступит и наш час, когда мы, Зажмилины, заплатим коммунии сполна… А вот тогда умойся их кровью, сынок… Митька, переменивший несколько имен, осел в Подмосковье. Поступил на рабфак, а перед войной окончил пехотную школу. Войну встретил с затаенной радостью. Вспоминал отца, и решение пришло быстро и несложно: в первом же бою перебежал он на сторону фашистов и стал снова Дмитрием Зажмилиным, но ненадолго. Сначала был концлагерь со сравнительно мягким режимом — на военнопленных не обращали внимания, но и не кормили. Зажмилин старался выслужить себе иное обращение. В бараке, где он жил, стали исчезать военнопленные: ночью поговорят, а наутро — расстрел. Потом его пригласили в комнату коменданта лагеря. Вместо привычного худого с нездоровым румянцем на лице коменданта там ждал его молодой гестаповец в чипе штурмбанфюрера. Он кивнул и показал рукой на кресло, стоящее около степы. — Господин Зажмилин, вы нам подходите, — неожиданно произнес гестаповец на чистом русском языке. — Вам присваивается чин унтершарфюрера, и с этого часа вы становитесь нашим человеком. «Я всю жизнь был вашим человеком, — мелькнуло в голове Зажмилина, и он изогнулся в поклоне, — пришло наше с папаней времечко…» Но спокойной жизни у него не получалось. Дважды пришлось ходить ему в тыл Красной Армии, и дважды он чудом вернулся живым. Первый раз помогло умение стрелять навскидку, второй — бомбежка станции, на которой его задержал патруль. После возвращения он получил бронзовую медаль и перевод в разведывательно-диверсионную школу, в которой стал специальным агентом службы безопасности.
— Дедушка, а что, мне теперь дядю Андрея надо отцом называть? — Андрюшка крутился вокруг Петра Никитовича, который был взволнован и отвечал на вопросы невпопад. — А это уж как ты хочешь, пострел… — Петр Никитович ласково потрепал Андрюшку по голове. — Тебе виднее, ты у нас взрослый… — Дядя Андрей хорошим отцом будет, — как всегда неожиданно изрек Андрюшка. — Полезных вещей у него много… На охоту вместе ездить будем. Ты с нами, дедушка, поедешь? — Я — старенький… Вы уж сами… Только осторожно там… — Я за ним присмотрю… — серьезно и снисходительно заявил Андрюшка, — Я сильнее всех в группе и почти плавать научился. Нас в садике в бассейн водили… Дедушка, я есть хочу… Долго они там расписывать будут? — Не расписывать, а расписываться… Скоро придут, а ты, если есть хочешь, то возьми со стола бутерброд и компот попей из кастрюли на кухне. Андрюшка подбежал к празднично накрытому столу и задумчиво на него посмотрел. — Ну что, взял бутерброд? — Эх, дедушка… — Андрюшка покачал головой, — я потерплю… Если я буду сейчас бутерброд брать, я же точно что-нибудь разобью… А мама с… папой ругаться будут. — Милый… — улыбнулся Петр Никитович, в такой день разбить значит к счастью… Ты бери, что хочешь, не стесняйся… В прихожей раздался звонок. — Вот они расписанные! — закричал Андрюшка, бросаясь к двери. Он распахнул дверь и замер. — Дедушка, тут дяди пришли… — Приглашай в квартиру, — сказал Петр Никитович, вставая с кресла и беря в руки палку. — Здравствуйте, Петр Никитович, — Росляков в смущении посмотрел на Петрова, — мы с работы Андрея… Я начальник отдела, в котором он работает, а это наш секретарь парткома Петров Геннадий Михайлович… — Что-нибудь случилось? — Да нет… Вы не волнуйтесь… Просто пришли познакомиться. Но, кажется, не вовремя… Вы гостей ждете? — Что вы… — Петр Никитович неуверенно показал рукой на комнату. — Проходите… располагайтесь… Андрюша, проводи гостей. Сейчас и наши молодые приедут… — Как молодые? — не понял Петров, обводя взглядом стол и комнату. — Вы хотите сказать, Петр Никитович, что мы попали на свадьбу? — Именно… — засмеялся Петр Никитович. — Именно… — Это моя мама замуж выходит… за папу, — уточнял Андрюшка, в упор разглядывая смутившихся гостей. Росляков и Петров молча опустились в кресла и ошарашенно поглядывали, не зная, как начать разговор. — Вы, Петр Никитович, давно на пенсии? — наконец спросил Росляков. — Я думал, что вы еще работаете… — Давно… — односложно ответил Кудряшов. — Как… ослеп, так и ушел… Я раньше в педагогическом техникуме работал. — Простите, где? — Росляков внимательно посмотрел на собеседника. — В педагогическом. — Простите, — заволновался Росляков, — вы не были участником подполья нашего города? — Ну это громко сказано — подполья… Я выполнял задание партизанского отряда в городе, но это был эпизод… В основном я партизанил, а когда область освободили, то пошел воевать с регулярными частями. А почему вы спросили? — Понимаете, Петр Никитович, — Росляков взволнованно закурил, — ветераны подполья устраивали встречу в этом году, а вас не было… Комитет ветеранов послал вам приглашение в техникум, а вам, видно, не передали… — Не передали… — согласился Кудряшов. — А жаль… Так мне хотелось с одним человеком встретиться… — С кем? — поинтересовался Петров. — Да я, честно говоря, даже имени его не знаю, — с досадой бросил Петр Никитович. — Встреча была недолгой… А в те времена все под псевдонимами были. Знаю, что звали его Пятый и все… — Как? — в один голос переспросил Росляков и Петров, переглядываясь… — Пятый… — Это… я, Петр Никитович, — хрипло вымолвил Росляков, поднимаясь с кресла. — Я вас… Тебя, Петр, только сейчас узнал… Жив остался? Кудряшов взволнованно поднялся навстречу Владимиру Ивановичу, зацепил рукавом стоящую на столе вазу с цветами и… раздался грохот. — На счастье! — завопил Андрюшка, бросаясь к деду. Росляков и Петр Никитович стояли обнявшись и только похлопывали друг друга по плечам. Ошеломленный Петров сидел в кресле и улыбался. Андрюшка бегал вокруг стола и радостно кричал: — Дедушка на счастье вазу грохнул! Ура!
— Слышь, Пятый, а ты кем до войны был? — Петр Кудряшов покосился на кровать около окна, на которой, не снимая фрака, лежала высокая неподвижная фигура. Петр Кудряшов, партизан из отряда «Победа», невысокий плотный парень, с круглым, розовощеким лицом и белесыми бровями, пятый день, как он сам выражался, «давил клопа» в комнате официанта офицерской гостиницы «Шварцбург» Хельмута Трокса. Комната была небольшая, находилась она в полуподвале, и от этого в ней было холодно и промозгло. Единственная батарея под окном была вечно холодная. И неудивительно — она не была подсоединена к центральному отоплению, а просто вмазана в стену под полукруглым окном, что выходило на улицу. Батарея маскировала лаз, по которому можно было проникнуть в подвал соседнего дома, теперь разбомбленного. Петру осточертела и комната, и ее чисто немецкий порядок, и чистота, ее хозяин — круглолицый, среднего роста немец, которому он не то чтобы не доверял, но… присматривал за ним. Петр даже не мог его называть по имени — так ему было ненавистно все немецкое — и поэтому называл его дипломатично — Пятый, как представил немца командир партизанского отряда перед их выходом в город. Кудряшов помнил этот день, как будто это было вчера. В землянке командира, куда он прибежал по вызову, кроме командира, находился круглолицый парень одного с ним возраста в накинутом на плечи черном пальто. Светлая рубашка, галстук, жилетка ну никак не вязались с фуфайкой командира, и Петр с неприязнью посмотрел на гладковыбритые щеки гостя. — Так вот, Петр, — с хрипотцой сказал командир, — с сегодняшнего дня поступаешь в полное распоряжение товарища Пятого… — Он помолчал. — Товарищ Трокс — немец, член подпольного обкома партии. Петр ошарашенно глотнул воздух. Только этого не хватало, чтобы он, партизанский разведчик, у которого на счету несколько подорванных эшелонов, подчинялся немцу… Пусть «нашему», но все-таки немцу. — Так вот… — как ни в чем не бывало продолжал командир, словно не замечая выразительного взгляда бойца, — с этого дня товарищ Трокс для тебя единственный командир. Понял? Так-то… Выступаете через четверть часа. До молокозавода вас проводит твой взвод, дальше пойдете одни… Я правильно сказал, товарищ Пятый? — неожиданно обратился к парню командир и, увидев утвердительный кивок, продолжил: — Возьмешь тол, взрыватели, в общем, все то, что скажет товарищ Пятый. Высокий парень встал, пожал руку хозяину землянки, и не говоря ни слова, вышел. Петр задержался на пороге, и, подождав, пока за гостем закроется дверь, вдруг горячо заговорил: — Товарищ командир, за что вы так… Да чтоб я немцу подчинился… — Смирно! — резко прозвучала команда. Командир удовлетворенно посмотрел на вытянувшегося Петра и негромко сказал: — Так вот, Кудряшов… За жизнь Пятого отвечаешь лично. Если что случится, — командир достал платок, высморкался и негромко закончил, — расстреляю сам, без суда. Кругом! Шагом марш! Петр, вспомнив это, недовольно посмотрел на неподвижную фигуру и переспросил: — Пятый, так кем ты до войны был? — Вроде как студентом… — послышался негромкий голос. — Ишь ты! — удивился Петр и даже приподнялся со стула. Покачал головой. — Ну ты даешь… А я думал ты официантом работал в кабаке… — Он покрутил пальцами в воздухе, подбирая выражение, чтоб не обидеть собеседника. — Уж… больно у тебя вид… лакейский. — Спасибо. — А я вот в кузне у бати работал, — вздохнул Кудряшов, — коней ковал, плуги чинил… Эх… — Он помолчал, потом, словно пораженный какой-то мыслью, снова спросил: — Слушай, а ты хоть стрелять умеешь? — Немного. — Хм-хм, немного, — ухмыльнулся Петр. — Нам, брат, надо не немного, а здорово стрелять… Я вот из «ручника» люблю… Как полосанешь, бывало… Пятый вдруг приподнялся и сделал жест рукой. Петр мгновенно исчез за батареей… — Трокс, — раздался за дверью голос, — через полчаса начинается банкет, будьте готовы. — Яволь, герр унтершарфюрер, — подобострастно произнес Троке, мгновенно окидывая комнату взглядом и делая шаг к дверям. Но дверь не открылась. Очевидно, унтершарфюрер, отвечающий за официантов, направился дальше. Немного выждав, Трокс легонько стукнул по батарее. — Одевайся, — он протянул Петру темный костюм и рубашку, — быстро. Кудряшов, отвыкший в лесу от городской одежды, неуклюже одевался. — Быстрее, — спокойно произнес Трокс. — Так… ничего, сойдет… Иди за мной, нигде не останавливайся… — Держись надменно, на вопросы не отвечай… Пошли. Они вышли в коридор и быстро поднялись по лестнице, ведущей на кухню. В огромной, отделанной кафелем кухне быстро сновали повара и официанты из офицерской гостиницы. Трокс и Петр, не останавливаясь, прошли к двери, ведущей в холодильник. — Трокс! — послышался веселый оклик. Толстый шеф-повар, из-под белого халата которого выглядывали начищенные сапоги и черные галифе, быстро шел им навстречу. — Веди в свой холодильник: пора расставлять холодные закуски. Они втроем подошли к тяжелой, обитой железом двери. Трокс открыл большим ключом дверь, и они вошли в помещение, уставленное блюдами с закусками, окороками, колбасами. В углу на мешковине лежали замороженные туши. Шеф-повар подошел к ним и с сомнением покачал головой. — Какие из них антрекоты… Тьфу… Вот помню, я служил в берлинском ресторане… — Он небрежно отодвинул носком сапога одну из отрубленных ляжек и замер — около стены стоял какой-то плоский ящик. — Трокс, это что за ящик? — Это, господин шеф-повар, русская икра. — Трокс сделал быстрый шаг к стене. — Последний ящик… Да вы сами можете посмотреть… — То были другие ящики, Трокс, я отлично помню… Немец сделал движение, словно хотел взять ящик в руки. Трокс нагнулся ему помочь, но тут же выпрямился. Его правая ладонь неуловимым движением взлетела снизу вверх, и шеф-повар без звука, хватаясь руками за горло, осел на пол. — Прикрой дверь… — Пятый коротким взмахом вогнал под левую лопатку фашиста финку и быстро выдернул. — Вставляй запалы. Петр привычным движением ставил на взрывателях время, пускал их вход и вставлял в расставленные и замаскированные всякой снедью ящики с толом. В пять минут всё было кончено. — В кухне работают посудомойками три наши женщины. Выведешь их через мою комнату. Учти, нас спасет только решительность. Вперед. Они вышли из холодильника. Пятый осмотрелся — в кухне шла обычная суета. Казалось, что их пятиминутного отсутствия никто не заметил. Проходя мимо посудомойки, Трокс сделал неожиданный шаг в сторону и толкнул женщину, которая несла гору десертных тарелок. По полу разлетелись осколки. — Русская свинья! — взревел Трокс, наступая на замершую от испуга женщину. — Тварь! Почему здесь русские? — дрожа от негодования, спрашивал он побледневшего унтер-офицера. — Унтершарфюрер Блюмке распорядился на сегодняшний банкет не пускать русских! Унтер-офицер еле шевелил помертвевшими губами, с ненавистью глядя на любимчика шеф-повара Трокса, который, как поговаривали, работает на гестапо. — Арестовать русских! — бросил через плечо Трокс. Петр мгновенно вытащил из кармана парабеллум и молча показал им на дверь. Женщины, опустив голову, обреченно побрели к выходу из кухни.
— Куда же ты, Петр Никитович, после операции делся? — спросил Росляков, когда они немного успокоились. — Я потом все обыскал, а так и не смог тебя найти… Как в воду провалился… Мне даже пришлось, — Владимир Иванович виновато улыбнулся, видимо, вспомнив что-то малоприятное, — на бюро обкома партии объясняться из-за тебя… Да… дела… То-то я смотрю, что у Андрея что-то такое-эдакое есть. — Он повернулся к Петрову, но, увидев на его лице улыбку, сконфуженно замолчал. — Да, дела… — повторил вслед за Росляковым Петр Никитович. — Кто бы мог подумать, что встретимся мы. Я-то думал, что ты действительно немец. Говорил ты лихо. Кстати, откуда так хорошо язык знаешь? — Оттуда… — Росляков улыбнулся. — Я ведь не соврал тебе, что студентом был. Я училище военное кончил. Язык там изучал. — Постой, — Геннадий Михайлович перебил Рослякова, — разве ты, Володя, не из обкома комсомола в органы пришел? — В тридцать восьмом году меня взяли в обком комсомола работать. Работать в аппарате, да не где-нибудь, а в областном… Это было здорово! Тут-то мои беды и начались. Грамотенки к тому времени у меня было два класса и три коридора. Говорить-то я мог, а вот написать что-то было трудновато. Думаю, что в обкоме все ахнули, когда узнали, чего я стою. Да я и сам все прекрасно понимал. А когда мне было учиться? Помучился я с год, потом пришел к первому секретарю да и говорю ему: Гриша, так, мол, и так, отпусти ты меня Христа ради учиться куда-нибудь. Ничегошеньки у меня не получается. Отпусти. Тот не стал уговаривать, а выложил список военных училищ и молча мне сунул. Я подумал, да и выбрал специальность на всю жизнь… В коридоре раздался длинный звонок. — Вот они, — негромко сказал Петр Никитович, привставая в кресле. — Андрюшенька, давай цветы и пойдем встречать.
— Гражданин Зажмилин, — голос Рослякова звучал монотонно, — расскажите, как и при каких обстоятельствах была проведена операция «Лесник», направленная на уничтожение партизанского отряда? — То, что Лось ушел, встревожило Готта и Глобке сильно, но паника началась позже, когда привели полупьяного Непомнящего и тот сознался, что привлек Лося к изготовлению документов для двух групп диверсантов. Их заброску отменить было уже невозможно, а кроме того, и Готт, и Глобке боялись за свою шкуру гораздо больше, чем за жизнь трех десятковагентов… — Зажмилин сидел на стуле прямо, глядя в микрофон магнитофона. — Непомнящего в ту же ночь убрали. Имитировали сердечную недостаточность. Начальство в штабе фронта знало, что он пьет как лошадь, и этому особо не удивились. Потом Готт стал готовить операцию… Мне предстояло проникнуть в партизанский отряд. Глобке выяснил в ближайших лагерях военнопленных, все ли эшелоны пришли в порядке. Один из начальников эшелонов долго мялся, но под давлением Глобке сознался, что из эшелона был побег через пол вагона. Причем он утверждал, что оба беглеца погибли под колесами поезда. Тогда Готт, прикинув время побега, стал готовить к роли меня. Мне вкатили сильную дозу морфия, и я заснул, а когда проснулся… У меня было такое ощущение, что под поезд попал я сам. Я не мог ходить, а только ползал. Избит я был виртуозно. Кроме этого, мне нанесли два ранения, имитируя пулевые. Ночью меня вывели на пустырь перед лагерем, и я вышел на пулеметы. Поднялась стрельба. Я кое-как выполз на косогор и буквально скатился в руки Смолягиной. Глобке подозревал, что кто-то из деревенских женщин имеет связь с партизанами. Скорее всего Смолягина, жена учителя как-никак… — Подозревали немцы связь с партизанами Дорохова? — Да… После убийства одного из лучших курсантов и агентов в доме Дорохова Глобке решил, что Дорохов не так прост, как кажется. Он даже установил за ним наблюдение. Но какое наблюдение можно установить за человеком, выросшим в лесу? — Лозовой презрительно усмехнулся. — Глобке направил меня к Смолягиной потому, что психологический портрет, который он составил на Смолягину, оказался гораздо проще, чем портрет Дорохова. Посудите сами: Дорохов вырос в лесу, значит, у него природный дар охотника распознавать малейшую фальшь вокруг себя. Дорохов недоверчив, его трудно растрогать слезливой историей. Дорохов замкнутый по природе человек, значит, его сложно вытянуть на разговор. Не пьет, трудно вывести из душевного равновесия. Другое дело Смолягина — женщина молодая, более подчиняется чувствам, чем рассудку. Остальное я должен был определить и додумать, находясь в тайнике у Смолягиной. Несколько дней я действительно приходил в себя. После чего Смолягина стала меня проверять — проверять, конечно, очень неумело и наивно. Мало-помалу контакт со Смолягиной креп. Я много рассказывал о своей «семье», о своей матери. Прочую чепуху… Много говорил о своем долге солдата. Смолягина явно колебалась, но не хотела выводить меня на партизанский отряд. Но и время не ждало. Готт приказал мне форсировать события. Тогда я имитировал уход от Смолягиной, и сердце ее дрогнуло. Она повела меня к Алферовой, не подозревая, что за нами по следу идут немцы. От Алферовой я попал в отряд. Оказалось, Лось находился именно у них. Надо сказать, что Смолягин отнесся ко мне с недоверием, а Лось опознал меня и заорал: «Лесник! Фашистская гадина! Почему боек спилил?..» Меня посадили в землянку и запретили выходить, поставили часового. Я должен был захватить документы партизанского отряда. К тому времени я понял, что отряд — своеобразная пересылочная база и выполнял чисто разведывательные операции… Связной из отряда уйти не мог — Глобке обложил болото намертво. Рация у них не работала — село питание. Во время обстрела немцами островка часовой был убит. Взяв его «шмайссер», я подкрался к землянке командира и комиссара. Они были там… Я выпустил в них всю обойму и выскочил из землянки. Первое, что я увидел, был Лось с карабином в руках. Я бросился бежать и почти добежал до берега, но вдруг почувствовал удар в голову и больше ничего не помнил. Очнулся у Готта в кабинете. Меня спросили про отряд, и я вынужден был сказать, чтобы не сознаться в собственной трусости, что отряд полностью уничтожен. Может быть, поэтому Лосю и удалось уйти… — Как вам удалось легализироваться после войны? — Еще в начале войны я воспользовался документами на имя Лозового. Я знал, что он умер в одном из концлагерей, а его деревня почти полностью уничтожена. А в сорок пятом… я остался в небольшом концлагере, а через неделю нас освободила Красная Армия… После войны я осел на Украине — подальше от тех мест, где меня могли опознать свидетели. — Посмотрите внимательно на эту фотографию. Вы знаете, кто на ней изображен? — Да, это Глобке. — Вы знаете его настоящую фамилию? Лозовой напрягся, и в его глазах мелькнул страх. — Вы знаете его настоящую фамилию? — Косяков. — Где он скрывается в настоящее время? Лозовой молчал, тяжело дыша и вытирая пот скомканным платком. — Нет, не знаю. — Послушайте, Зажмилин, в это с трудом верится. Если Глобке, он же Косяков, знал, что вам известна его настоящая фамилия и вы остались живы, значит, ему вы были нужны. А это значит, что вы располагаете сведениями, где он находится в настоящее время… — Он… во Львовской области… в Яворове, работает на мельнице. Фамилия Пасичный Станислав… Миронович. Яворов встретил чекистов проливным дождем. Андрей вышел из вагона первым. Раскрыл зонтик и огляделся. От входа в вокзал к нему направился приземистый русоволосый парень с портфелем, который держал над головой наподобие зонтика. — Товарищ Кудряшов? А где остальные? — В вагоне… Вон какой дождь у вас хлещет. — За месяц впервые… Ну что ж, машина ждет. Меня зовут Сергей… Сергей Иванович Белоус. В машине было душно, и, хотя дождь хлестал не переставая, Андрей открыл окно. Около мелькомбината они остановились. — Пойду узнаю. — Сергей потянулся. — Как дождь, так правую руку ведет… Еще в армии на учениях сломал. Вернулся он через пять минут. — Только что ушел обедать. — Куда? — в один голос спросили Андрей и Петров. — Домой… Он живет рядом. Кудряшов и Петров переглянулись. — Может, это и к лучшему… Поехали. Машина свернула на узкую улочку. Потом еще раз завернули и наконец остановились около магазина «Продукты». — Все, дальше нельзя… — Белоус расстегнул пиджак. — Может быть вооружен. Лестница была старая, с массивными чугунными перилами и выщербленными мраморными ступенями. Стены обшарпанные, с многочисленными надписями и рисунками. Около пятнадцатой квартиры они остановились. Андрей встал по левую сторону двери. Сергей — по правую. Чуть ниже и выше площадки прижались к стенам члены группы захвата. Пожилой мужчина с длинными, словно приклеенными усами осторожно нажал кнопку звонка. За дверью послышались шаркающие шаги. — Кто? — раздался невнятный, но сильный баритон. — Станислав Миронович, це я — Хлопяник с ЖЭКа. Опять у вас с жировкой не все ладно… Будь ласка, давайте сверим. Послышались щелчки, потом забренчала цепочка, и дверь, скрипнув, начала открываться. И тут же Сергей резким ударом ноги ее распахнул. Андрей влетел в прихожую через секунду, но все было уже кончено. Худощавый мужчина с треугольными, оттопыренными ушами с изумлением рассматривал наручники на своих руках.
Около управления Кудряшов заметил Геннадия Михайловича, который высматривал кого-то среди проходящих сотрудников. — Андрей Петрович, с Росляковым плохо… Только что звонила его жена. Бери мою машину и к нему… Андрей ворвался в квартиру полковника. Высокий седой врач складывал чемоданчик. — На этот раз, Владимир Иванович, ты легким испугом отделался, — сердито басил он, хмуря брови и косясь на лежащего в кровати Рослякова. — Но с меня хватит… Раз ты меня уговорил, второй — конец. Сейчас в госпиталь, потом на месяц в санаторий… — Он заметил, что Владимир Иванович сделал отрицательный жест рукой и поднял ладонь. — Хватит, Володя. Собирайся, полковник, машина за тобой придет через полчаса. Я уже звонил… Когда за доктором закрылась дверь, Владимир Иванович заметил прижавшегося к стене Андрея. — Что это, — спросил он слабым голосом, — доступ к телу уже открылся? Ты почему, боец, не на работе? — Владимир Иванович, ребята волнуются, вот и прислали меня. Может, что нужно… — Эх, боец, боец… Кудряшов понимал, что хотел сказать полковник, да и сам Владимир Иванович знал, что Андрей его понимает: нового сердца не вложишь. А может, это и не надо? Росляков смотрел на Андрея идумал о том, что в каждом его «бойце» со временем начинает жить маленькая частичка его, Рослякова, и этим можно гордиться.
На совещание к начальнику управления Андрей попал только к концу. Он осторожно присел рядом с Петровым и на его вопросительный взгляд тихо прошептал: — Страшного ничего. Врач сказал, что это сильное переутомление… А генерал продолжал говорить: — …Только что закончено дело о гибели партизанского отряда Тимофея Смолягина. Нет теперь таинственной гибели — есть патриоты, до конца выполнившие свой долг чекистов и коммунистов. Выявлены подлые каратели и гестаповские агенты. Органами государственной безопасности арестованы и будут преданы суду опасные государственные преступники Зажмилин и Косяков, их ждет справедливое возмездие. Никто не забыт, и ничто не забыто — это не фраза! Это суть нашей работы. Ведь, помимо карающей функции, органы госбезопасности выполняют функцию защитника советских граждан, функцию исключительно благородную! Так и в этом деле… Да, Смолягин, Хромов, Дерюгин, Нувонцев, Рыжиков, Попов, Алферовы, Дорохов и другие партизаны — это герои Великой Отечественной войны. Они были разведчиками чекистского отряда в фашистском логове и принесли неоценимую помощь Родине.
Стол Мария Степановна решила поставить в саду под яблонями, и для этого пришлось выкосить траву между ними. Большой смолягинский стол, потемневший от времени и в доме казавшийся неуклюжим, в саду словно преобразился. Причудливая резьба заиграла, а по крышке пошли, побежали блики, словно само солнце тоже пришло в гости и выискивало место, где бы присесть. — А вот и Дороховы, — сказала Мария Степановна. По проулку шли Василий Егорович с женой и детьми. Варвара Михеевна семенила рядом с мужем, который шагал тяжело, но размашисто, сжимая руки сыновей. — Виктор, Василий, где вы там? — раздался голос Смолягиной. — Юрий Иванович, берите мужиков и к столу. Прохоров встал, одернул пиджак, словно гимнастерку, и поднял граненый стакан. — Друзья мои, други… — Все молча смотрели на него, а он, забывшись, примолк и глядел куда-то поверх голов, как будто видел сквозь ветви разлапистой яблони извилистую лесную дорогу, которая упирается в гать Радоницких болот. — Други, — повторил Прохоров, — давайте помянем Тимофея и его отряд… Выпили молча и тихо поставили стаканы на стол. Блеснули слезы в глазах Марии Степановны, закусила губу и отвернулась Груня, низко-низко наклонила над скатертью голову Варвара Михеевна. Шелестел ветер в ветках яблони, терпко пахло смородиной, окружавшей стол широким полукругом. Одиноко стоял этот стол среди зелени, словно тот островок, на котором принял последний бой партизанский отряд. Василий Егорович понял это и тяжело приподнялся со скамейки. — Я вот что скажу… — глухо и негромко обронил он. — Вот сидим мы, вспоминаем, думаем… Ты, Виктор, фронт прошел, горя хлебнул и ты, Мария, всю жизнь вдовой проходила. Варюшка моя, что все эти годы… вдвое против меня гнет тащила… Груня, Юрий Иванович. Разные мы люди, да судьба у нас одна сложилась — Родину защищать. Верил я в Родину, в строй наш… и по этой вере, как по гати, прошел… Потому и выстояли мы и стоять так будем всегда!
1 К окраине городские огни редели, в районе аэропорта от сплошной электрической россыпи оставались отдельные, беспорядочно разбросанные на темном фоне светляки; тем отчетливей выделялась параллельная курсу взлетающих самолетов цепочка ртутных светильников над Восточным шоссе, которая пронизывала широкое кольцо зеленой зоны и обрывалась перед традиционным жестяным плакатом «Счастливого пути!». Здесь покидающие Тиходопск машины врубали дальний свет и на разрешенных сорока прокатывались мимо стационарного поста ГАИ, чтобы, оказавшись в черном желобе отороченной лесополосами трассы, ввинтиться наконец с привычной скоростью в упругий душный воздух. Сейчас высоко поднятая над землей стеклянная будочка пустовала, не знающие об обязательности ночных дежурств, с облегчением нажимающие акселератор водители не придавали этому значения, как не обращали внимания па проскальзывающие в попутном направлении радиофицированные машины с номерами одинаковой серии. Скрытые от посторонних глаз события этой ночи становились явными только через восемнадцать километров, там, где половину трассы перегораживал желто-синий УАЗ с включенным проблесковым маячком, мельтешили белые шлемы и портупеи. Видавший виды нелюбопытный «дальнобойщик», привычно повинуясь отмашкам светящегося жезла, выводил свою ФУРУ на встречную полосу, объезжая яркое световое пятно, в котором мельком отмечал косо приткнувшуюся к обочине «шестерку» еще одного глупого частника, на своем опыте убедившегося, что ночная езда таит гораздо больше опасностей, чем преимуществ. А другие глупые частники, завидев беспомощно растопырившуюся дверцами легковушку, примеряли ситуацию на себя, до предела снижали скорость, обращая бледные встревоженные лица к скоплению служебных машин, к занятым не поддающейся беглому пониманию работой людям в форме и штатском, но резкие взмахи жезлов и злые окрики затянутых в черную кожу гаишников заставляли их топить педаль газа и восполнять недостаток увиденного предполо-жсниями, среди которых было и успокаивающее — о происходящей киносъемке. Действительно, софиты и яркие прожектора на восемнадцатом километре присутствовали и, подключенные к упрятанным в спецмашины генераторам, ослепительно высвечивали белый порошок безосколочпого стекла па жирном черном гудроне, впечатанные в него обкатанные кругляши гравия, потеки мазута, камешки и блестящие латунные цилиндрики, каждый из которых Сизов обозначал бумажными трафаретками с аккуратно вырисованными цифрами. И съемка действительно велась, только не кинокамерой, а тремя фотоаппаратами и видеомагнитофоном. Щелк, щелк… Откатившийся к самой кромке трассы жезл регулировщика — точь-в-точь как те, которыми размахивают ребята из группы заграждения и которые никто не думает фотографировать. След рикошета на лоснящемся асфальте, рваный клочок металла с остатками желтой автомобильной краски, темные, сливающиеся с фоном пятна — еще одну лампу сюда, нет, в самый низ я поверни, под косым углом — щелк, щелк… Исторгнутые из окружающего мрака мириады комаров и мошек загипнотизированно роились в неожиданном море света, кусали, норовили залезть в нос, уши, глаза. Когда Сизов устанавливал последнюю трафаретку, копошащаяся масса облепила лицо, вгрызлась в губы и веки. Освободив руки, он резко выпрямился, хлестнул по щекам, размазывая катышки напитавшейся кровью слизи, брезгливо полез за платком. Щелк — гильза под каллиграфически выписанным номером: семнадцать, щелк — непонятная выщерблинка, щелк, щелк… Вспышки блицев били по слезящимся от тысячеваттных ламп глазам, усиливая раздражение. Он закрылся ладонью, попятился в тень, отвернулся к шелестящей лесопосадке и, ничего не видя, уставился в темноту. Со стороны распахнутой, точно на секционном столе, машины доносились лающие команды Трембицкого: «Камеру ближе! Доктор, мешок… Лицо — крупно! Струнгуляциоппая, что ли? Шею давай!» Отснятые мате риалы увидит ограниченный круг людей, в конечном счете они навечно осядут в архивной пыли рядом с пухлыми картонными папками, помеченными зловещим красным ярлычком СК. Сизов еще не знал, какого объема будет дело, сколько фамилий напишут на обложке, но очень отчетливо представил стандартный бумажный квадратик в правом верхнем углу, обыденно-канцелярский вид которого не соответствует исключительности того, что он обозначает: смертная казнь. Раньше писали ВМН — высшая мера наказания, сути это не меняло. — Что высматриваете в роще? Мишуев подошел, как всегда, неожиданно. — Все гильзы отыскали? — Семнадцать. — Сизов, щурясь, повернулся. — Утром будет видно — все или нет. — Посмотрите на обочине, там могут быть еще… Опытный человек, даже не заглядывая в багажник брошенной «шестерки» и не зная, что лежит на обочине под брезентом, мог предвидеть ядовитый красный ярлычок в конце работы, которая сейчас разворачивалась на восемнадцатом километре. Об исключительности дела свидетельствовали многие внешние признаки. Недаром столько машин, недаром собралось все руководство прокуратуры области и УВД, недаром начальник отдела борьбы с особо тяжкими преступлениями лично дает указания, а старший оперуполномоченный собственноручно отыскивает и нумерует гильзы. Сизов выругался. Считается, если все подняты по тревоге, задействованы лучшие сотрудники, начальство лично присутствует и осуществляет контроль — это и есть высшая организация работы. Только один человек на месте происшествия придерживался другого мнения. Он полагал, что для дела было бы гораздо полезней, если бы большинство присутствующих мирно спали в своих постелях, набираясь сил для завтрашнего: оценки ситуации, анализа фактов, логических выводов, принятия глобальных управленческих решений. А сейчас что: информации — ноль, улики рассеяны… Собрать, зафиксировать, закрепить их — дело узких специалистов, и они занимаются своей работой: важняк областной прокуратуры Трембицкий, судебно-медицинский эксперт, два криминалиста. Чем им поможет многочисленное начальство? Только следы затопчут! Завтра утром восстановленная по крупинкам картина происшедшего попадет в справки и отчеты, из которых тот же прокурор области почерпнет куда больше полезной информации, чем из собственных отрывочных и бессистемных наблюдений. А отыскивать гильзы вполне мог молоденький сержант, для этого не нужны опыт и знания сыщика с двадцатилетним стажем оперативной работы. Так думал майор Сизов, шаря по заросшей травой обочине лучом мощного фонаря и впустую напрягая уставшие глаза. Впрочем, многие считали, что характер у него тяжелый. Очередной приближающийся по трассе автомобиль не среагировал на огненные отмашки поста заграждения, подкатил вплотную. Значит, свои. Разве кого-то еще здесь нет? Сизов выпрямился, незаметно массируя одеревеневшую поясницу. Номер он разобрать не мог, но по движению среди прокурорского и милицейского начальства понял, кто прибыл на восемнадцатый километр еще до того, как грузный Сергей Анатольевич выбрался наружу. Вот уж кому сам бог велел спать-почивать: осведомленность, достаточную для осуществления общего руководства, представит суточная сводка, положенная ровно в восемь па широкий полированный стол, а вникать в подробности куратору административных органов совершенно ни к чему. Но нет — презрел неудобства, окунулся в самую гущу событий, работает наравне со всеми. Правда, толку… Велика еще сила инерции, ой, велика! «Отставить неуместную иронию!» — почти услышал Сизов излюбленный окрик Мишуева. Правда, его самого начальник до сих пор одергивать избегал. Но, похоже, скоро начнет. Откуда-то сбоку вынырнул Веселовский. — Видели? — кивнул в сторону неразличимых отсюда брезентовых холмиков. — Мясорубка! Сизов пожал плечами. — Дальность почти километр, мощность соответствующая. А тут — с десяти метров… — И без всякого перехода спросил: — Глаза не болят? — А чего им болеть? — удивился Веселовский. — Я как огурчик — даже спать перехотел! — Может, тебя и комары не грызут? — брюзгливо спросил Сизов, расчесывая зудящую щеку. — Грызут, сволочи, спасу нет! Почти всю кровь выпили. — Ну то-то же, — нравоучительно пробурчал Сизов и попытался не щуриться. — Наших можно увозить? — совсем рядом спросил начальник У ГАИ. — Еще немного, — резко ответил Трембицкий. — Доктор хотел посмотреть выходные… Силуэт следователя напоминал вставшего на задние лапы волка. — Привет, Вадим! — окликнул Сизов. — Скоро заканчиваем? — Кто там? — рыкнул важняк, вглядываясь в темноту, и сделал несколько шагов вперед. — Ты, Игнат? — продолжил он обычным голосом. — Здорово. Думаю, за час уложусь. Оставлю оцепление, по свету надо сделать дополнительный осмотр. Сейчас все равно ни черта не видно и спать охота. Комары еще проклятые… Оборвав фразу, Трембицкий заторопился туда, куда переместились прожектора и софиты и где судебно-медицинский эксперт уже поднимал брезент. Потянуло холодным ветром, сильнее зашумела роща, и Сизов подумал, что, если оказаться здесь одному, этот шелест покажется зловещим. Между деревьями мелькнул свет, желтый круг выплыл на обочину, увлекая за собой две темные фигуры. — У нас появилась версия, что стрелять могли из засады в лесополосе… Фигуры приблизились. Мишуев с тяжелым аккумуляторным фонарем в руке водил по месту происшествия Сергея Анатольевича и старательно изображал осведомленного, компетентного, активного руководителя. Иногда эта роль ему удавалась, особенно если зрители не были профессионалами. Осветив Сизова, подполковник запнулся. — Вы нашли гильзы на обочине? — Ни одной. — Надо будет утром тщательно все прочесать. Мишуев огляделся. Пойдемте, Сергей Анатольевич, осмотрим машину. Сизов понял, что Мишуев прокладывает маршрут таким образом, чтобы не столкнуться с Трембицким. Следователь руководил осмотром и не терпел, когда кто-либо забывал об этом. Начальство переминалось у своих машин, отмахивалось ветками от комаров, переговаривалось вполголоса. Сизов подошел к стоящим в стороне сыщикам, вгляделся в огоньки сигарет, кое с кем поздоровался. — Есть что-нибудь? — Кажется, пет. — Фоменко протянул жменю семечек. Сизов покачал головой. — Заедаешь? Фоменко втянул голову в плечи и оглянулся. — Слышно, да? Я ж дома, вечером, в постели, под одеялом, — нервным шепотом зачастил он. — Кто ж знал, что ночью поднимут… — И чего ж ты здесь наработал? — с явственно различаемым презрением спросил Сизов. — А что, все нормально, я ж на подхвате — прожектор носил, шнуры наращивал… — Полный ноль, — ни к кому не обращаясь, сказал Веселовский, неотрывно глядя в сторону вскрытой «шестерки». — Может, наш начальник что-нибудь сейчас отыщет… Мишуев подвел Сергея Анатольевича к распахнутому багажнику, посветил внутрь, начал что-то объяснять, но Сергей Анатольевич внезапно отскочил в сторону, зажал рукой рот и, круто повернувшись, бросился в темноту. Мишуев обескураженно замолчал, посмотрел туда, где находился начальник управления, потоптался на месте и нерешительно пошел следом. — Перестарался, — сказал Фоменко. — Зачем непривычному человеку такое показывать? — А то не знаешь, зачем, — проговорил Сизов и сплюнул. Через некоторое время Мишуев и Сергей Анатольевич присоединились к группе руководителей. Мишуев говорил что-то громко и возбужденно, потом направился к сотрудникам своего отдела. — Курите? А работы больше нет? Чувствовалось, что всплеск активности призван загладить допущенную неловкость. — Почему преступники бросили машину? Никто не знает! А между тем это важная деталь. Значит, что? Подполковник требовательно посмотрел на Веселовского, потом перевел взгляд на Фоменко. — Значит, надо выяснить: каково техническое состояние автомобиля, может ли он двигаться и так далее… — Завтра этим займутся специалисты, — устало сказал Сизов. Мишуев пренебрежительно отмахнулся. — Кто ждет — никого не догонит! Фоменко, проведите проверку всех систем: запускается ли двигатель, есть ли ход, ну и тому подобное… Исполнительный Фоменко, привычно пошмыгивая носом, отшвырнул брызнувший искрами окурок, подтянулся и застегнул пиджак, демонстрируя готовность к немедленным действиям. — Наследит в кабине, сотрет отпечатки, — не скрывая раздражения, произнес Сизов. — Потом придется дактилоскопироваться да объясняться. К тому же машина заперта, ключ у Трембицкого. Казалось, Мишуев услышал только последнюю фразу. — Ладно, с прокуратурой спорить не будем. А то что не так — на нас свалят. Так, Игнат Филиппович? Тон у начальника был почти дружеский и слегка сочувственный, будто Трембицкий всегда сваливал на Сизова всякую напраслину, а сейчас он, Мишуев, этому воспрепятствовал. Сергей Анатольевич уехал первым, почти следом рванули машины прокурора области и генерала, потом уехали замы, начальники отделов. — Даю лишний час отоспаться, а к десяти — все у меня, — отдал Мишуев последнюю команду и хлопнул дверцей. Восемнадцатый километр пустел. Один за другим исчезали в ночи красные габаритные огоньки. Мягкие персональные «двадцатьчетверки» бережно несли к Тиходонску по одному пассажиру. Разбитые, пропахшие бензином «рафики» и УАЗы приняли в себя столько человек, сколько сумело втиснуться. На въезде в город, перед плакатом «Добро пожаловать в Тиходонск», шоссе перекрывал шлагбаум, и мигающий красный светофор загонял машины в длинный контрольный коридор, начало и конец которого чутко стерегли спрятанные до поры под землей стальные шипы спецсистемы «еж». Вооруженные автоматами усиленные наряды проверяли документы водителей, иногда заглядывали в багажники. Действовал режим операции «Перехват». Спецмашины не досматривали, и они без остановки прокатились между металлическими барьерами мимо стационарного поста ГАИ. В тускло освещенном аквариуме, как и положено, несли службу два дежурных инспектора дорожного надзора. Лиц их рассмотреть, конечно, было нельзя.
Данил Корецкий ЗАДЕРЖАНИЕ

1
К окраине городские огни редели, в районе аэропорта от сплошной электрической россыпи оставались отдельные, беспорядочно разбросанные на темном фоне светляки; тем отчетливей выделялась параллельная курсу взлетающих самолетов цепочка ртутных светильников над Восточным шоссе, которая пронизывала широкое кольцо зеленой зоны и обрывалась перед традиционным жестяным плакатом «Счастливого пути!». Здесь покидающие Тиходонск машины врубали дальний свет и на разрешенных сорока прокатывались мимо стационарного поста ГАИ, чтобы, оказавшись в черном желобе отороченной лесополосами трассы, ввинтиться наконец с привычной скоростью в упругий душный воздух. Сейчас высоко поднятая над землей стеклянная будочка пустовала, не знающие об обязательности ночных дежурств, с облегчением нажимающие акселератор водители не придавали этому значения, как не обращали внимания на проскальзывающие в попутном направлении радиофицированные машины с номерами одинаковой серии. Скрытые от посторонних глаз события этой ночи становились явными только через восемнадцать километров, там, где половину трассы перегораживал желто-синий УАЗ с включенным проблесковым маячком, мельтешили белые шлемы и портупеи. Видавший виды нелюбопытный «дальнобойщик», привычно повинуясь отмашкам светящегося жезла, выводил свою ФУРУ на встречную полосу, объезжая яркое световое пятно, в котором мельком отмечал косо приткнувшуюся к обочине «шестерку» еще одного глупого частника, на своем опыте убедившегося, что ночная езда таит гораздо больше опасностей, чем преимуществ. А другие глупые частники, завидев беспомощно растопырившуюся дверцами легковушку, примеряли ситуацию на себя, до предела снижали скорость, обращая бледные встревоженные лица к скоплению служебных машин, к занятым не поддающейся беглому пониманию работой людям в форме и штатском, но резкие взмахи жезлов и злые окрики затянутых в черную кожу гаишников заставляли их топить педаль газа и восполнять недостаток увиденного предположениями, среди которых было и успокаивающее — о происходящей киносъемке. Действительно, софиты и яркие прожектора на восемнадцатом километре присутствовали и, подключенные к упрятанным в спецмашины генераторам, ослепительно высвечивали белый порошок безосколочного стекла на жирном черном гудроне, впечатанные в него обкатанные кругляши гравия, потеки мазута, камешки и блестящие латунные цилиндрики, каждый из которых Сизов обозначал бумажными трафаретками с аккуратно вырисованными цифрами. И съемка действительно велась, только не кинокамерой, а тремя фотоаппаратами и видеомагнитофоном. Щелк, щелк… Откатившийся к самой кромке трассы жезл регулировщика — точь-в-точь как те, которыми размахивают ребята из группы заграждения и которые никто не думает фотографировать. След рикошета на лоснящемся асфальте, рваный клочок металла с остатками желтой автомобильной краски, темные, сливающиеся с фоном пятна — еще одну лампу сюда, нет, в самый низ я поверни, под косым углом — щелк, щелк… Исторгнутые из окружающего мрака мириады комаров и мошек загипнотизированно роились в неожиданном море света, кусали, норовили залезть в нос, уши, глаза. Когда Сизов устанавливал последнюю трафаретку, копошащаяся масса облепила лицо, вгрызлась в губы и веки. Освободив руки, он резко выпрямился, хлестнул по щекам, размазывая катышки напитавшейся кровью слизи, брезгливо полез за платком. Щелк — гильза под каллиграфически выписанным номером: семнадцать, щелк — непонятная выщерблинка, щелк, щелк… Вспышки блицев били по слезящимся от тысячеваттных ламп глазам, усиливая раздражение. Он закрылся ладонью, попятился в тень, отвернулся к шелестящей лесопосадке и, ничего не видя, уставился в темноту. Со стороны распахнутой, точно на секционном столе, машины доносились лающие команды Трембицкого: «Камеру ближе! Доктор, мешок… Лицо — крупно! Струнгуляционная, что ли? Шею давай!» Отснятые мате риалы увидит ограниченный круг людей, в конечном счете они навечно осядут в архивной пыли рядом с пухлыми картонными папками, помеченными зловещим красным ярлычком СК. Сизов еще не знал, какого объема будет дело, сколько фамилий напишут на обложке, но очень отчетливо представил стандартный бумажный квадратик в правом верхнем углу, обыденно-канцелярский вид которого не соответствует исключительности того, что он обозначает: смертная казнь. Раньше писали ВМН — высшая мера наказания, сути это не меняло. — Что высматриваете в роще? Мишуев подошел, как всегда, неожиданно. — Все гильзы отыскали? — Семнадцать. — Сизов, щурясь, повернулся. — Утром будет видно — все или нет. — Посмотрите на обочине, там могут быть еще… Опытный человек, даже не заглядывая в багажник брошенной «шестерки» и не зная, что лежит на обочине под брезентом, мог предвидеть ядовитый красный ярлычок в конце работы, которая сейчас разворачивалась на восемнадцатом километре. Об исключительности дела свидетельствовали многие внешние признаки. Недаром столько машин, недаром собралось все руководство прокуратуры области и УВД, недаром начальник отдела борьбы с особо тяжкими преступлениями лично дает указания, а старший оперуполномоченный собственноручно отыскивает и нумерует гильзы. Сизов выругался. Считается, если все подняты по тревоге, задействованы лучшие сотрудники, начальство лично присутствует и осуществляет контроль — это и есть высшая организация работы. Только один человек на месте происшествия придерживался другого мнения. Он полагал, что для дела было бы гораздо полезней, если бы большинство присутствующих мирно спали в своих постелях, набираясь сил для завтрашнего: оценки ситуации, анализа фактов, логических выводов, принятия глобальных управленческих решений. А сейчас что: информации — ноль, улики рассеяны… Собрать, зафиксировать, закрепить их — дело узких специалистов, и они занимаются своей работой: важняк[1] областной прокуратуры Трембицкий, судебно-медицинский эксперт, два криминалиста. Чем им поможет многочисленное начальство? Только следы затопчут! Завтра утром восстановленная по крупинкам картина происшедшего попадет в справки и отчеты, из которых тот же прокурор области почерпнет куда больше полезной информации, чем из собственных отрывочных и бессистемных наблюдений. А отыскивать гильзы вполне мог молоденький сержант, для этого не нужны опыт и знания сыщика с двадцатилетним стажем оперативной работы. Так думал майор Сизов, шаря по заросшей травой обочине лучом мощного фонаря и впустую напрягая уставшие глаза. Впрочем, многие считали, что характер у него тяжелый. Очередной приближающийся по трассе автомобиль не среагировал на огненные отмашки поста заграждения, подкатил вплотную. Значит, свои. Разве кого-то еще здесь нет? Сизов выпрямился, незаметно массируя одеревеневшую поясницу. Номер он разобрать не мог, но по движению среди прокурорского и милицейского начальства понял, кто прибыл на восемнадцатый километр еще до того, как грузный Сергей Анатольевич выбрался наружу. Вот уж кому сам бог велел спать-почивать: осведомленность, достаточную для осуществления общего руководства, представит суточная сводка, положенная ровно в восемь на широкий полированный стол, а вникать в подробности куратору административных органов совершенно ни к чему. Но нет — презрел неудобства, окунулся в самую гущу событий, работает наравне со всеми. Правда, толку… Велика еще сила инерции, ой, велика! «Отставить неуместную иронию!» — почти услышал Сизов излюбленный окрик Мишуева. Правда, его самого начальник до сих пор одергивать избегал. Но, похоже, скоро начнет. Откуда-то сбоку вынырнул Веселовский. — Видели? — кивнул в сторону неразличимых отсюда брезентовых холмиков. — Мясорубка! Сизов пожал плечами. — Дальность почти километр, мощность соответствующая. А тут — с десяти метров… — И без всякого перехода спросил: — Глаза не болят? — А чего им болеть? — удивился Веселовский. — Я как огурчик — даже спать перехотел! — Может, тебя и комары не грызут? — брюзгливо спросил Сизов, расчесывая зудящую щеку. — Грызут, сволочи, спасу нет! Почти всю кровь выпили. — Ну то-то же, — нравоучительно пробурчал Сизов и попытался не щуриться. — Наших можно увозить? — совсем рядом спросил начальник У ГАИ. — Еще немного, — резко ответил Трембицкий. — Доктор хотел посмотреть выходные… Силуэт следователя напоминал вставшего на задние лапы волка. — Привет, Вадим! — окликнул Сизов. — Скоро заканчиваем? — Кто там? — рыкнул важняк, вглядываясь в темноту, и сделал несколько шагов вперед. — Ты, Игнат? — продолжил он обычным голосом. — Здорово. Думаю, за час уложусь. Оставлю оцепление, по свету надо сделать дополнительный осмотр. Сейчас все равно ни черта не видно и спать охота. Комары еще проклятые… Оборвав фразу, Трембицкий заторопился туда, куда переместились прожектора и софиты и где судебно-медицинский эксперт уже поднимал брезент. Потянуло холодным ветром, сильнее зашумела роща, и Сизов подумал, что, если оказаться здесь одному, этот шелест покажется зловещим. Между деревьями мелькнул свет, желтый круг выплыл на обочину, увлекая за собой две темные фигуры. — У нас появилась версия, что стрелять могли из засады в лесополосе… Фигуры приблизились. Мишуев с тяжелым аккумуляторным фонарем в руке водил по месту происшествия Сергея Анатольевича и старательно изображал осведомленного, компетентного, активного руководителя. Иногда эта роль ему удавалась, особенно если зрители не были профессионалами. Осветив Сизова, подполковник запнулся. — Вы нашли гильзы на обочине? — Ни одной. — Надо будет утром тщательно все прочесать. Мишуев огляделся. Пойдемте, Сергей Анатольевич, осмотрим машину. Сизов понял, что Мишуев прокладывает маршрут таким образом, чтобы не столкнуться с Трембицким. Следователь руководил осмотром и не терпел, когда кто-либо забывал об этом. Начальство переминалось у своих машин, отмахивалось ветками от комаров, переговаривалось вполголоса. Сизов подошел к стоящим в стороне сыщикам, вгляделся в огоньки сигарет, кое с кем поздоровался. — Есть что-нибудь? — Кажется, нет. — Фоменко протянул жменю семечек. Сизов покачал головой. — Заедаешь? Фоменко втянул голову в плечи и оглянулся. — Слышно, да? Я ж дома, вечером, в постели, под одеялом, — нервным шепотом зачастил он. — Кто ж знал, что ночью поднимут… — И чего ж ты здесь наработал? — с явственно различаемым презрением спросил Сизов. — А что, все нормально, я ж на подхвате — прожектор носил, шнуры наращивал… — Полный ноль, — ни к кому не обращаясь, сказал Веселовский, неотрывно глядя в сторону вскрытой «шестерки». — Может, наш начальник что-нибудь сейчас отыщет… Мишуев подвел Сергея Анатольевича к распахнутому багажнику, посветил внутрь, начал что-то объяснять, но Сергей Анатольевич внезапно отскочил в сторону, зажал рукой рот и, круто повернувшись, бросился в темноту. Мишуев обескураженно замолчал, посмотрел туда, где находился начальник управления, потоптался на месте и нерешительно пошел следом. — Перестарался, — сказал Фоменко. — Зачем непривычному человеку такое показывать? — А то не знаешь, зачем, — проговорил Сизов и сплюнул. Через некоторое время Мишуев и Сергей Анатольевич присоединились к группе руководителей. Мишуев говорил что-то громко и возбужденно, потом направился к сотрудникам своего отдела. — Курите? А работы больше нет? Чувствовалось, что всплеск активности призван загладить допущенную неловкость. — Почему преступники бросили машину? Никто не знает! А между тем это важная деталь. Значит, что? Подполковник требовательно посмотрел на Веселовского, потом перевел взгляд на Фоменко. — Значит, надо выяснить: каково техническое состояние автомобиля, может ли он двигаться и так далее… — Завтра этим займутся специалисты, — устало сказал Сизов. Мишуев пренебрежительно отмахнулся. — Кто ждет — никого не догонит! Фоменко, проведите проверку всех систем: запускается ли двигатель, есть ли ход, ну и тому подобное… Исполнительный Фоменко, привычно пошмыгивая носом, отшвырнул брызнувший искрами окурок, подтянулся и застегнул пиджак, демонстрируя готовность к немедленным действиям. — Наследит в кабине, сотрет отпечатки, — не скрывая раздражения, произнес Сизов. — Потом придется дактилоскопироваться да объясняться. К тому же машина заперта, ключ у Трембицкого. Казалось, Мишуев услышал только последнюю фразу. — Ладно, с прокуратурой спорить не будем. А то что не так — на нас свалят. Так, Игнат Филиппович? Тон у начальника был почти дружеский и слегка сочувственный, будто Трембицкий всегда сваливал на Сизова всякую напраслину, а сейчас он, Мишуев, этому воспрепятствовал. Сергей Анатольевич уехал первым, почти следом рванули машины прокурора области и генерала, потом уехали замы, начальники отделов. — Даю лишний час отоспаться, а к десяти — все у меня, — отдал Мишуев последнюю команду и хлопнул дверцей. Восемнадцатый километр пустел. Один за другим исчезали в ночи красные габаритные огоньки. Мягкие персональные «двадцатьчетверки» бережно несли к Тиходонску по одному пассажиру. Разбитые, пропахшие бензином «рафики» и УАЗы приняли в себя столько человек, сколько сумело втиснуться. На въезде в город, перед плакатом «Добро пожаловать в Тиходонск», шоссе перекрывал шлагбаум, и мигающий красный светофор загонял машины в длинный контрольный коридор, начало и конец которого чутко стерегли спрятанные до поры под землей стальные шипы спецсистемы «еж». Вооруженные автоматами усиленные наряды проверяли документы водителей, иногда заглядывали в багажники. Действовал режим операции «Перехват». Спецмашины не досматривали, и они без остановки прокатились между металлическими барьерами мимо стационарного поста ГАИ. В тускло освещенном аквариуме, как и положено, несли службу два дежурных инспектора дорожного надзора. Лиц их рассмотреть, конечно, было нельзя.2
В невод заградительных мероприятий попали два угонщика, «дальнобойщик», загрузивший свою фуру «левым» виноградом, восемь пьяных, водитель без документов на машину и владелец доверенности с просроченным сроком. В дежурную часть Центрального райотдела доставлен двадцатишестилетний рабочий «Эмальпосуды» Сивухин, который в сильной степени опьянения угрожал перестрелять оркестр ресторана «Рыба» из автомата. На развилке Восточного шоссе и московской трассы автомобиль «Волга»-такси на большой скорости проследовал мимо передвижного заградительного поста, не подчинившись сигналу остановиться. Лейтенант Нетреба произвел четыре выстрела из автомата, ранив водителя в нижнюю челюсть. Пассажиры не пострадали. Начато служебное расследование правомерности применения оружия. Утром, когда информация о событиях прошедшей ночи легла в суточную сводку происшествий, можно было сказать, что розыск «по горячим следам» результатов не дал: лица, причастные к преступлению на восемнадцатом километре, не установлены, угнанный автомобиль ГАИ не обнаружен. Оперативка у Мишуева началась только в одиннадцать. Ожидая начальника, сотрудники отдела борьбы с особо тяжкими преступлениями расселись в его просторном, недавно отремонтированном кабинете, сплошь обшитом светлой полировкой. Раньше достопримечательностью этого помещения был огромный дореволюционный несгораемый шкаф французского производства с патентованными запорами, секретными блокировками и часовым механизмом, гарантирующим защиту от самых квалифицированных «медвежатников». В новый интерьер бронированный монстр не вписался, по команде Мишуева два десятка пятнадцатисуточников, сдавленно, но внятно матерясь, сволокли его в подвал, где он дожидался в лучшем случае вечного забвения, а в худшем — острых расчленяющих факелов синего автогенового пламени. Место уникального сейфа занял типовой «шкаф металлический канцелярский», удачно уместившийся в мебельной стенке между отделением для одежды и книжными полками с традиционными собраниями сочинений классиков. Сизов, ставящий надежность и основательность несравненно выше преходящих красивостей моды, никогда бы не совершил подобного обмена. Он сидел в торце длинного приставного стола и, чуть склонив голову, смотрел на горячо обсуждающих вчерашнее происшествие Губарева и Фоменко. Приобретенная за многие годы оперативной работы способность ухватывать главное во внешности, манере поведения человека и обозначать его суть красноречивым псевдонимом, отражающим индивидуальность безымянного до поры до времени фигуранта, высветила в сознании подходящие псевдо: Двоечник и Гильза. Причиной первого была вечная виноватость Фоменко: заискивающая скороговорка, уклонение от любого спора, куриная привычка втягивать голову в плечи. Правда, так он держался в основном с начальством, иногда — с коллегами, а когда встречался с блатными, стереотип поведения резко менялся: развинченная дерзость, стремительные угрожающие движения, обильный жаргон. Почему Губарев ассоциировался с гильзой, Сизов объяснить бы не смог. Очевидно, дело в широких прямых плечах и некоторой округлости тела, обещающей к сорока годам легкую полноту. Сам Сизов, худощавый, костистый, с изборожденным морщинами загорелым лицом, крючковатым носом и цепким холодным взглядом маленьких желтоватых глаз, напоминал хищную птицу и вполне мог бы получить псевдо Гриф, если бы у него уже не было другого прозвища. За две минуты до начала совещания в кабинет ворвался запыхавшийся Веселовский — сильный, тяжелый и пробивной, как метательный молот. Ему повезло: Мишуев не терпел опозданий и неблагодарности, а он совместил эти грехи, не сумев довольствоваться дополнительным часом отдыха. — Что нового? — спросил Веселовский, не успев плюхнуться на стул, но ответа не получил, потому что наконец-то появился хозяин кабинета. — Не извиняюсь за задержку, все заседание руководства было посвящено вчерашнему происшествию, на ходу сообщил ой и, с озабоченным видом обойдя приставной стол, опустился на свое место. — Вы все включены в состав оперативно-следственной группы… Фразы получались значимыми и весомыми — сказывалась многолетняя тренировка. Имиджу Мишуев придавал большое значение. В любую жару ходил в костюме и галстуке, подчеркивая принадлежность к клану руководителей, имеющих отдельные кабинеты с кондиционерами. Держался вальяжно — неторопливо и очень уверенно. Правда, лицо было простоватым: маленький острый носик, выцветшие дугообразные брови, глазки-буравчики, тонкие губы. Но с тех пор, как руководителей перестали выводить, словно особую породу, в лицеях да закрытых корпусах, простецким лицом никого не удивишь. — Сейчас я изложу обстоятельства дела, которые были обсуждены на совещании у генерала… Говорил начальник отдела хорошо поставленным голосом, напористо и энергично. По мнению Сизова, умение убедительно докладывать и красиво выступать на собраниях явилось главным фактором его успешной карьеры. А неспособность анализировать обстановку и избегать стереотипов поведения помешала стать настоящим руководителем сыщиков. Сизов мог быть субъективным, но сейчас Мишуев действительно тратил время зря: сотрудники уже прочитали в сводке все, о чем он рассказывал. Подполковник говорил только для Веселовского, который с интересом следил, как кусочки мозаики восемнадцатого километра складываются в целостную картину. Но именно этот интерес и выдавал его с головой, а неумение Мишуева просечь, что лежит в основе такой заинтересованности, подтверждало мнение Сизова. Закольцевав цепь своих умозаключений, Игнат Филиппович Сизов, известный в уголовном мире под прозвищем Старик, удовлетворенно откинулся на спинку стула. — Работники ГАИ действовали профессионально-неграмотно: их не насторожило упорное нежелание останавливаться, отчаянные попытки уйти от погони, они продолжали думать, что имеют дело с обычными нарушителями, и не приняли мер предосторожности… Казалось, что сейчас Мишуев предложит наложить на убитых дисциплинарное взыскание. — И вот результат — Мерзлов застрелен, как только вышел из машины, Тяпкин получил смертельное ранение, по сумел отбежать на обочину и дважды выстрелить. Похоже, мимо… Мишуев сделал паузу, осмотрел всех по очереди — внимательно ли слушают. — Преступники захватили патрульный автомобиль и скрылись. На месте происшествия найдено семнадцать гильз от автомата Калашникова. В багажнике брошенной машины обнаружен труп неизвестного мужчины с ножевым ранением в спину. Мишуев палил полстакана крепкого чая из маленького потертого термоса, со вкусом отхлебнул. — На моем веку такого еще не было, — сказал Веселовский. — Ну и дела! Автомат, два убитых сотрудника, третий труп в багажнике… Как в Сицилии! Мишуев отставил стакан. — Что ж, с легкой руки Веселовского назовем розыскное дело «Сицилийцы». Но я жду от вас более плодотворных идей… Мишуев вновь оглядел подчиненных. Фоменко усиленно морщил лоб и писал что-то в большом отрывном блокноте. Веселовский напряженно постукивал пальцами по столу. Губарев рассматривал новенькую японскую авторучку. Сизов продолжал сидеть в прежней позе, никак не обозначая своей деятельности. — Преступление необычайно тяжкое, вызывающее, оно поставлено на контроль там… — Мишуев показал пальцем вверх, где находился высокий чердак с узкими сводчатыми оконцами и где заведомо никто ничего поставить на контроль не мог, потому что обитая железом чердачная дверь была постоянно заперта на огромный замок. Сизов скучал и ожидал момента, когда каждый получит свою линию работы и можно будет разойтись по кабинетам. — Мы должны раскрыть его любой ценой в ближайшее время! И я хочу, чтобы все это уяснили! Начальник обращался преимущественно к бездельничающему Сизову, как будто зная, о чем думает старший опер [2]. А думал Старик о том, что через два месяца Мишуев должен убывать на учебу в академию с перспективой дальнейшего роста. И конечно, хотя никакое преступление, даже самое тяжкое и вызвавшее большой общественный резонанс, этому теоретически не помеха, в реальной действительности при зависших «Сицилийцах» генерал его никуда не отпустит. Значит, год псу под хвост, а как сложится через год — тоже неизвестно… Хотя наоборот, известно! Ведь ему сорок один — предел по возрастным ограничениям. Последний шанс! — Больше месяца нам никто не даст! — сказал, как отрубил, начальник отдела. Сизов усмехнулся. Действительно, надо раскрывать за месяц. А если не будет раскрываться? — Что здесь смешного, Игнат Филиппович? — Да это я так… К началу учебного года можем и не успеть… Мишуев помолчал, потом ехидно улыбнулся. — Лишь бы до пенсии успели. Сизов отметил, что за последние годы подполковник научился владеть собой. А когда пятнадцать лет назад желторотый лейтенант Мишуев проходил у него стажировку, то багровел и срывался на крик от любого пустяка. Да и потом невыдержанность вписывалась ему в аттестацию неоднократно. — Переходим к распределению обязанностей. — Голос Мишуева был спокоен. — Веселовский занимается брошенным автомобилем — судя по номерам, он из Красногорского края, и следами на месте происшествия. Фоменко работает по розыску угнанной машины ГАИ. Сизов отрабатывает труп в багажнике. Установить личность, проверить образ жизни, круг занятий, выяснить привычки… Наверное, ему доставляло удовольствие растолковывать бывшему наставнику элементарные вещи, но Сизов долго не выдержал. — Товарищ подполковник, вы так подробно инструктируете меня, потому что я самый молодой? Или наименее опытный? Мишуев изобразил удивление. — Помилуйте, Игнат Филиппович! Мы уважаем ваш опыт, но речь идет о серьезной работе. Зачем же демонстрировать амбиции? Но раз вы считаете себя самым умным… Мишуев обиженно пожал плечами. — Губарев ищет очевидцев — может, кто-то проезжал в то время по трассе, стоял на обочине, ремонтировался… Понимаю, надежды мало, но надо использовать все шансы! Подполковник оглядел сотрудников еще раз. — Вопросы есть? Нет. Через час представить планы работы. Сейчас все свободны. Веселовский, вы задержитесь. Фоменко первым выскочил в двойную полированную дверь, лихорадочно закурил и медленно, поджидая остальных, побрел по обшитому под дуб коридору. — Кто же так останавливает подозреваемых? — на ходу возмущался Губарев. — Надо было приготовить оружие, один вышел к машине, а второй прикрывает… — Ты думаешь, они за преступниками гнались? — обычной скороговоркой спросил Фоменко, с силой выпуская табачный дым из угла искривленных губ. — Они за червонцем гнались! Правильно, Игнат Филиппович? Дерганный, нервный Фоменко был знаменит тем, что за двадцать летработы в розыске самостоятельно не раскрыл ни одного преступления. Он объяснял это невезением и давней травной черепа. Травма действительно имела место, причем в связи со службой, соответствующая запись в послужном списке выполняла роль индульгенции. Впрочем, и для начальства он был удобен. — Не знаю, — ответил Сизов и ловко завладел большим отрывным блокнотом. — Лучше покажи, что ты так внимательно записывал? На заложенном карандашом листе были коряво нарисованы машина, автомат и две фигурки, пересеченные точками. Кроме того, раз двадцать написано слово «дура-ля». — Да это я так, — привычно скривив губы, пояснил Фоменко. — Чтоб шеф по пристебался. Чего писать — дело ясное! Если б он сказал, где искать эту машину! — Через пару часов спустись в дежурку и узнаешь. — Думаете, найдут? Ну вы даете, Игнат Филиппович! Если опять угадаете, с меня бутылка! Распишу план — и все! «Задушевные» разговоры Фоменко вел особым, с хрипотцой и надсадой, «блатным» шепотом, приближая лицо вплотную к собеседнику. Губарев отпер полированную дверь. За ней дубово-панельное великолепие заканчивалось: предполагалось, что марафет в кабинетах оперсостава наведут во вторую очередь, в неопределенно-ближайшем будущем. Тусклые панели, растрескавшиеся потолки, унылая канцелярская мебель с инвентаризационными бирками из белой жести, непременные сейфы и решетка на окне. Таких одинаково безликих комнат насчитывалось в Тиходонской области около трехсот, по стране — тысячи. Они образовывали единую сеть, процеживающую через себя горе и боль одних людей, коварство и жестокость других. Истории, которые приходилось здесь выслушивать, не располагали к мечтательности и сантиментам, поэтому обитатели их отличались резкостью, решительностью, жесткостью и грубоватой прямолинейностью. Эти качества, старательно ретушируемые в книгах и фильмах про сыщиков, позволяли им успешно противостоять тем, кто затевал примитивно-кровавые «дела» в заплеванных притонах или на тюремных нарах, тем, кто строил хитроумно обдуманные планы в купленных на общак [3] особняках, словом, всему непризнаваемому пока официально, но оттого не менее опасному преступному миру — от мелкой уголовной шелупени до авторитетных воров в законе. Сизов прошел к своему столу, сел, вытащил из календарной подставки лист бумаги. — Сразу за план? — с уважением спросил Фоменко, пристраиваясь на подоконнике. — Я докурю и тоже пойду… Но идти работать ему не хотелось, и он озабоченно поинтересовался у задумавшегося Сизова: — Как же вы его будете устанавливать? По пальцам? А если в картотеке ничего нет? «Они ничего не поняли, — подумал Сизов. — Губарев по неопытности, Фоменко по глупости. Разве что Веселовский… Тоже вряд ли. Но ему-то шеф растолкует, что к чему…» — Чего его устанавливать, — вслух произнес Сизов. — Это хозяин машины… — Он взялся за телефон. Губарев перестал перекладывать в сейфе картонные папки оперативных материалов. — Почему? Может, хозяин сидел за рулем? А может, машина угнана, а труп случайный? — Если бы хозяин сидел за рулем, они не подняли бы сразу стрельбу, вначале попытались договориться. И потом — труп голый, уложен в специальный мешок, к ногам привязан камень — значит, готовились убить — и концы в воду! — А чего, правильно, — горячо зашептал Фоменко. — Все сходится… Губарев пожал плечами. — Если так, то почему начальник поручил такую простую линию вам? «Молодец, парень, в самую точку, — подумал Сизов. — Потому что настала пора показать: Сизов выработался и ни на что больше не годен». — Не знаю, — ответил он, набирая код Красногорска.Когда Веселовский остался с Мишуевым наедине, тот жестом предложил садиться поближе, тяжело вздохнул, ослабил узел галстука. — Александр Павлович, в этом розыске я целиком полагаюсь на вас. Веселовский смешался. — На меня? Я конечно… Но почему? — Объясню. Фоменко не хватает цепкости и настойчивости. Губарев молод, работает в областном аппарате без года неделю, кто остается? — Мишуев смотрел выжидающе, и чувствовалось, что он знает, каким будет ответ. — Как — кто? А Сизов? Мишуев опять тяжело вздохнул и развел руками. — Да, Сизов… Громкие дела, блестящие результаты, феноменальная способность прогнозировать развитие событий, неумение допускать ошибки. В управлении его прозвали сыскной машиной, его имя так обросло легендами, что разглядеть за ними реальность довольно трудно. Мишуев поднялся, обошел стол и сел напротив Веселовского, создавая непринужденную обстановку товарищеской беседы. — А реальность эта весьма печальна. Сизову пятьдесят три, пенсия на носу, и все, что было — в прошлом. Он хорошо работал, он взял Великана, ликвидировал группу Шебалина, по это уже история. Да, я стажировался у него зеленым юнцом пятнадцать лет назад, но сейчас я — начальник отдела, подполковник, а он так и остался старшим оперуполномоченным, майором. А почему? Отсутствие гибкости, неумение строить отношения с руководством, неумное ерничество. И вот результат — поезд ушел. Кстати, и прежних результатов в последние годы уже нет. — А Ровеньковская сберкасса? Мишуев небрежно взмахнул рукой. — Там больше сделали ребята из райотдела. Одним словом, Сизов выработал свой ресурс. Поэтому я и определил ему легкую линию розыска, пусть спокойно проводит время до пенсии. Мы же должны оберегать ветеранов! Мишуев снова встал и возвратился на свое место. — Самая перспективная линия работы — у вас. Если постараетесь, обязательно получите хороший результат. А успех поднимет на ступеньку выше других. В связи с моим отъездом в академию ожидаются некоторые перестановки. Я думаю рекомендовать вас начальником отдела. Мишуев наклонился вперед и перешел на доверительный тон. — Так что вы, как и я, заинтересованы в скорейшем завершении этого дела. И в том, что наши личные интересы совпадают со служебными, ничего плохого нет, скорее наоборот. Вы со мной согласны? Веселовский ошарашенно молчал, потом, опомнившись, кивнул. — Согласен. Постараюсь оправдать доверие. Голос у него был несколько растерянным, по Мишуев не обратил на это внимания. — Ну и отлично. А теперь запишите про запас секретный ход. Записывайте, записывайте, — доброжелательно поторопил подполковник замешкавшегося сотрудника. Он видел, что сделанное предложение выбило Веселовского из колеи и был рад этому: значит, заглотнул наживку, теперь будет землю рыть… Веселовский приготовил записную книжку. — Сивухин Алексей Иванович, — неторопливо, со значением, продиктовал Мишуев. — Рабочий «Эмальпосуды». На днях грозил расстрелять из автомата оркестрантов ресторана «Рыба». По пьянке, конечно. Но что у трезвого на уме… Может, у него есть из чего стрелять? Веселовский записал, но на лице его отчетливо отразилось сомнение. — Я поручил Центральному райотделу собрать материал и оформить его по двести шестой, второй [4]. Проследите за этим. А потом мы с ним поработаем по автомату «сицилийцев…» Сомнение на лице Веселовского не исчезало. Неужели шефу не ясно, что это заведомо дурная работа? Мало ли кто что болтает, когда напьется! Но, с другой стороны, Мишуев ничего не делает зря… Значит, у него свои резоны. Что ж, начальству видней! — Понял, — медленно произнес он и громко, уже без колебаний повторил: — Все понятно, товарищ подполковник! — Имей в виду, что для райотдела это мелочовка, могут не захотеть возиться, а карты им раскрывать я не хочу. Поэтому контролируй лично, если надо — сам подключись, но добей до конца. Проверь, как ведет по месту жительства, да и в ресторане он наверняка не первый раз скандалит… В общем, надо собрать все, что можно! Но это запасной ход. Главное, конечно, машина и место происшествия. Работай в контакте с Трембицким, если надо — давай поручения Фоменко. Сумеешь отличиться — назначу старшим группы. Ясно? Веселовский встал и принял стойку «смирно». Раньше он никогда этого не делал. — Все ясно, товарищ подполковник! Разрешите идти? — Идите. Веселовский четко, как на строевом смотре, повернулся через левое плечо и почти строевым шагом пошел к двери. Мишуев проводил его внимательным взглядом.
3
Предположения Сизова подтвердились: машину ГАИ обнаружили в тот же день брошенной в районе узловой железнодорожной станции за сто километров от Тиходонска. А в багажнике «шестерки» находился ее владелец Сероштанов — официант одного из красногорских ресторанов. — Ну дает, Игнат Филиппович! Как загадает, так и выходит! — блатным шепотом выразил свое восхищение Фоменко. — В получку ставлю бутылку, как обещано! Сизов съездил в Красногорск, побывал в расположенном на острове некогда модном, а ныне впавшем в запустение ресторане, где количество ежедневных драк превосходило число блюд в меню, опросил коллег убитого, потом переговорил с его соседями, родственниками, зашел в горотдел. Перед отъездом купил две палки копченой колбасы — снабжение здесь было получше. Тиходонск встретил обычными для лета пыльными бурями и отсутствием новостей. Тонкая пачечка протоколов, привезенная Сизовым в видавшей виды кожаной папке, тоже не содержала ничего интересного. И хотя это обычная ситуация для первого этапа розыска, факт оставался фактом: выполнив все, что положено, старший опер Сизов доказательственной информации не добыл, а значит, оказался в тупике. Никого не интересует, что место в тупике предопределено с самого начала отведенной ему линией розыска, да и оправдываться, ссылаясь на это, глупо — получится, что «плохому танцору всегда что-то мешает». Но Сизов никогда не оправдывался. И никогда не оставался в положении, в которое его ставила чужая воля. Сидя за своим столом, Старик меланхолично жевал бутерброд с привезенной колбасой и сквозь решетку смотрел во внутренний двор управления, где стоял серебристый «мерседес», изъятый у крупного деловика, возглавлявшего подпольный пушной цех. Губарев, который лихо расправлялся с бутербродами и одновременно заваривал кипятильником чай прямо в стаканах, считал, что старший товарищ обдумывает хитроумные планы поимки «сицилийцев». На самом деле Старик думал, что какая-то сволочь ободрала с арестованного «мерседеса» никелированные фирменные цацки, а поскольку посторонние здесь не бывают, значит, это дело рук своей, милицейской сволочи, точнее, твари, маскирующейся милицейским мундиром под своего. Скорее всего, кого-то из сержантов дежурной смены. Хорошо бы подловить пакостника и набить морду и, конечно, из органов — с треском. Но за это не уволят: мол, мелочь… А какая мелочь, если душа гнилая? Допив чай, Сизов написал на листке календаря несколько адресов и фамилий, протянул Губареву. — Поговори с ними аккуратно. Аккуратно, понял? Вначале от меня привет передай, это обязательно: так, мол, и так, Игнат Филиппович, Старик про жизнь да здоровье интересуется… А потом про автоматы поспрашивай: где, что, у кого, разговоры там, слухи, предположения… И без всяких записей — люди этого не любят. А листок потом мне вернешь. Понял? Губарев кивнул, похвалив себя за недавнюю проницательность. — Что же ты понял? — с некоторой брюзгливостью спросил Сизов. — Что надо сработать очень аккуратно, — смиренно, как и подобает старательному ученику, ответил Губарев, заглаживая развязную небрежность молчаливого кивка. Сизов хмыкнул: «Ну ладно, пошли». Сбежав по широкой мраморной лестнице и отдавив тяжелую, украшенную бронзовыми Щитами с мечами дверь, они окунулись в плотный разноцветный и шумный поток прохожих. В разгар рабочего дня по улицам города всегда катились толпы никуда не спешащих людей, стояли очереди у кинотеатров, не было свободных мест в кафе и ресторанах. Жители Тиходонска, служившего воротами Северного Кавказа и Закавказья, привыкли к такой особенности городской жизни, приезжие неизменно ей удивлялись. Сизов и Губарев прошли по главной улице два квартала до перекрестка, где людская воронка засосала их под землю в длинный кафельный коридор, стены которого украшали мозаичные панно на исторические темы. Богато отделанные подземные переходы были еще одной особенностью Тиходонска. Здесь Сизов, постоянно контролировавший обстановку вокруг, резко направился к сидевшему на холодном полу перед кепкой с несколькими медяками грузному человеку в клетчатой ковбойке, рукава которой были закатаны, чтобы обнажить розовые клешнеобразные культи. Из щелок опухшего лица выглядывали безразличные ко всему глаза, но когда Сизов подошел вплотную и, расставив ноги, сунул руки в карманы, взгляд инвалида приобрел осмысленность и колючесть. — Подайте, Христа ради, начальничек, — привычно забубнил он и пошевелил клешнями. Губарев пытался вспомнить статью, карающую за попрошайничество в общественных местах, и прикидывал, как сподручней выносить нарушителя, по Сизов, покопавшись в карманах, бросил в кепку несколько монет и, круто развернувшись, двинулся к выходу из перехода. — Спаси вас Бог от ножа, пули, лихого человека, — облегченно заголосил инвалид. Лейтенант догнал Сизова уже на лестнице. — Он вас знает, что ли? Сизов мотнул головой. — Чувствует. Нахлебался… Возле универмага сыщики расстались. Губарев направился к трамвайной остановке, а Сизов сел в троллейбус и через десять минут шел через небольшой сквер, неофициально называемый «клиникой», потому что вплотную примыкал к медицинскому институту. Когда-то сквер был совсем другим — сплошь заросший бурьяном, лопухами, кустарником, вьющимся между деревьями диким виноградом, с замусоренными до непроходимости аллеями и старательно разбитыми фонарями. Под высокий кирпичный забор, огораживающий мединститут, были стащены скамейки со всей «клиники». Вечерами в непроглядной темноте, под тоскливый вой собак из вивария и бодрые ритмы джаза с танцплощадки соседнего парка имени Первого мая, именуемого всеми попросту «Майский», на этих скамейках шла насыщенная жизнь, ради которой их и тянули, сопя и чертыхаясь, в самое глухое и труднодоступное место. Тогда не было баров и дискотек, плавучего буфета «Скиф» и видеосалонов, шальные деньги водились у немногих и тратились с опаской в специальных местах, нравы еще не успели испортиться и старая сотенная бумажка размером с носовой платок не могла служить универсальным ключом, открывающим любые двери. Развлечения были попроще и крутились вокруг «зверинца» — круглого бетонного пятачка, окруженного высокой решеткой, на которой, заплатив смехотворную по нынешним меркам сумму — трешку «старыми», можно было отплясывать шикарное танго и «развратный» фокстрот, а если франтоватые, держащие марку лабухи снизойдут к просьбам наиболее отчаянных голов и выдадут на свой страх и риск что-нибудь «ихнее», можно было подергаться под запрещенные ритмы, остро ощущая изумленные взгляды плотно обступившей решетку публики. А на тех скамейках под глухим забором за густыми кустами выпивали перед танцами для смелости вермута или портвейна, реже — водки, туда же ходили добавлять, когда хмель начинал проходить. Туда же вели разгоряченную танцами и объятиями партнершу, с которой удалось столковаться, и на «разборы» тоже выходили туда. Здесь же при неверном свете свечного огарка дулись в «очко» и «буру», здесь же ширялись редкие тогда морфинисты — слово «наркоман» в лексиконе тех лет отсутствовало. «Зверинец» в Майском и «клиника» считались в районе очагами преступности, хотя ножевые ранения случались не чаще двух-трех раз в год, а о жестоких беспричинных убийствах и слыхом не слыхивали. Потому почти каждый вечер трещали в «клинике» мотоциклы, шарили по кустам лучи тяжелых аккумуляторных фонарей, заливались условными трелями милицейские свистки. Сизов — молодой, с упругими мышцами и несбиваемым дыханием — начинал службу именно здесь, и ностальгический характер охвативших его воспоминаний объяснялся тоской по безвозвратно ушедшим временам, когда ничего нигде не болело, впереди была вся жизнь с находками, взлетами и победами… Пятидесятилетний Сизов, жизнь которого была почти прожита, а находок, взлетов и побед оказалось в ней гораздо меньше, чем ожидалось, усилием воли оборвал ленту воспоминаний. «Клинику» давно расчистили, заасфальтировали аллеи, осветили оригинальными «под старину» фонарями. Не стало глухого забора — прямо в сквер выходил фасад нового административного корпуса института, украшенный металлическими фигурами выдающихся лекарей всех эпох и народов. Пытающийся переключиться на приятные ощущения Сизов некстати вспомнил, что, когда административный корпус строился, в подвале было совершено убийство. Правда, раскрыть его удалось за два дня. Кафедра судебной медицины располагалась в старом, но крепком здании из красного кирпича с высокими узкими окнами. Дорогу заступил молодой длинноволосый парень в мятом белом халате. — Куда следуем? — фамильярно спросил он, давая понять, что без его разрешения попасть внутрь совершенно невозможно. — Мне нужен кто-нибудь из экспертов, — пробормотал погруженный в свои мысли Сизов. — Ну, я эксперт, — довольно нахально заявил парень и нахальство его было очевидным для всякого осведомленного человека, но, конечно, не для озабоченного невеселыми делами просителя, за которого он и принял Сизова. Старик вскинул голову. — А похож на сторожа или санитара. Иди, вари свое мыло, а то заставлю давать заключение по криминальному трупу. Парень не очень-то смутился. — Сегодня Федор Степанович дежурит, проходите прямо к нему, — как ни в чем не бывало произнес он и лениво посторонился. Не удалось произвести впечатление и не надо. Другим разом… Самоуважение у санитаров морга высокое, чему причиной соответствующие заработки. Побрить покойника, к примеру, тридцать рублей. Обмыть, переодеть, золотые мосты снять — полтинничек или еще поболе… Это только легальные доходы. А что скрыто делается за тяжелыми стальными дверями — кто ж углядит… Лидка-санитарка, правда, схлопотала выговорешник за отрезанную на шиньон косу, да коса мелочь… Сизов спустился в цокольный этаж, где находилось Бюро судебно-медицинской экспертизы, прошел по прохладному коридору, ведущему к серым стальным дверям с маленькими круглыми оконцами, круглосуточно светящимися тусклым и каким-то зловещим светом, без стука вошел в маленький, узкий, как пенал, кабинетик. Федор Бакаев был одним из ведущих экспертов и по неофициальному распределению обязанностей выполнял функции заместителя заведующего бюро, хотя штатным расписанием такая должность не предусматривалась. Небольшого роста, с мелкими чертами лица, аккуратной бородкой, он мог бы играть в фильмах роль интеллигентного участкового врача из сельской глубинки. Много лет Бакаев работал над диссертацией, но что-то не получалось, и его уже избегали спрашивать о времени возможной защиты. Сыщик и эксперт поздоровались. — Ты насчет трупа в багажнике? Как там его… Сероштанов? — Точно. Как догадался? — Больше у нас ничего подходящего для тебя нет. — И слава богу. Кто его вскрывал? — Да я и вскрывал. Сегодня отпечатал акт, Трембицкий уже два раза звонил… Бакаев, покопавшись в бумагах, протянул несколько схваченных скрепкой листов. Сизов, привычно выхватывая главное, пробежал бледный, малоразборчивый текст. — Значит, один душил веревкой, а второй ударил ножом? Бакаев кивнул, сосредоточенно разжигая спиртовку. — Кофе будешь? Сизов отказался. Он не был брезгливым или чрезмерно впечатлительным, но то, что находилось совсем рядом, в тускло освещенном помещении морга, оказывало на него угнетающее воздействие. С того момента, как он спустился в цоколь, в сознании то и дело проявлялась многократно виденная картина: белый кафельный пол, белые кафельные стены, серые каменные столы и главное — то, ради чего существовало все это: белые, синие, фиолетовые пустые телесные оболочки мужчин и женщин, детей и стариков, бродяг и начальников, уравненные отсутствием одежды, секционными швами, одинаковыми процессами тления, унизительностью положения объектов исследования, складируемых на полках ледника, на полу. Трудно поверить, но некоторых людей атмосфера смерти притягивает. До руководства бюро доходили слухи, а Сизов знал это наверняка, — по ночам к санитарам приходили бесшабашные приятели и экзальтированные подруги, веселились, пили водку или медицинский спирт, занимались сексом, и привычные выпивка и секс на пороге морга воспринимались совсем по-другому, близость трупов придавала остроту и пряность этим занятиям. Бакаев поставил на синее пламя огнеупорную колбу, по кабинету поплыл аромат кофе. Сизову казалось, что он смешивается с другим запахом, который просачивается сквозь тяжелые стальные двери, пропитывает стены, мебель, одежду, проникает в поры… Не терпелось выйти на свежий воздух. — Где его одежда? — бесстрастно спросил Сизов. — Трембицкий забрал, — усмехнулся эксперт. — Он тоже знает, где надо искать волокна наложения. — Подногтевое содержимое? — Ничего нет, — Бакаев перелил кофе в мензурку, сделал маленький глоток. Сизов встал. — Как говорится, и на том спасибо. Хотя я надеялся за что-то зацепиться… — Горячий, — эксперт поставил мензурку, посмотрел пристально, отвел взгляд. — Мне осточертели насмешки и подначки, — неожиданно сказал он. — Но если тебя заинтересуют антинаучные изыскания неудачливого диссертанта, то могу подбросить любопытный факт… Бакаев невесело усмехнулся. — Разумеется, он не охватывается официальными выводами экспертизы. — Давай, подбрасывай, — также бесстрастно сказал Сизов и сел. Эксперт протиснулся между столом и стеклянным шкафом со зловещего вида инструментами, съежился в углу над плоским металлическим ящиком, накрахмаленный халат обтянул спину, и Сизов впервые заметил, что эксперт сильно сутулится. — Вот они… — Бакаев вернулся на место, но сутулиться не перестал, будто на него давило нечто, связанное с зажатыми в руке картонными листами. Сизов не обнаружил ни малейших признаков любопытства. Бакаев протянул картонки ему. В середине каждой был приклеен лист фотобумаги. — Похоже? Сизов не торопясь взял желтоватый картон, внимательно осмотрел изображенный на фотобумаге вытянутый прямоугольник с кружками на концах. Так же основательно обследовал фотоизображение на второй картонке. — По-моему, одинаковые. — Я бы так категорично не сказал, но то, что похожи, — факт. — Бакаев забрал картонки, бросил на стол. — Не тяни резину. — Сыщику надоела маска отстраненного безразличия, но только тот, кто знал его давно, мог обнаружить, что сообщенное экспертом его заинтересовало. — Это отпечатки орудия убийства на коже потерпевшего вокруг раны. Один отпечаток — с трупа Сероштанова, который я исследовал позавчера. Второй — с трупа Федосова, убитого семь лет назад в Яблоневке. — Да? Ну-ка дай взглянуть еще раз… Уже не пряча эмоций, Сизов схватил со стола электрографические отпечатки.4
Вечером того же дня Мишуев проводил очередную оперативку. Обычно первым докладывал Сизов. Сейчас устоявшийся порядок был нарушен — начальник предоставил слово Веселовскому. — У них не действовали фары, что, видимо, и привлекло внимание патрульных. Неисправность объясняет захват автомобиля ГАИ — без света на ночном шоссе не разгонишься. — Логично, — кивнул подполковник. — Под ковриком обнаружено два окурка сигарет «Мальборо», слюна соответствует крови первой группы… Мишуев сделал пометку в блокноте. — Это очень важная улика. Только… Надо проверить, какие сигареты курил убитый. — «Мальборо», — негромко сказал Сизов. — Кровь у него первой группы. Мишуев резко отодвинул блокнот. — Продолжайте, Александр Павлович. Веселовский глубоко вздохнул и оглядел присутствующих. — Пригодных для идентификации отпечатков пальцев при первичном осмотре не обнаружили. Мы со следователем организовали повторный, привлекли экспертов, обследовали в салоне каждый сантиметр… И на зеркальце нашли половину оттиска большого пальца. — Не Сероштанова? — встрепенулся Мишуев. — Нет. Проверили по нашей картотеке — безрезультатно. Послали в Центральную. — Это уже кое-что, — Мишуев снова сделал запись. Сизов рассмеялся про себя. Повторный осмотр производил Трембицкий, искать отпечатки — дело следователя и эксперта. А Веселовский покрутился вокруг них и примазался к результату. Ну-ну! — Плохо, что отпечаток неполный, — продолжал Веселовский. — Формулу для машинного поиска вывести нельзя, надо перебирать весь архив вручную. Можно забуксовать надолго… — Буксовать нам нельзя! — встревожился Мишуев. — Не цепляйтесь только за отпечаток, ищите другие пути! — Может, дадим объявление по телевидению? — предложил Сизов. — А как это воспримут люди? — спросил подполковник. — Да так и воспримут: совершено преступление, милиция обращается к населению за помощью. Нелепых слухов убавится. Глядишь, и подскажут… — В обкоме не одобрят такую авантюру, упрекнут в политической близорукости. И будут правы, — покачал головой Мишуев. — Не они же отвечают за раскрытие. И не они специалисты в розыске… — буркнул Сизов. Фоменко наклонился к Губареву и громко прошептал: — Во дает! Мне три года до выслуги, я ничего не слышал… — Ставить вопрос должен профессионал. И настаивать, объяснять, убеждать… — продолжал гнуть свою линию Старик. — Я не желаю прослыть демагогом, — сухо сказал Мишуев. — Хватит строить воздушные замки, давайте говорить конкретно, по делу. Он повернулся к Веселовскому. — Что еще у вас? — Автоматные гильзы тоже направлены в Центральную пулегильзотеку вместе с запросом о фактах пропажи оружия. У меня пока все. — Хорошо! — с преувеличенной бодростью произнес Мишуев. — Веселовский показывает пример настойчивой, целеустремленной, а главное, умелой работы. Когда я был начальником уголовного розыска в райотделе, все мои подчиненные работали так, как он. И раскрываемость составляла почти сто процентов! Сейчас дело обстоит хуже… У Фоменко и Губарева, судя по рапортам, результаты нулевые, докладывать им нечего. Правда, может, у Сизова есть что-то, кроме прожектов? Кто-то видел, как преступники садились в машину Сероштанова? Или он рассказал, кого собирается везти? Сизов уже понял, что к чему. Итак, начальник вытягивает Веселовского и опускает его. Что ж, это логичное развитие замысла… — К сожалению, так почти никогда не бывает. Сероштанов — официант красногорского ресторана, знался со спекулянтами, фарцовщиками, сам не попадался. Занимался частным извозом, специализировался на международных рейсах. Кого вез в этот раз, выяснить не удалось… — Жаль, что у самого опытного нашего сотрудника тот же нулевой результат, — сдерживая улыбку, сказал подполковник. — Думаю, что в сложившейся обстановке все должны переключиться на перспективную линию Веселовского. А Александр Павлович возглавит работу и определит задания каждому. — Разрешите продолжать? — хладнокровно спросил Сизов. — Разве у вас есть что-то еще? — удивился Мишуев. — Продолжайте, мы вас внимательно слушаем. Удивился он искренне: что может рассказать человек, упершийся в тупик? Разве что напустить туману. — Я встретился с судебно-медицинским экспертом Бакаевым. Он работает над диссертацией о возможностях электрографического исследования ранений для определения формы и особенностей орудий, которыми они причинены. Смертельное ранение Сероштанову нанесено клинком односторонней заточки, длина двенадцать с половиной сантиметров, ширима — полтора. На коже эксперт выявил отпечаток ограничителя характерной формы с шариками на концах. — Почему этого нет в акте вскрытия? — насторожился Мишуев. — И что это означает? — Признаки оружия позволяют определить его тип: фирменный автоматический нож, в котором ограничитель раскрывается одновременно с выбрасыванием клинка. В наших условиях вещь довольно редкая. Мне, например, не попадалась ни разу. — Что же, это может сыграть определенную роль… — Мишуев повернулся к Веселовскому. — Александр Павлович, отметьте особенности орудия убийства, вдруг да выплывет где-нибудь… — Я не закончил, товарищ подполковник, — холодно сказал Сизов. Мишуев прервался на полуслове. — Необычность ножа привлекла внимание Бакаева, ему показалось, что он уже встречал такой. Перебрал свою картотеку — у него почти тысяча электрографических отпечатков — и нашел! Семь лет назад он делал экспертизу по убийству Федосова на Яблоневой даче, все параметры ножей совпадают! — Вот это да! Недаром говорят: сыскная машина! — горячечно зашептал Фоменко. — Да, Игнат Филиппович из-под земли улику выкопает, — довольно кивнул Губарев. — Речь может идти о совпадении общих признаков, по не о полной идентичности, — равнодушно сказал Веселовский. — Мало ли похожих ножей! — В том-то и дело, что мало! — в полный голос сказал Фоменко. — Я тоже ни одного не встречал. — Это не аргумент! — бросил Веселовский. В его тоне появились новые нотки. Мишуев некоторое время безразлично наблюдал за спором, потом постучал связкой ключей по столу. Когда наступила тишина, обратился к Сизову. — Дело подняли? — Еще не успел. — И не трудитесь зря. — Подполковник повысил голос. — Я лично раскрыл это убийство! Тогда еще был старшим опером в районе, двое суток не ел, не спал, а на третьи взял некоего Батняцкого — большой мерзавец, между нами говоря. Дали ему, если не ошибаюсь, двенадцать лет. — Вот и редкий нож! — хмыкнул Веселовский. — Нашли аргумент… Мало ли в жизни совпадений! — Разобрались! — Мишуев прихлопнул ладонью свой блокнот. — Капитан Веселовский ставит задачу каждому — и вперед! Времени нам терять нельзя! — Да, чуть не забыл, — сказал начальник, когда вес уже встали. — Звонили из отделения боевой подготовки: завтра майор Сизов должен провести занятия в роте специального назначения. С учетом этого, Александр Павлович, определите нашему ветерану задание уменьшенного объема. — Понял, — отозвался Веселовский. — Сейчас все собираемся у меня — распределим работу. Он еще избегал подчеркивать свою руководящую роль, по опытный Фоменко в коридоре придержал за рукав Губарева. — Видал, что делается, — заговорщически прошептал он. — Власть меняется, Веселовский уже главнее Филипыча… Видно, и вправду его скоро того… На пенсион. Так что соображай… — Чего мне соображать? — холодно спросил Губарев, отстраняясь. — А того, — снова придвинулся Фоменко. — Ты с ним и на обод вместе и с работы вдвоем. Начальству это не нравится. — Ты это всерьез? — Губарев впервые обратился к старшему коллеге на «ты», и в голосе отчетливо сквозило презрительное недоумение, которое Фоменко почувствовал. — Да ты не так понял, — зачастил он. — Что я, негодяй какой? Или Филипычу зла хочу? Я ж о тебе думаю! Ты молодой, жизни не знаешь. Он-то уйдет, а тебе работать… Губарев нехорошо выругался и вырвал руку.5
Специальная рота отрабатывала операцию «Тайфун». По третьему варианту: захват вооруженных преступников, скрывающихся в отдельном здании. Макет здания — обшарпанная двухэтажка из красного некондиционного кирпича располагалась на краю, полигона. Внешне она практически не отличалась от большинства домов центральной части города и могла легко вписаться в унылый ряд построек старого фонда на любой улице: Трудовой, Социалистической, Красногвардейской. Даже поклеванный пулями фасад жилищно-коммунальные власти привычно объяснили бы боями за освобождение Тиходонска в грозном 1942-м да недостатком средств на текущий и восстановительный ремонты во все последующие годы. Сейчас видавшая виды стена не брызгала острыми фонтанчиками красного крошева и не отбрасывала зло свистящих в рикошете пуль: вместо обычных дистанционно управляемых фанерных фигур преступников изображали добровольцы из первого взвода, поэтому стреляли холостыми. Несмотря на это, все были в бронежилетах под маскировочными комбинезонами и в касках, обтянутых камуфляжной тканью — как при настоящей боевой операции. Только командир спецроты майор Лесков остался в лихо заломленном черном берете. Он стоял на рубеже атаки за кирпичным, по грудь бруствером, наблюдал, как члены группы захвата, прикрывая бронещитами головы и старательно прижимаясь к земле, смыкали кольцо вокруг осажденного дома, как группа прикрытия меняла позиции на более выгодные, как рассредоточивалась в ожидании команды группа резерва. Время от времени он прикладывался к биноклю и рассматривал забаррикадированные деревянными щитами, досками и всяким хламом оконные проемы, из которых глухо дудукали короткие очереди. — Поймал, наконец? — азартно искривил рот майор, не отрываясь от бинокля. Сидящий на скомканном масккомбинезоне Сизов увидел, как тускло блеснули пластмасса и сталь коронки и вспомнил, при каких обстоятельствах Лесков потерял три зуба. — Нет ни черта! — отозвался снайпер, стоявший на колене справа от командира, там, где кирпичный бруствер уступом снижался до метровой высоты. Тонкий ствол малокалиберного карабина с оптическим прицелом напоминал комариное жало. — Два окна слева и крайнее правое, очереди. Они меняют друг друга. Смотри внимательней, это тебе не мишени на веревочках! Негромко пропел зуммер вызова. — Первый, я третий, их двое, прием. Майор Лесков поднял с кирпичной стенки изящный, как игрушка, датский приемопередатчик с короткой, обтянутой резиной антенной. Кроме спецроты, таких купленных на валюту штучек ни в одном подразделении не было. — Возьмешь — подсчитаешь. Доложи готовность, прием. — Готовность три минуты. Через минуту — «Черемуха», через две — ДШШ [5] и сразу — собак. У меня все. — Пятый, ко мне, — скомандовал Лесков в микрофон. — Седьмой, готовьте Диану и Креза, после взрыва — пускайте! — Есть. Вас понял, — разными голосами ответила рация. Почти сразу сзади подбежал еще один снайпер и плюхнулся рядом со своим коллегой. — Приготовиться, — сказал ему Лесков, следя за секундной стрелкой. — Верхний этаж — крайние окна слева и справа. И нижний — в середину, на всякий случай. Второй снайпер изготовился. Ствол специального карабина по толщине напоминал полуторадюймовую водопроводную трубу. — Огонь! — резко скомандовал Лесков. Карабин грохнул, как охотничье ружье, снайпер левой рукой передернул скользящее цевье — вылетела картонная, опять же словно охотничья, гильза. Снова грохот выстрела, снова рывок цевья, дымящаяся гильза шлепнулась рядом с Сизовым, и он поспешно отшвырнул ее в сторону. Ударил третий выстрел. — Верхние зарядил оба, а в нижнее смазал, — командир роты опустил бинокль и снова смотрел на часы. Из верхних окон валили клубы слезоточивого газа. — Они просто щит подставили, смазать я не мог… — пытался объяснить второй снайпер, по Лесков не слушал. — Внимание всем, беречь глаза, — сказал майор в рацию и присел за бруствер. Возле осаждаемого дома раздался резкий взрыв и, как знал отвернувшийся в сторону Сизов, сверкнула ослепляющая вспышка. Тут же ударили автоматы группы прикрытия. Операция вступила в завершающую фазу, и хотя облако дымовой завесы скрывало сцену штурма, Сизов хорошо знал, что там происходит. Вскоре из начавшего редеть дыма бойцы группы захвата выволокли трех закованных в наручники «преступников» и, аккуратно уложив в ряд на траву, с облегчением сбрасывали противогазы. — Я его два раза через окно достал. — Диана за штанину схватила, хорошо, успел ногу отдернуть… — Надо было без «Черемухи», и так никуда бы не делись… Возбужденно гомонили победители, недовольно бубнили что-то под резиновыми масками задержанные. Наконец, с них сияли противогазы, освободили от наручников. — Колька голову прикрыл, а зад выставил, думает — туда пуля не достанет… — С оцеплением затянули, мы могли через заднюю дверь уйти… — Петька, гад, в следующий раз будешь бандитом, я тебе тоже так руку выкручу… — А вообще ничего, нормально сработали. Кинолог нейтрализующим раствором промывал глаза повизгивающим собакам. — Товарищ майор, зачем животных в «Черемуху» загонять? — недовольно обратился он к Лескову. — Думаете, им не больно? Ну если по необходимости, а сейчас-то? — Ладно, не бурчи, — хлопнул его по плечу командир. — Бывает, и людей не получается жалеть. А на псах твоих все вмиг заживет! Лучше скажи, Шмелева не видел? — Здесь я! — вынырнул откуда-то сбоку юркий крепыш с перепачканным сажей лицом. — Ну, посчитал? — насмешливо спросил майор. — Сколько же их — двое или трое? — Так они хитрили — один не стрелял! — крепыш рукавом комбинезона вытер подбородок и щеки. — А когда взяли, ошибка и поправилась! Он довольно засмеялся и подмигнул Сизову. — Что скажете, Игнат Филипыч? По-моему, норма! — Учитывая, что объекты специально подготовлены… Опять же — противогазы… — Сизов кивнул. — А что на третий вариант твой снайпер малокалиберку взял вместо СВД [6] — тоже норма? — наседал Лесков. — Не трамбуй меня, командир! По мелочам накопать всегда можно, по в главном-то порядок! А снайпера будем воспитывать. — Ладно, разбор потом проведем, — по-прежнему казенно сказал Лесков. — Строй людей. И, повернувшись к Сизову, вздохнул: — Вот такого разгильдяя я сделал своим заместителем! Топ, которым эта фраза была произнесена, перечеркивал предыдущую суровость и придирчивость командира к подчиненному. Напротив, выдавал, что между ними существуют давние неофициальные отношения. Впрочем, Сизов и так знал: Витька Лесков и Юрка Шмелев дружат с детства. Пятнистые комбинезоны выстроились в шеренгу, майор Лесков представил Сизова и передал ему командование. Тот поставил бойцов полукругом лицом к дому, взял у комроты и его зама пистолеты, приказал выставить мишень в окне второго этажа. — При штурме здания, любого другого укрытия, чтобы подавить огонь объектов задержания, деморализовать их, делаем так… Старик зажал в каждой руке взведенный пистолет. — Левой ведем отвлекающий огонь: можно вверх, можно над головами, можно в сторону противника, но не сосредоточиваясь на прицельности, и двигаемся вперед, а правую держим для стрельбы на поражение. Показываю… С неожиданной быстротой Старик бросился к зданию, подняв левую руку и разряжая обойму в чистое голубое небо. Когда затвор застрял в заднем положении, обнажив половину короткого ствола, он один раз выстрелил с правой, и мишень в проеме окна исчезла. — Вот так, — скрывая одышку, Старик вернулся к строю. — Кто берется повторить? Потом он показал такой же прием, по с автоматами, приклады которых зажимал под мышками. Зрелище было эффектным, но желающих повторить упражнение не нашлось. — Управляться с ними сложновато, — согласился Старик, — но выучиться можно. Только на холостых надо долго работать, иначе сам искалечишься, да и других положишь. Смотрите, показываю еще раз… Рота спецназначения восторженно гудела. Старик продемонстрировал стрельбу из автомата от бедра, приемы ухода с линии выстрела противника, прицельную стрельбу из пистолета. — То, что написано в наставлениях, годится для тира, по не для улицы. Когда пуля летит параллельно земле на уровне груди, то о прицеливании по вертикали можно не думать. Остается горизонтальное отклонение. Если держать пистолей двумя руками, его убираешь быстрее и надежней. Старик присел на широко расставленных ногах и, поддерживая левой рукой рукоять пээма, несколько раз выстрелил. — На что похоже? На западный боевик? Верно, американские полицейские именно так и стреляют. Кстати, — обратился он к Лескову, — фанерные мишени не дают правильного восприятия цели. Мишень должна быть объемной. Сделайте мешки с песком или опилками, тогда будет лучше ощущаться дистанция, да и пулю чувствуешь, можно контролировать промах, вносить поправки… — Сделаем, Игнат Филиппович, — кивнул майор. — Чучела изготовим. В одежде, чтоб все натурально. Он повернулся к бойцам. — Нравится такая огневая? — Класс! — отозвались пятнистые комбинезоны, а здоровый рыжий парень в десантной тельняшке, выглядывающей через распахнутый ворот, выкрикнул: — Это наша работа, ей и учиться надо! А все эти лекции по международному положению… Пусть их замполиты слушают… — Ты это брось, Борисов! Ты же не придаток к дубинке; бронежилету и автомату! Должен работать над собой, развиваться, повышать культурный и политический уровень, — скучным голосом произнес командир. — На то есть газеты, радио и телевизор, — дерзко парировал рыжий. — Смирно! — рявкнул Лесков. — На первый, второй рассчитайсь! Первые номера два шага вперед, шаг влево, кругом! Свободный спарринг — десять минут. Приготовились! Пятнистые комбинезоны, оказавшиеся в парах лицом друг к другу, привычно приняли боевые стойки. — Начинай! — майор рубанул рукой воздух. — И-е-е-я!! — пронзительно разнеслось над степью, и пятнистые шеренги сомкнулись. Удар, блок, контратака, захват, бросок… — И-е-е-я! — пугающий крик должен деморализовать противника и поднять боевой дух атакующего. Рука, нога, перехват, кульбит с выходом в стойку, подсечка… — Тигры, — довольно сказал Лесков, улыбаясь левой половиной рта, где были выбиты зубы. Вблизи отчетливо выделялся шрам, пересекающий губы и переходящий на подбородок, который придавал лицу командира зловещее выражение. — Их шпана боится куда больше, чем пэпээсников[7]. На днях возле «Рака» окружили патрульную машину, чуть не перевернули, хотели задержанного отбить… А наши подъехали — разбежались кто куда. Потому что знают… Командир роты оглянулся по сторонам и понизил голос. — А Борисов в общем-то прав. Мы с Юрой увеличили объем служебной и боевой подготовки за счет политзанятий. Конечно, втайне от политотдела. — Понятное дело, — отозвался Сизов. — Но если узнают, вдуют тебе по первое число. — Наверно, так, — согласился майор. — А пока довольны. Как какая экскурсия, делегация — журналисты там, депутаты, иностранные гости, — всех к нам! Я уже составил вроде концертнойпрограммы: номер один — захват преступника, номер два — прием против ножа, помер три — против пистолета, номер четыре — прыжки через несколько человек с выходом в стойку, номер пять — то же с поражением штыком деревянной мишени… Ну, в общем, все: работа с дубинками, скоростная стрельба. Теперь отработаем эту вашу штучку с автоматами — поставим гвоздем программы. А пока у нас «коронка» такая: кладем на подставки кирпичи, обливаем бензином и поджигаем. Человек пять по команде — бац! Голой рукой прямо в пламя — и кирпичи вдребезги, только горящие куски во все стороны! А потом Борисов, этот рыжий амбал, выходит с двумя бутылками и со зверскими криками разбивает их о собственную голову, одну за другой! И оскольчатыми горлышками ведет бой с тенью. Он служил в спецназе [8], там этим штукам и выучился. А гости — в полном восторге. Лесков взглянул на часы. Еще минута. — Дал бы отбой. Они выкладываются изо всех сил. — Сизов тоже посмотрел время. — Мне нужно в город. Машина есть? — Найдем, — майор кивнул. — А что до отбоя, то боец специальной роты не должен уставать. Наоборот, есть будут с большим аппетитом. Кстати, и вас без обеда не отпустим. Тем более, сейчас везде начинается перерыв, так что спешить некуда. Лесков еще раз взглянул на циферблат. — Внимание! — рявкнул он. — Прекратить бой! Отдых — десять минут. Бешено раскрученное колесо рукопашной схватки мгновенно остановилось. Фигуры в маскировочных комбинезонах опустились на траву. Чувствовалось, что лесковские тигры все-таки устали. Только один боец остался на ногах и направился к командиру. Когда он подошел ближе, Сизов рассмотрел, что это Шмелев. Комбинезон замкомроты был расстегнут, на нем выступили мокрые пятна, и казалось, что от тела должен идти пар. — Опять не удержался? — насмешливо спросил Лесков. — Ты же сейчас уже руководитель, твоя задача наблюдать, контролировать, поправлять. А ты по-прежнему ввязываешься в спарринги! — Усложнял задачу, — улыбаясь, ответил Шмелев, и было видно, что он почти не запыхался. — Если кто слабее — становился на его сторону. Ну и сам попробовал против нескольких… Две пары держал… Шмелев удовлетворенно облизнул пересохшие губы. — Воды не взяли, жалко… Ну да сейчас подойдет автобус… Вскоре привезли обед. Специальная рота, сидя по-турецки, мгновенно выхлебала из алюминиевых мисок густой борщ, умяла котлеты с картофельным шоре и выдула несколько ведер компота. Сизов пристроился на пустом ящике от взрывпакетов — на голую землю его не тянуло, да и ноги не складывались, как раньше, пожалуй, и в полулотос он бы уже не сел. Рядом отдыхали Лесков и Шмелев. Глядя на их лица, Сизов подумал, что вряд ли какому-нибудь хулигану придет в голову даже спьяну пристать к Виктору или Юре. Да и припозднившийся прохожий в темном переулке не обрадуется, если кто-то из них попадется навстречу. Он усмехнулся. — О чем вы, Филипыч? — спросил Лесков. Сизов помедлил с ответом. — Да вот смотрю на твоих парней. Знаешь, что это все мне напоминает? — Сизов обвел рукой вокруг. Пятнистые комбинезоны снова наполнились силой. Некоторые играли в ножички, некоторые устраивали шутливые схватки: кто-то выкручивал товарищу ногу, кто-то обозначил тычок растопыренными пальцами в глаза соседу, но был пойман за кисть и скручен в бараний рог, кто-то набивал о землю ребро ладони. — Интересно, — сказал Лесков. — Кизетериповский питомник, — еще раз усмехнулся Сизов и тут же добавил: — Только без обид. В Кизетериновке находилась школа служебно-розыскных собак. — А чего обижаться, — комроты пожал плечами. — У каждой службы своя задача. У нас — гнаться, хватать, не пускать, драться, обезвреживать. И у овчарок примерно то же… — Только они стрелять не умеют, — хохотнул Шмелев. — И противогаз никак не наденут. Да и вообще — наш парень с несколькими овчарками справится. Реакция обоих была ненаигранной: обижаться они и не думали. Рыжий Борисов принес из автобуса гитару, расчехлил ее. Пятнистые комбинезоны подсели ближе. — У нас скоро бронетранспортер будет, — продолжал Лесков. — Сейчас можем у военных одалживать, но лучше свой иметь. И вертолет хочу свой. — Чего играть-то? — подстраивая инструмент, спросил Борисов. — «Чужие долги», «Реквием пехоте», «Про настоящих мужчин», — посыпалось со всех сторон. — Давай «Песню обреченного десанта». — Голос Лескова перекрыл возникший гомон. — Желание начальника, сами понимаете, закон для подчиненного, — рыжий здоровяк сделал пробные аккорды. Шум стих.6
В примыкающей к дежурной части комнате для допросов задержанных Центрального РОВД Фоменко «прессовал» Сивухина — хулигана из «Рыбы». — Люди в ресторан отдохнуть ходят, а ты свое блатовство показать? — тихо, по-змеиному шипел Фоменко, и губы его зловеще кривились. — Кому хочу — в морду дам, кого захочу — отматерю… Так?! Он замахнулся и, когда Сивухин отпрянул, грохнул кулаком по столу. — Боишься, сука! А там не боялся? Там ты смелый был, на всех клал с прибором, — опер пригнулся к столу, как зверь перед прыжком, и снизу гипнотизирующим взглядом впился в бегающие глаза допрашиваемого. — И думал всегда при таком счастье на свободе кейфовать… Да?! Фоменко снова замахнулся. Он «заводил» сам себя, и сейчас бешенство его стало почти не наигранным, в дергающихся углах рта собралась пена, зрачки маниакально расширились. — Да я тебя в порошок сотру, падаль поганая! Ты у меня будешь всю жизнь зубы в руке носить! Он перегнулся через стол и ткнул-таки кулаком в физиономию хулигана, но тот снова отпрянул, и удар получился несильным. — Ну чего вы, в натуре, — плачущим голосом заныл Сивухин и принялся усердно растирать скулу, демонстрируя, что ушибленное место нестерпимо болит. — Чего я сделал такого особенного? Ну чего? Скажите, я извинюсь… — Вот и молодец! — Фоменко выпрямился, лицо его приняло обычное выражение, и он даже доброжелательно улыбнулся. — Я знал, что мы найдем общий язык. Ты парень-то неглупый. Раз попал — надо раскаяться и все рассказать. Закуривай… Он любезно протянул распечатанную пачку «Примы», подождал, пока трясущиеся пальцы задержанного выловят сигарету, встал, обошел стол и чиркнул спичкой. Настороженно косясь, Сивухин прикурил. — Да чего рассказывать-то? — После нескольких затяжек он расслабился, и в голосе прорезалась обычная блатная наглеца. — Двое суток на нарах, а за что? Хоть бы пальцем кого тронул… — Не помнишь, значит? — Фоменко присел на край стола, нависая над допрашиваемым, отчего тот должен был чувствовать себя неуютно. К тому же, когда держишь голову задранной, затекает и деревенеет шея, устает спина, очень хочется сменить позу. — Ну так я тебе расскажу… — Фоменко тоже закурил, но из другой пачки: не дешевую «Приму», а фирменные «Тиходонск». — Двадцать шестого апреля ты нажрался в «Рыбе» до потери пульса, обругал матом гражданина Костенко, который находился при исполнении служебных обязанностей, приставал с циничными предложениями к гражданке Тимохиной и ударил ее по лицу. Фоменко выпустил дым в лицо Сивухину. — Вот тебе эпизод номер один. Злостное хулиганство. Статья двести шестая, часть два. До пяти лет. — Да не было ничего этого! — Сивухин от возмущения сорвался на фальцет. — Не знаю никакого Костенко и Тимохину эту в глаза не видел! Это кто-то чернуху прогнал. Какие, на хрен, служебные обязанности? — А швейцара дядю Васю не помнишь? — вкрадчиво спросил Фоменко и снова целенаправленно пустил струю дыма. — Хромого, что ли? — вскинулся задержанный. — Он меня из бара вытолкал и таких хренов насовал… И я его разок послал. — Вот-вот. А человек на государственной службе! Сивухин скривился. — Знаем, знаем… Тридцатник за бутылку! А Тимохина — это небось Лидка? Это к ней я, выходит, приставал? Да ее все знают, у ней даже прозвище Щека! Трояка не было, а она выделывалась! — Значит, первый эпизод признал полностью. — Фоменко удовлетворенно улыбнулся. — А всего их ровно восемь. Как раз под пятерик и выйдет! Казалось, в маленьком кабинетике воздуха не осталось — только сизый, расплывшийся слоями табачный дым. Сквозь него слабо светила и без того тусклая лампочка из-под давно не беленного потолка. Ядовито-горький туман обволакивал человеческие фигуры — сидящую на привинченном к полу табурете и облокотившуюся на исцарапанный, перепачканный чернилами стол. Фигуры размывались, теряли четкость очертаний, казалось, и квадраты решетки на окне проступают не через матовое стекло, а сквозь вязкую белесую массу, заглушающую бормотание дежурного за фанерной перегородкой. Сгустившийся до ощутимой плотности дым забивал нос, горло, легкие, застилал глаза. — Ты что, приход поймал? — Черная рука протянулась из табачного облака, вцепилась в рубаху на груди, несколько раз встряхнула. Сивухин пришел в себя. — Жидкий на расправу! — довольно сказал Фоменко. — Чуть придавлю, и расколешься до самой жопы. — За что пятерик? — с трудом выговорил Сивухин. — Ведь все так делают! И Хромого матерят, и друг с другом лаются, и Щеку колотят! Чего же вам от меня надо? — Вот это молоток! — Фоменко наклонился совсем близко. — Отдай автомат — и все! Я тебе явку с повинной оформлю, гуляй на все четыре стороны… Сивухин отквасил челюсть. — Ка-ка-какой автомат?! — Тот самый, из которого грозил перестрелять весь оркестр, — буднично пояснил Фоменко. — Наших позавчера на трассе покрошили, слыхал небось? А ты проболтался про свою машинку. Сам виноват! Теперь отдавай — подтвердится, что не из нее, — и порядок. А хранение, так и быть, я тебе прощу… — Да нет у меня никакого автомата! — заверещал подследственный. — Мало чего по пьянке наболтаешь! Кастет был, сам отлил, финка дома есть… — Ты туфту не гони! — рявкнул Фоменко. — Финка уже у нас! А где автомат? Говори, сука!! Он с маху, но расчетливо, чтобы не оставить следов, отвесил хулигану затрещину. — Не понимаешь, что за убитых сотрудников спуску не будет! Я у тебя его вместе с печенкой выну! Ядовитый туман в комнате для допросов становился все гуще. Автобус спецроты довез Сизова почти до Центрального райнарсуда. Он прошел полквартала, перешел улицу и нырнул в пропахший сыростью подъезд старого и безнадежно обветшавшего здания. Здесь был только один зал заседаний, потолки которого наглядно свидетельствовали, что канализационные трубы второго этажа тоже давно пришли в негодность. Небольшие дела приходилось слушать прямо в клетушках кабинетов, где судья и заседатели теснились за одним столом, прокурор и адвокат сидели плечом к плечу между сейфом и окном, секретарь вела протокол на подоконнике, подсудимый стоял в углу рядом с вешалкой, а свидетель мялся у двери и после допроса выкатывался в коридор, где под плакатом «Судьи независимы и подчиняются только закону» томились родственники подсудимого и другие свидетели. Сизов протиснулся к обитой черным дерматином двери и, не обращая внимания на табличку с расписанием приемных часов, вошел в канцелярию. За деревянным, отполированным животами и локтями просителей барьером сидели неприступные в осознании своей значимости молодые девушки. Сизова некоторые знали, поэтому суровые личики смягчились, и архивариус согласилась, несмотря на неурочное время, отыскать нужное дело. — Только завизируйте запрос у Петра Ивановича, а то сейчас у нас с этим строго… Запроса на выдачу дела у Сизова не было, он сел к длинному столу и на официальном бланке написал: «Председателю райнарсуда Центрального района г. Тиходонска т. Громакову П. И. В связи с оперативной необходимостью прошу выдать для ознакомления ст. о/у майору Сизову архивное уголовное дело по обвинению Батняцкого. Начальник отдела УУР УВД Тиходонского облисполкома Мишуев». Поставив перед словом «начальник» вертикальную черточку, означающую, что документ подписывается другим лицом, Сизов резко черкнул свою фамилию. У двери председателя майор остановился, постучал, дождался ответа и лишь после этого вошел. Он знал, что районные начальники очень чувствительны к знакам признания их авторитета. — Что у вас? — Громаков оторвался от бумаг. Когда-то он работал следователем прокуратуры, пару раз они встречались на местах происшествий и знали друг друга в лицо. Но сейчас никаких признаков узнавания председатель не проявил. — Надо посмотреть архивное дело. — Сизов протянул запрос. — Давайте. — Громаков положил бумагу перед собой, занес ручку для резолюции, на мгновенье задержал ее, пробегая глазами текст. Пауза затянулась. Громаков отложил ручку и медленно перечитал документ еще раз. — А зачем, собственно, вам копаться в архивных делах? — неожиданно спросил он, не отрываясь от запроса. — Для этого есть вышестоящий суд, прокуратура… При чем здесь уголовный розыск? Майор с удивлением отметил, что Громакова озаботила именно та бумага, которую он только что, не задумываясь, собирался подписать. — И что это за запрос? — все больше раздражаясь, продолжал председатель. — Кто его подписал? Что вообще это за закорючки да черточки? — Что с вами? За последний квартал я раз шесть получал дела именно по таким запросам. Кстати, и в вашем суде, — спокойно сказал Сизов. О том, что иногда девочки вообще не требовали никаких бумаг, он решил не вспоминать. — Мало ли что было раньше… — Громаков наконец поднял голову и посмотрел собеседнику в лицо. — Надо же когда-то наводить порядок? Вот и пусть каждый занимается своим делом — уголовный розыск ищет преступников, а прокуратура проверяет судебные дела! Громаков рано начал полнеть и лысеть. У него были пухлые щечки, пухлые короткие пальчики, которые нервно барабанили по натуральному дереву столешницы, а если снять с него пиджак и рубашку, то наверняка обнаружится пухлый живот. В тесном юридическом мире, где известно друг о друге больше, чем в какой-либо другой профессиональной среде, знали, что Громаков был послушным следователем. Именно это качество легло в основу карьеры и обещало дальнейшее продвижение по службе. Ведь послушание — очень ценное качество в глазах тех, кто занимается расстановкой кадров. На аппаратном языке это свойство называется «зрелостью» и «умением ориентироваться в обстановке». Сизов по-своему оценивал «послушных», но даже с учетом этого не понимал, что же так взбудоражило молодого и перспективного председателя райнарсуда, почему у него нервно подрагивают губы и плещется беспокойство во взгляде. — А если понадобится что-то уголовному розыску, надо все по форме: письмо за подписью генерала, с печатью, как положено, чтобы было видно — это никакая не самодеятельность, — поучающе говорил Громаков и помахивал злосчастным запросом, который держал за уголок двумя пальцами. — Филькина грамота нам не нужна… — У генерала, говорите? — перебил Сизов. — Хорошо, подпишу у генерала. Хоть у своего, хоть у вашего — он поближе… Сизов показал в окно на расположенное по соседству здание Дома правосудия. — Вы пока распорядитесь, пусть девочки найдут дело, чтоб зря время не терять. А я сейчас вернусь. Наклонившись, майор вынул из руки ошарашенного председателя свой запрос и быстро вышел. Через четверть часа он вновь положил на стол документ с резолюцией председателя областного суда: «т. Громаков! Выдать. И не надо разводить бюрократию». Лицо преднарсуда сморщилось в кислой гримасе. — Зачем же вы меня так подставили? — жалобно протянул он. — Перед самим Иваном Федоровичем бюрократом выставили… Да что, я бы сам не решил вопрос? Укоризненно причитая, Громаков подписал запрос с тем же безразличием, с каким был готов сделать это в первую минуту. То, что насторожило его в документе, мгновенно вытеснилось недовольством начальства, хотя оно и было выражено в самой легкой форме. Сизов пожалел подчиненных Громакова, а еще больше пожалел правосудие. Через десять минут Старик раскрыл архивное дело. Как и любое следственное производство, оно начиналось с постановления о возбуждении уголовного дела.«…Следователь прокуратуры Центрального района г. Тиходонска юрист 3-го класса Громаков, рассмотрев материалы по факту обнаружения трупа гр. Федосова с признаками насильственной смерти, постановил…»Сизов заглянул в конец следственных материалов. Обвинительное заключение тоже составлял Громаков. Значит, он вел расследование от начала и до конца. А теперь опасается постороннего глаза. Интересно… Сизов приготовил ручку, лист бумаги и перевернул первую страницу дела.
«Начальнику Центрального РОВД г. Тиходонска. Рапорт. По подозрению в совершении убийства гр. Федосова мною задержан ранее судимый Батняцкий. Прошу Вашего разрешения содержать его в дежурной части до утра… Ст. о/у ОУР капитан Мишуев». Косая резолюция: «Деж. Содержать».Сизов хмыкнул. Действительно, времена изменились! Сейчас такие штуки и в голову никому не придут. А тогда казалось — в порядке вещей… Где-то здесь будет явка с повинной. Он перевернул еще один лист. Точно!
«…Я, Батняцкий Е. Ф., хочу помочь следствию и чистосердечно признаться в случайном убийстве, которое совершил в нетрезвом виде».Сизов сопоставил даты и сделал первую выписку. Громаков недолго пребывал в расстроенных чувствах: он догадался по благовидному поводу позвонить председателю облсуда и не услышал замечания о насаждении бюрократизма. Иван Федорович разговаривал благосклонно и даже соизволил пошутить. Значит, суровая резолюция предназначалась для этого настырного милиционера. «Чего ему все-таки надо?» — снова колыхнулась беспокойная мысль, и Громаков раскрыл служебный телефонный справочник. Через несколько минут в кабинете Мишуева раздался телефонный звонок. Подполковник резко поднял трубку. — Мишуев! — сухо бросил он в микрофон. Но сразу же лицо его расслабилось, он свободно откинулся в кресле, тон стал неофициальным. — Здравствуйте, здравствуйте, товарищ Громаков! Да, пока на месте… В принципе решено, но ты же знаешь: зарубить могут в самый последний момент, тем более есть загвоздка… Вот-вот… Ничего, раскрою! Только так! Лучше о себе расскажи: ты уже председатель суда или еще исполняешь обязанности? Ну, поздравляю! Так что ты, брат, тоже растешь, я помню зеленого следователя, который боялся к трупу подойти! Какое совпадение? Нет, никого не направлял. Сизов? Мишуев нахмурился. — Что он хотел? Помню, на Яблоневой даче… А ты что? И правильно, нечего ему по архивным делам шнырять! Мишуев резко выпрямился в кресле и напряженно застыл, нервно вертя в руке карандаш. — Добиваться своего он умеет, в любую дверь войдет. И какое распоряжение дал Филиппов? Понятно… Выдал? Да уж никуда не денешься. И что он? Внимательно, говоришь… И много выписывает? Мишуев сломал карандаш, зашвырнул обломки в угол, ослабил узел галстука. Голос у него остался спокойным. — Ну и пусть выписывает! У Сизова появилась своя версия по «сицилийцам», вот он и ищет зацепки в старых делах. Ничего необычного. — А что он может выкопать? Батняцкий признался, приговор вступил в законную силу. Ты же сам вел расследование и знаешь все обстоятельства… А в каком деле нет неточностей? То, что услышал Мишуев, сильно ему не понравилось. Голос стал резким и холодным. — Ну ты это брось! Что значит «доверился»? Ты был не маленьким мальчиком, а следователем прокуратуры! Важной процессуальной фигурой, принимающей самостоятельные решения! И, кстати, принял правильное решение, раз Батняцкий осужден на двенадцать лет! Подполковник, поморщившись, отставил трубку в сторону, потом снова поднес к уху и продолжил прежним дружеским тоном: — Не надо паниковать, Сизов — сотрудник уголовного розыска, а не прокурор, проверяющий качество проведенного тобой семь лет назад следствия! Он искусственно засмеялся. — И в его задачу не входит помешать твоей карьере. Вот так-то лучше. До связи. Положив трубку, Мишуев достал из кармана платок, провел по лбу, встал из-за стола и озабоченно зашагал взад-вперед по кабинету. Вспомнив, подобрал обломки карандаша, возвратился на место, порывшись в ящике, нашел автоматический нож, какие десятками изымаются при обысках и, не пройдя по делу, оседают в столах оперработников и следователей. Щелчок — из рукоятки выскочил блестящий клинок. Мишуев принялся затачивать карандашный обломок, потом его внимание переключилось на нож, он несколько раз сложил его и вновь выщелкнул лезвие, вдруг швырнул недочиненный карандаш в урну, наклонился к селектору. — Веселовский, зайдите ко мне. Мишуев поправил галстук, достал из папки «К докладу» очередной документ, начал читать. Внезапно придвинул телефон, быстро набрал номер. — Это опять я. Кто подписал запрос? Ну эту твою филькину грамоту? Ага… Ты ее запечатай в конверт и подошли мне. Договорились? Ладненько. Опустив трубку на аппарат, Мишуев задумался. Коротко постучав, в кабинет вошел Веселовский. — Разрешите, товарищ подполковник? — Чем сейчас занимается Сизов? — строго спросил начальник отдела. — Поехал в суд изучить старое дело, по которому проходил похожий нож, — с подчеркнутой четкостью доложил Веселовский. — Помните, он говорил об этом. — А что там изучать? Ситуация предельно ясная. Вы определили ему направление работы? — Да, Сизов выполняет задание, а своей версией занимается параллельно… — Значит, недогрузили, оставили время на ерунду. Руководитель должен уметь ставить четкую цель и направлять подчиненных на ее достижение, — подполковник сделал многозначительную паузу. — Когда я был начальником уголовного розыска в райотделе, мои сыщики не распылялись по «своим» версиям. Все били в одну точку. И раскрываемость приближалась к ста процентам. Потому и выдвинули в областной аппарат! За четырнадцать лет я прошел путь от оперуполномоченного до начальника отдела областного уголовного розыска… Кажется, я это уже говорил? — Вроде нет, — неуверенно ответил Веселовский. — Говорил. Но повторяюсь не из хвастовства. Хочу, чтобы вы сделали выводы: ведь от успеха этой операции зависит ваше продвижение по службе. Ясно? Веселовский молча кивнул. — Я вам поручил направлять работу всех остальных, используйте возможность! Ваша линия самая перспективная, никто в этом не сомневается, кроме, пожалуй, Сизова. Не смущайтесь, загрузите его до предела, пусть тянет общий воз вперед, а не рвется в сторону! Его бесполезная самодеятельность никому не нужна! Мишуев замолчал, не сводя пристального взгляда с лица подчиненного. Много лет назад так смотрел Старик, когда бывал недоволен стажером, и тот чувствовал себя весьма неуютно. Став начальником, Мишуев специально отрабатывал холодный пронизывающий насквозь взгляд и убедил себя, что достиг цели, хотя в глубине души шевелилось сомнение. — Разрешите идти? — как ни в чем не бывало спросил Веселовский, и стало ясно, что никакой неловкости он не испытал. — Подождите. — Подполковник указал на стул у приставного столика. — Присаживайтесь. Строгость в голосе пропала. — Я ведь учу для вашей же пользы. Привыкайте руководить людьми. Что у вас нового по «сицилийцам»? Веселовский сел, отодвинул стул, устраиваясь поудобней, извлек из внутреннего кармана пиджака пухлую записную книжку. — Специалисты исследовали камень из мешка… Мишуев почему-то подумал, что Сизов никогда не сказал бы «исследовали камень». «Осмотрели» — и точка. — Это ракушечник, три карьера расположены вблизи трассы Красногорск — Тиходонск. Ребята поехали за образцами, попробуем привязать по химическому составу и следам распиловки. Мишуев сделал пометку в своем блокноте. — А что с этим, как его, — Мишуев заглянул в календарь, — Сивухиным? — Фоменко раскопал ему восемь эпизодов хулиганства. Да при обыске нашли дома финку и кастет. Носил с собой, показывал корешкам, пугал кое-кого, есть свидетели… Так что не выскочит! Мишуев пренебрежительно махнул рукой. — Это не велика победа. Если взяться, то можно всю эту шушеру пересажать, только руки не доходят. Да и потом — кто за них работать будет? С главным как? Веселовский замялся. — Фоменко только что вернулся, принес протокол… Признал он, вроде брал у какого-то Васи Чижика старый ППШ на продажу, не получилось — вернул обратно. А с пьяных глаз пришло на ум — и пригрозил автоматом. В общем, вроде что-то было, а ничего конкретного и нет. А вообще… Веселовский запнулся и отвел взгляд в сторону. — По-моему, ерунда все это. Фоменко надавил, он и затулил, чтобы в цвет попасть… — Ну и ну, — подполковник обозначил на лице недоумение. — Что за основания для таких предположений? Да мелочь он пузатая! Какие там автоматы… Сначала наболтал по пьянке, а потом — чтоб отстали. Приплел какого-то Васю, ни фамилии, ни адреса, ни толковых примет. Вот и ищи ветра в поле… — А разве не стоит искать автомат, даже если он не связан с делом «сицилийцев»? — веско спросил начальник отдела. — Ну почему же, стоит, — Веселовский снова смотрел прямо с выражением готовности к любой работе. — И я так думаю, — нравоучительно сказал Мишуев. — Даже если окажется, что этого ППШ не существует в природе, пройтись по связям Сивухина будет полезно. Кражи, грабежи, разбои — мало ли у нас «висячек»… Глядишь, что-нибудь и раскроется. Он прихлопнул ладонью папку с документами, как бы подводя итог разговору. Веселовский встал. — А Фоменко работает неплохо, — заметил вдруг подполковник. — Вот что значит дать человеку проявить себя. Между прочим, в его послужном списке за пять последних лет ни одного поощрения. Зато больше всего благодарностей у Сизова… Мишуев бросил взгляд на часы. — Сейчас оперативка у Павлицкого, я доложу, кто и как работает. Пора пересматривать отношение к людям, хватит выделять любимчиков! И вообще — пришло время коренным образом менять стиль руководства… Последняя фраза подполковника безошибочно определяла его место в происходящей расстановке сил внутри аппаратных группировок. Про коренные перемены и революционные усовершенствования любил говорить новый заместитель начальника УВД полковник Крутилин. Он был «варягом» — командовал уголовным розыском где-то на Севере, после окончания академии получил назначение в Тиходонск. Подобные высказывания вкупе с резкими и решительными действиями породили слухи, что у него мощная поддержка в Москве и прислан он не просто так, а с прицелом на место генерала.
7
Собрав бумаги в прозрачную пластиковую папку, Мишуев запер дверь кабинета и неспешно, с достоинством, пошел по коридору. Не каждый начальник отдела участвует в оперативных совещаниях при генерале. Далеко не каждый. Заместители, начальники управлений — ниже уровень представительства практически не опускается. В принципе он, Мишуев, должен доложить результаты работы отдела заместителю начальника уголовного розыска, тот — начальнику, тот, в свою очередь, информирует зама генерала по оперативной работе и делает сообщение на совещании. Однако в последние полтора года привычный порядок часто нарушался. Возглавлявший УУР полковник Силантьев страдал камнями в почках и подолгу лежал в госпитале, его зам Игнатов всегда боялся принимать решения, а теперь, перед пенсией, старался вообще не попадаться на глаза начальству. Поэтому Мишуев непосредственно докладывал на оперативках то, что касалось борьбы с особо тяжкими преступлениями, а иногда и представительствовал от лица руководства уголовного розыска. Его самого такое положение вполне устраивало: когда человек на виду, к нему привыкают. Силантьев проскрипит два годика, а он тем временем получит диплом академии и вернется как раз на открывшуюся вакансию. Тьфу-тьфу… Трудно загадывать в таких делах. Обстановка меняется, тот же Крутилин с идеями — омоложения аппарата… Игнатову уже сказал, чтоб готовился, того и гляди и Силантьева отправит по болезни. А поставит кого-то из своих северян или из местных, мало ли шустрых ребят… Мишуев почувствовал усилившееся беспокойство и понял, что оно связано с недавним звонком Громакова. Активность Сизова в ревизии архивных дел ему совсем ни к чему. Дело усугубляется тем, что на эту чертову сыскную машину трудно найти управу: он легко обходит всю иерархическую лестницу и заходит прямо к генералу. Говорят, тот начинал у него стажером. Может быть… Когда Крутилин докладывал об Игнатове, Павлицкий предложил на его место Сизова, Еще чего не хватало! Может, потому он так землю и роет? Впрочем, Крутилин не станет менять одного предпенсионера на другого, к тому же человека Павлицкого. Если, конечно, он будет принимать решения. А будет ли? Какая у него ни мощная рука в министерстве, а обком крепко поддерживает Павлицкого. Неизвестно, что перевесит… По широкой мраморной лестнице Мишуев спустился на второй этаж, где располагались кабинеты руководства. У высокой, отделанной под дуб двери он замешкался, перебрал, будто проверяя, документы в прозрачной папке, вошел в приемную, поздоровался с новой секретаршей, наглядно воплощавшей принцип омоложения аппарата, и сквозь темный тамбур между полированными дверями прошел в кабинет Крутилина. Полковник был молод для своего звания и должности — недавно ему исполнилось сорок четыре. Жесткие, черные, с заметно пробивающейся сединой волосы, выпуклый лоб, светлые, навыкате, глаза, массивный прямой нос, нависающий над верхней губой, округлые щеки и детский, с ямочкой, подбородок. Стоя под тяжелым взглядом почти навытяжку, Мишуев доложил результаты работы по «сицилийцам». Доложил удачно: ни разу не заглянув в бумаги и не сбившись. — Почему на оперативное совещание при начальнике управления идете вы, а не руководство уголовного розыска? — глухим рокочущим голосом спросил Крутилин и презрительно выпятил нижнюю губу. — Полковник Силантьев болен, — быстро ответил Мишуев и, чуть помешкав, продолжил: — Игнатов… В общем, Игнатов послал меня… — Понятно… — с тем же презрительным выражением протянул Крутилин. — У него более важные дела… Ладно! Посмотрим, как он уйдет: по выслуге или по служебному несоответствию! На Мишуева будто холодом дохнуло. «Ну и крут мужик! Верно говорят — не одну шкуру спустит!» — И с чем же вы идете на оперативное совещание при начальнике управления? — голосом, не предвещающим ничего хорошего, продолжал полковник. — С этой хреновиной? Он кивнул на пластиковую папку, и Мишуев инстинктивно спрятал ее за спину. — Анализ камня, идентичность карьера, — передразнил Крутилин. — И что дальше? Установили — камень из этого разреза. Ну? Его по паспорту выдали с записью в книге регистрации? Кому мозги припудривать?! Нужен круг отрабатываемых лиц, улики, приметы, связи! Нужна информация из уголовного мира: почерк, клички, «черные» автоматы! Вот работа сыщиков. А камень и следователь с экспертами изучат, вам вообще нечего туда лезть! Крутилин резко встал из удобного кожаного с высокой спинкой кресла так, что оно, дребезжа металлическими колесиками, отъехало к стене, подошел вплотную к начальнику отдела особо тяжких, как будто хотел ударить. Мишуев непроизвольно попятился. — А если не хотите работать или не получается, надо честно сказать и идти в народное хозяйство, мы вас поддержим, — другим, неожиданно миролюбивым тоном продолжил полковник. — И не надо никаких академий, чего деньги тратить… Крутилину нравилось внушать страх, и он умел это делать. Он «колол» самых отпетых бандитов, чем и был известен во всех северных тюрьмах, колониях и пересылках. Сломив чужую волю, он переходил на мягкий, доброжелательный тон, который резко не соответствовал смыслу произносимого, и окончательно деморализовывал жертву. Сейчас ему тоже удалось достигнуть цели — Мишуев чувствовал себя бесформенным пластилиновым комочком, над которым навис гранитный кулак. — Жаль, меня не было в городе, я бы с места происшествия след зацепил, — так же мягко, даже с некоторой долей сочувствия говорил полковник. — Беда в том, что у вас профессионалов нет… Разве что Сизов… Я посмотрел все разработки отдела — он один действует как настоящий сыскарь… По пристальному взгляду Крутилина Мишуев понял, что ему прекрасно известно о взаимоотношениях с бывшим наставником. — Я не все доложил, — попытался он выправить положение, но Крутилин отмахнулся. — На совещании доложите. Там и послушаем, и решим, кто на что способен. Если работать тяжело, не справляетесь — пищите рапорт. Чего зря хлеб есть! Последнюю фразу полковник произнес почти дружески. Оставшиеся свободными десять минут Мишуев нервно курил в закутке на площадке лестницы черного хода. «Ну их к черту, такие оперативки, — заторможенно думал подполковник, чувствуя, как постепенно высыхает спина. — Пусть Игнатов ходит, он за это деньги получает. Тут не авторитет заработаешь, а голову потеряешь. Как с ним работать? Зверь! Пожалуй, Павлицкого он сожрет. Непременно сожрет! И всех его людей, как водится. И тех, кто стоял в стороне, обязательно… Ну и бойня будет! Нет, надо дергать в Москву. Пересидеть два года, пусть все закончится, устоится… Только похоже, что с этой идеей ничего не выйдет. Пока не раскроем «сицилийцев», он и заикнуться об учебе не даст…» В примыкающий к генеральскому кабинету зал заседаний Мишуев заходил в самом скверном настроении. Начальник управления генерал-майор Павлицкий занял свое место во главе стола ровно в шестнадцать, как и было назначено. Выглядел он не по-генеральски — маленький, сухой, подвижный — и потому постоянно носил форму и требовал того же от подчиненных. Поэтому двенадцать человек по обе стороны длинной полированной столешницы были облачены в казенное сукно серого и защитного цвета. Только тринадцатый позволил себе явиться в светлом импортном костюме свободного покроя и сел не как все, а напротив генерала, в противоположный торец стола, получив возможность бесцеремонно осматривать собравшихся выпуклыми льдистыми глазами. У него был властный вид, внушительная фигура, уверенные манеры, и если бы посторонний человек вошел в зал заседаний, он бы не сразу определил, с какой стороны находится «глава стола» и кто руководит оперативным совещанием. На такой эффект Крутилин и рассчитывал. Чувствовалось, что он собран и готов постоять за себя, если начальник попытается поставить его на место. Но генерал начал совещание как ни в чем не бывало, и, хотя на лицах офицеров ничего не отразилось, можно было с уверенностью сказать, что этот факт обязательно станет предметом кулуарного обсуждения и сделанные из него выводы окажутся не в пользу Павлицкого. Первым заслушали начальника управления исправительных дел о массовых беспорядках в шестой колонии, затем докладывал Мишуев. На этот раз главное внимание он сосредоточил на Алексее Сивухине, как перспективном фигуранте для дальнейшей разработки, про кусок ракушечника и поиск карьера упомянул вскользь, зато рассказал об отработке автовокзалов, которой занимается Сизов. Сообщение прозвучало весомо, даже Крутилин к концу перестал презрительно кривиться. Генерал задал несколько вопросов о Сивухине, Мишуев толково ответил. — Есть предложение одобрить проводимую отделом работу и предложить активизировать линию розыска использованного преступниками автомата, — подвел итог Павлицкий. Возражений не было. Мишуев сел на место и перевел дух. Сивухин, конечно, пузырь, который рано или поздно лопнет. Но сегодня он удержал его на плаву, а это очень важно — не утонуть сейчас, сию секунду, потому что завтра будет уже другая ситуация, другие доказательства, другая обстановка. Подполковник вполуха слушал выступление начальника УБХСС, совсем не слушал зама по хозяйственной работе, который возмущался нерациональным использованием автотранспорта, и насторожился, когда слово взял Крутилин. — Я согласен с предыдущим выступающим. — Полковник навис над столом, упираясь в деревянную поверхность побелевшими пальцами. — Машины должны использоваться для раскрытия преступлений, расследования и выполнения других конкретных задач службы. На работу и домой можно ездить общественным транспортом. Поэтому я свою машину отдаю в пользование оперативного состава управления и призываю других сделать то же самое. Это раз! Полковники, подполковники и один майор недовольно зашевелились. — Второе, — не обращая внимания на возникший шумок, невозмутимо продолжал Крутилин. — Отмечаю низкий уровень исполнительской дисциплины руководства уголовного розыска. Я работаю полтора месяца, за это время Силантьев не выходил на работу по болезни, Игнатов самоустранился от руководства службой в связи с тем, что готовился к уходу на пенсию. Предлагаю на следующем оперативном совещании заслушать Игнатова и решить вопрос о его служебном соответствии. При отрицательном решении изменить основание увольнения с соответствующим уменьшением пенсионного содержания… Присутствующие загудели. Пенсия, выслуженная за двадцать пять лет, — самое святое, что есть у увольняемого офицера. Замахиваться на нее не принято. Тем более что каждый может легко представить себя на месте обиженного. — Третье, — полковник повысил голос. — При таком положении вещей совершенно не продумано направление в академию Мишуева. Учиться, конечно, надо, и, если он возьмет «сицилийцев» или хотя бы выйдет на них, можно будет его отпустить, но не оголяя руководства уголовным розыском! Значит, надо производить омоложение аппарата, особенно начальников отделов и управлений… Дальше Мишуев не слушал. «…Или хотя бы выйдет на них…» Значит, не все потеряно… Крутилин сел, глядя прямо перед собой. Получалось, что он смотрит на генерала. — Вы закончили, товарищ полковник? — очень вежливо спросил Павлицкий. — Закончил. — Подведем итог, — не вставая, сказал генерал. — По первому пункту вы приняли решение, полностью входящее в вашу компетенцию. Отказ от использования личной машины можно только приветствовать. Надеюсь, другие руководители последуют вашему примеру… А если нет, возможно, я сам издам соответствующий приказ… Недовольный шумок снова всколыхнулся над длинным полированным столом. — Может, действительно всем целесообразно пересесть на городской транспорт? Тем более, мне известно, что вы задерживаете в нем карманников. На вашем счету четырнадцать задержаний по месту прежней службы и восемь — в Московском метро, во время учебы. Я не ошибаюсь? Крутилин очень внимательно посмотрел на генерала. В комнате стало тихо. — Нет, товарищ генерал, не ошибаетесь. Все точно. — Вот и хорошо, — кивнул Павлицкий. — Может быть, в транспорте установится порядок. Хотя лично я считаю, что руководители областной милиции имеют возможность более эффективными методами бороться с преступностью. Крутилин, набычившись, не сводил с генерала внимательного взгляда. — По второму и третьему пунктам, — монотонно говорил генерал. — Вы являетесь куратором оперативных служб и отвечаете за работу уголовного розыска. Поэтому для вас открыто широкое поле деятельности. Действуйте! Принимайте решения в пределах своей компетенции, вносите предложения, если вопрос выходит за ее пределы. Кого увольнять, кого посылать на учебу, кого назначать на должность — это, извините, буду решать я. Снижать пенсию я никому не собираюсь, надо быть людьми и понимать: существуют болезни, усталость, нервные стрессы. Отбирать за это то, что пожилой человек зарабатывал всю жизнь, просто несправедливо… — Правильно,Семен Павлович, — от души выкрикнул начальник УИД, и все одобрительно зашумели, бросая косые взгляды на Крутилина. Тот еще больше набычился, как боксер, прячущий подбородок от нокаутирующего удара. — И последнее. Существует порядок, субординация, дисциплина. Я настоятельно прошу вас приходить к начальнику управления в форменной одежде. Генерал выдержал паузу и, добродушно улыбнувшись, добавил: — А в трамвае можете ездить в штатском. Что поделаешь, если у вас такое хобби! Одиннадцать офицеров расхохотались Мишуев улыбнулся одной половиной рта — той, что была обращена к генералу. Лицо Крутилина осталось невозмутимым. — Все свободны, — объявил Павлицкий и встал. Загремели стулья. У широкой двери, в которой открывалась только одна створка, на мгновенье возникла давка. — Ну и выдрал Семен Павлович этого петуха, — не особо снижая голос, говорил начальник информационного центра. — Насухую выдрал… Причем культурно… Руководители курируемых Крутилиным служб открыто высказываться избегали, но перешептывались с улыбками. Поражение «варяга» было наглядным для всех, кроме него самого. — Доложился неплохо, — буркнул он Мишуеву на ходу. — Лучше, чем у меня в кабинете. Жми на этого типа, он, видно, еще не полностью лопнул. И скажи своим: пусть дурака не валяют, шкуру спущу! В коридорах управления было людно: сегодня давали зарплату, поэтому к концу работы все сходились на службу. К этому дню планировалось и возвращение из командировок. Идя к себе, Мишуев покосился на дверь с цифрой 78, хотел было зайти, но передумал. Пусть сам, невелик барин… За дверью семьдесят восьмого кабинета Губарев и Сизов доедали красногорскую колбасу, пили чай и вели тихую беседу. — Я, говорит, вообще отошел, связи растерял, дайте жить спокойно, — пересказывал Губарев. Сизов хмыкнул: — Ну-ну… — А этот, последний: «С дорогой бы душой и всем почтением, по нет ничего такого на примете, даже краем уха не слыхал…» Старик доел бутерброд. Значит, один «наган» зацепил? Ну-ну… Нам-то он ни к чему, напиши рапорт да отдай в Прибрежный райотдел, пусть занимаются. Губарев приготовил лист бумаги и тут же, чертыхнувшись, поднял его со стол я — в нижней части расплывался мокрый полукруг. — Стакан не вытер. Сегодня в Центральном дежурный на готовый протокол кофе пролил. Да, кстати, там Фоменко вертелся. Меня увидел хотел спрятаться, спросил, что делает — не ответил… Странно как-то. Сизов молча поднял телефонную трубку, набрал четыре цифры внутреннего номера. — Здравствуйте, товарищ Крылов. Как жизнь проходит? У всех быстро… Слушай, Саша, что там у вас сегодня делал Фоменко? С кем работал? А на кой ему этот хулиган сдался? Ну и как, расколол? Да ты что! А, вот оно как… А для чего это им обоим? С тем-то ясно: лопнул, и все… А наш-то? Чья команда? Вот так, да? Ладно, спасибо. До связи. Сизов положил трубку. — Ну что? — спросил Губарев, по Сизов не успел ответить, как в кабинет без стука вошел Фоменко. — Здорово, мужики! — Он поспешно сунул каждому руку, быстро отдергивая ее обратно. — Зарплату получили? Ну и класс! Запирайте дверь… Он распахнул пиджак и показал приткнутую за брючным ремнем бутылку водки. — Как обещал, помните, Игнат Филиппович? Фоменко зря слово не бросит… — Чем ты там занимался в Центральном с такой секретностью? — спросил Сизов. — Своих дел мало, решил району подсобить? Фоменко с отвращением скривился. — Да по «сицилийцам»… Выходы на автоматы ищу. Начальник велел не распространяться… — Это что, его идея? — Ну да… — Фоменко нетерпеливо переступал с ноги на ногу. — Хватит про работу, Игнат Филиппович, она и так в печенках сидит… Валек, нарежь закуску. Он резко вынул из бокового кармана плавленый сырок с яркой зеленой этикеткой. — Закуска у тебя всегда богатая, — отметил Губарев. — Игнат Филиппович, там колбаски не осталось? У меня полбатона есть и банка тушенки заначена. Сизов порылся в сейфе, извлек мятую оберточную бумагу, в которой оказался небольшой кусок колбасы с веревочным хвостиком. — Класс, мужики! — Фоменко суетливо застилал стол газетой. — Сейчас накроем как в ресторане… Сизов задумчиво оторвал веревку, понюхал зачем-то колбасу и положил на стол. Как и большинство сотрудников уголовного розыска, он был не дурак выпить и еще помнил времена, когда в конце работы оперсостав, перед тем как разойтись по домам, открыто распивал несколько бутылок водки под немудреную закуску, чтобы снять напряжение и забыть кровь, грязь, человеческую жестокость, подлость и коварство, с которыми пришлось столкнуться вплотную за прошедшую смену. Времена меняются — уже не ухватишь, выскочив на несколько минут в соседний гастроном, полкило «Любительской» и «Отдельной», по триста граммов «Швейцарского» и «Голландского», которые продавщица нарежет аккуратными тоненькими ломтиками, да и водку, если не зайдешь со служебного входа, не купишь без очереди, хотя она, зараза, и подорожала в четыре раза. Но главное — отношение изменилось к этому делу. Закручивали постепенно гайку и завинтили до упора. Новые времена. А кровь и мозги человеческие выглядят как и раньше, и запашок у лежалого трупа тот же, и в морге веселей не стало… А когда на пушку или нож выходишь, сердце еще сильней колотится да давление выше прыгает, чем тогда — годы-то набежали. А антистрессовых препаратов не изобрели, остается старое, проверенное средство, тем более и привычка какая-никакая выработалась, никуда не денешься… У каждого в разной степени. Вот Фоменко — аж трусится от нетерпения, а Губареву просто любопытно, молодой еще… Хотя Веселовский тоже молодой, а очень уважает, ни одной возможности не упустит. Старик прислушался к своим ощущениям. Он знал, что его искал Мишуев, и сам собирался к начальнику с рапортом, но расслабиться действительно не мешало. К подполковнику можно зайти завтра с утра. Но, глядя на дружные хозяйственные приготовления Губарева и Фоменко, он почему-то не ощутил умиротворения и не настроился на общую волну предвкушения предстоящего застолья. — Готово! — Фоменко придирчиво осмотрел разложенные на газете листы белой бумаги — вместо тарелок, горку нарезанного хлеба, сырка и колбасы, открытую банку консервов. — Сейчас, только стаканы вымою… Он рванулся к двери. — А Веселовского ты не звал? — спросил Сизов. Фоменко остановился и поставил стаканы. — Да я что-то его не понял, Игнат Филиппович. — Он широко развел руками, изображая крайнюю степень удивления. — Показал пузырь — он обрадовался, руки потер, у меня, говорит, бутерброды есть… Я говорю, мол, идем к ребятам, я Игнату Филипповичу обещался. А он подумал-подумал и отказался. Мол, работы много… Фоменко снова собрал стаканы и понизил голос до шепота: — Я думаю, он себя уже начальником чувствует. Ну и вроде как не хочет, чтобы все вместе… Фоменко подмигнул. — Ну и ладно, нам больше достанется. Я мигом. — Плечом он отдавил дверь и вышел в коридор. Сизов посидел молча, хмыкнул. — Ну-ну… Встал, извлек из ящика стола свой рапорт. — Ты вот что, Валек, пить-то вредно, помочи губы для вида, поддержи компанию. Я к Мишуеву. Он направился к двери, на пороге остановился. — И еще. Будете уходить — посмотри за ним. Если пойдет по центральной лестнице — не пускай. Сведи по запасной, во двор, а выйдет пусть через «город». Здание областного УВД имело общий двор с городским, расположенным перпендикулярно. Фасады и, соответственно, подъезды выходили на разные улицы. — Зачем это? — удивился Губарев. — Потом скажу. В коридоре Сизов столкнулся с сияющим Фоменко. — Ну, погнали, — начал тот и осекся. — Куда же вы, Игнат Филиппыч? — Начальник вызвал. Лицо Фоменко потухло. Мы подождем… — Да нет, начинайте сами. Дело, видать, долгое… — Жаль… — Фоменко снова оживился. — Ну дай бог не в последний раз. Он юркнул в дверь семьдесят восьмого кабинета, раздался щелчок замка. Сизов направился к кабинету Мишуева. Начальник отдела особо тяжких находился во взвинченном состоянии. Анализируя выпад Крутилина в свой адрес и неожиданное заступничество генерала, он понял, что оказался между молотом и наковальней. Превратиться в фигуру, на которой начальники будут что-то доказывать друг другу» — этого и врагу не пожелаешь. Любая твоя ошибка становится козырем в чужой игре, а кто работает без ошибок… Сизов вошел без стука. — Вызывали? Мишуев уставился на подчиненного тяжелым, как у Крутилина, взглядом, но тут же почувствовал, что сходство в данном случае может носить только пародийный характер. Раздражение усилилось. — Вами крайне недоволен начальник управления. Мишуев сделал паузу, наблюдая за реакцией Сизова, но тот не проявил ни малейшего беспокойства или хотя бы заинтересованности. — Ему звонил председатель областного суда, рассказал о вашем визите, генерал спрашивает меня, а я ничего не знаю. Пришлось выслушать про недисциплинированность подчиненных, нарушение субординации, имитацию активной деятельности в ущерб конкретной работе. Сизов шагнул вперед и положил перед начальником отдела исписанный лист бумаги. — Результаты моей конкретной работы отражены в этом рапорте. Мишуев бегло просмотрел документ, потом прочел еще раз, уже внимательней, растерянно провел ладонью по лбу. — Ничего не понимаю. Вы что, ревизуете судебные дела? И зачем ехать за тысячи километров? Проверять правильность приговора? — Это не моя задача, — равнодушно ответил Сизов. — Хотя проверка тут бы не помешала. — Что вы имеете в виду? — Отхлынувшее на миг раздражение накатило с новой силой. — То, что сказал. Дело слеплено на соплях. Кроме признания обвиняемого, ничего и нет. Да и признание странное: дачу он едва нашел, мотив убийства толком не объяснил, нож описал смутно, куда выбросил — показать не смог. Вот я и хочу узнать, держал ли он вообще тот нож в руках… — Кем вы себя воображаете? Членом Верховного Суда?! Ваша задача — отыскать «сицилийнев»! — Не сдержавшись, Мишуев сорвался на крик, но тут же взял себя в руки и продолжил более спокойно: — Выбросьте из головы беспочвенные фантазии и присоединяйтесь к той работе, которую успешно ведет Веселовский. Вы должны подавать пример молодым и менее опытным товарищам. Нельзя подчинять общее дело личным амбициям. — Вы отказываете мне в командировке? — по-прежнему невозмутимо спросил Сизов. — Безусловно! Незачем впустую тратить время и расходовать государственные деньги! — Подполковник прихлопнул по столу кулаком, давая понять, что говорить больше не о чем. — Наложите резолюцию на рапорт. Я буду обжаловать ваше решение руководству. Заодно доложу о причинах, заставивших меня обращаться к архивным делам. Сизов говорил строго официально, и Мишуеву стало ясно: прямо сейчас он отправится к Крутилину или Павлицкому и наболтает там такого, что начальнику отдела будет трудно объяснить, почему он пресекает похвальную инициативу сотрудника. А если Крутилин уцепится за эту старую историю… Мишуев придвинул рапорт, выдернул из настольного календаря шариковую ручку, занес над бумагой. — Хорошо, сделаем эксперимент. Решили допросить давно осужденного Батняцкого? Полагаете это полезным для дела? Действуйте. Мишуев написал на рапорте: «Считаю целесообразным» — и размашисто подписался. — Только я думаю, что эта поездка ничего не даст. Кроме вреда. Потому что вы оголяете свой участок работы и перекладываете ее на коллег. Кроме того, зря тратите время и деньги. Посмотрим, кто окажется прав: вы или я. Кстати, доложите, чем вы занимались сегодня весь день. Выслушав доклад, подполковник отпустил Сизова. Когда дверь за оперативником закрылась, Мишуев обмяк, подпер голову руками и тяжело задумался. Он вышел из сложившейся ситуации единственно возможным способом и даже оставил за собой последнее слово. Но что дальше?В семьдесят восьмом кабинете раскрасневшийся Фоменко учил жизни Губарева. — Да гори она огнем, эта ментовка! Ты что, не заработаешь свои две сотни на гражданке? Беги, пока молодой! Потом затягивает: надбавки за выслугу, стаж для пенсии… А чуть оступился, уволили до срока — вот пенсия и накрылась. Он достал из-за тумбы стола на три четверти опустошенную бутылку, с сожалением взболтнул содержимое. — Надо было две взять… Давай стакан. — У меня есть. — Губарев показал, что не выпил до конца. — Как хочешь. — Фоменко вылил остатки водки себе, придвинул графин с водой поближе, приготовил кружок колбасы. — Давай за то, чтоб я дослужил до полной выслуги! А ты… чтоб не уродовался на этой проклятой службе. А то дадут по башке, как мне… Ладно, будь! Он залпом выпил водку, лихорадочно плеснул из графина, запил и принялся жевать колбасу. — До сих пор башка раскалывается, особенно осенью и весной. Так и боюсь, что еще схлопочу по ней, тогда каюк… Как дотяну до выслуги — сразу уйду. Так еще хрен получится: видишь, какая каша заваривается? Крутилин с генералом тягается, Мишуев чего-то на Старика взъелся… А я ничего не хочу, только чтоб не трогали. И на Старика удивляюсь: у него давно выслуга есть, а уходить и не думает… Хотя он настоящий сыщик, ему жизни нет, если по следу не бежать, комбинации не разыгрывать… На площадке второго этажа Сизов снял и перебросил через плечо пиджак, ослабил и сбил на сторону галстук и развинченной походкой пошел по лестнице вниз. В вестибюле стоял длинный, болезненно-худой Бусыгин — самый противный сотрудник инспекции по личному составу, рядом — Шаров из политотдела, в дверях дежурной части напряженно застыл ответственный — майор Семенов. — Товарищ майор, можно вас на минуту, — обратился Бусыгин к Сизову. И когда тот подошел, спросил: — Почему вы в таком странном виде? — Жарко, — невнятно буркнул Старик, отвернув лицо в сторону. Он видел, как Семенов досадливо махнул рукой и скрылся за дверью. Бусыгин оживился. — Жарко? А чем от вас пахнет? — Не знаю, — так же невнятно ответил Старик. — Капли выпил от сердца. — Ах капли! — Бусыгин совсем расцвел. — Тогда попрошу прейти на секундочку в дежурную часть. Он показал рукой, будто Старик не знал, куда надо идти. — Прошу! Сизов на ходу надел пиджак, привел галстук в нормальное положение и первым вошел в дежурку. Семенов уже сидел за пультом, а в углу, под схемой расстановки патрульно-постовых нарядов приткнулся на табуретке фельдшер из медпункта. — Здравствуй, Андрей. — Сизов протянул Семенову руку. — У тебя есть акт на опьянение? Тут Бусыгин какой-то цирк устроил, надо его проверить. Как раз удачно — и доктор здесь, и индикатор трезвости наверняка поблизости. Давай оформляй. Семенов захохотал и от полноты чувств врезал кулаком по подлокотнику кресла. — Надумал щенок поймать матерого волка… Ну, давайте попробуем, кто из вас того… Шаров тоже не смог сдержать улыбку, а до Бусыгина дошло не сразу: он всматривался в Сизова, и лицо его постепенно принимало обычное кислое выражение. — Чего смешного? Был сигнал, мы обязаны проверить, — угрюмо выговорил он. — Сигнал, говоришь? — продолжал веселиться Семенов. — Какая же это… такие сигналы дает? Вы теперь с тоге сигнальщика спросите! — По телефону… Как тут спросишь… Бусыгин резко повернулся и почти выбежал из дежурной части. Придя домой, Сизов позвонил Губареву. — Как дела, Валентин? — Ничего, обошлось, — крякнул Губарев. — Фоменко рвался через центральный подъезд выйти, еле оттащил. А там инспекция пьяных отлавливала… Откуда узнали-то, Игнат Филипыч? — Узнал… Значит, рвался? Ну ладно, будь! Не кладя трубку, Старик набрал номер Веселовского. — Как жив-здоров, Александр Павлович? — Кто это? — быстро спросил тот. — Неужто не узнал? Несколько секунд телефон молчал. — А-а-а, здравствуйте, Игнат Филипыч! Преувеличенно бодрый тон не мог скрыть напряжения в голосе. — Бусыгин передал тебе привет. Снова пауза. — А я-то при чем? Я ничего… Что Бусыгин? Сизов опустил трубку на рычаг.
8
До Москвы Сизов долетел за полтора часа, затем сутки провел в вагоне поезда Москва — Воркута. Вынужденное безделье вопреки ожиданию не тяготило его, привыкшего к каждодневной круговерти срочных заданий, неотложных дел и всевозможных забот. Половину дороги он проспал, а потом бездумно смотрел в окно, отказавшись играть в карты и выпивать с тремя хозяйственниками средней руки, успешно решившими в столице какой-то свой вопрос. Он не любил случайных знакомств и избегал досужих расспросов, обычных при дорожном общении. В Микуни он вышел из вагона, провожаемый любопытными взглядами попутчиков: режимная зона, здесь царствовало управление лесных колоний, и высаживались, как правило, только люди в форме внутренней службы — гражданские объекты поблизости отсутствовали. По однопутке допотопный паровоз потащил короткий состав в глубь тайги, и через несколько часов Сизов шагнул на перрон маленькой станции, которая, казалось, выплыла из начала сороковых годов: игрушечный вокзальчик красного кирпича, бревенчатая пристройка «Буфет», давно забытые медные краны и указатель «Кипяток». И патруль, безошибочно подошедший к нему — единственному штатскому среди пассажиров вагона. — Гражданин, ваши документы и цель приезда, — козырнул старший лейтенант с заношенной красной нарукавной повязкой, на которой когда-то белые буквы составляли непонятную непосвященным аббревиатуру ДПНК (дежурный помощник начальника колонии). У двух подтянутых настороженных прапорщиков на повязках были другие надписи: Кон. ВН. (контролер войскового наряда). Сизов предъявил удостоверение и расспросил, как пройти в «Комилес». Управление располагалось рядом со станцией в новой четырехэтажке из красного кирпича. Любому приезжему бросалась в глаза скрытая связь между вокзалом и управлением: во всем поселке только эти два здания были выстроены из нетипичного для лесного края стройматериала. Но лишь человеку, знающему о соотношении бюджетов «Комилеса» и местного исполкома, было ясно, кто кому оказал по-хозяйски «шефскую помощь». Начальник оперативно-режимного отдела — шустрый молодой капитан, привыкший схватывать вопрос на лету и тут же с ним разделываться, затратил на Сизова пять минут. — Батняцкий? Фамилия ничего не говорит. Значит, но отличался. Какое учреждение? Тройка? Тогда быстро… Он нажал клавишу селектора, вызывая дежурного. — Лезвии еще не уехал? У тебя? Быстренько ко мне. И пояснил: — Начальник «тройки». Его как раз только сейчас выдрали, по дороге обязательно будет вам жаловаться, приготовьтесь. Зато вечером наверняка… Он звонко щелкнул себя по горлу и подмигнул. — Так что можно и потерпеть. Верно? Сизов промолчал. Он не любил фамильярности. — А вот и Лезвии, знакомьтесь! В кабинет вошел пожилой майор с лицом неудачника. Впрочем, Сизов подумал, что если бы на его плечах были полковничьи погоны, он бы не выглядел пожилым и не казался неудачником — просто хмурый усталый мужик лет под пятьдесят. Почти всю дорогу он молчал. УАЗ ходко углублялся в тайгу. С двух сторон выложенную из бетонных плит дорогу обступала глухо шумящая зеленая стена. Из леса сильно тянуло сыростью. С каждым километром пляшущее над бетонкой облако гнуса уплотнялось. Сизов представил эти места зимой. Мороз, жесткий, как наждак, снег, безлюдье… — Снега много наметает? — спросил он, чтобы завязать разговор. Лезвии уверенно вел машину. Сизова вначале удивило, что он обходится без водителя, но, судя по манере езды, начальник колонии часто садится за руль. — Снега? — отозвался он. — Скоро покажу… Сизов не понял, что ему собираются показать: было тепло и невозможно представить, что где-то, даже в самой чащобе, сохранился снег. Бетонные плиты кончились, машину затрясло по бревенчатой лежневке. Лезвии сбавил скорость. — Вон, справа, видите? Сквозь поредевшую стену леса просматривалась обширная вырубка. Бросалась в глаза одна странность: высоченные, до полутора метров, пни. — Вот столько наметает, — Лезвии выругался. — За это я в прошлом году выговор схлопотал. — За снег? — снова не понял Сизов. — Да не за снег, — досадливо сказал Лезвии. — За своих долбо… Они перед тем, как пилить, должны утоптать до земли, чтобы от корня оставить не больше десяти сантиметров. А это работа нелегкая и в план не идет. Вот и срезают там, где снег заканчивается! — Есть же бригадир, мастер… — Такие же долбо… — повторил Лезвии с прежней досадой. — И так же заинтересованы в кубометрах. К тому же сразу в глаза не бросается, а когда растает — лесная инспекция и поднимает тарарам… Штрафы, предписания, протоколы. Кто виноват? Зэков-то пайки не лишишь, а начальнику в самый раз строгача закатать. Лезвии притормозил, мягко перекатившись через прогнившее бревно. — А лесовики не отстают: проведите санитарную расчистку леса — и все! Поспиливайте до положенного уровня — и баста! А кто будет из-за этих огрызков человекочасы затрачивать? — Так вас сегодня из-за этого? — поинтересовался Сизов. — Да нет. Дважды за одно не бьют. Два офицера рапорта на увольнение подали… Лезвии тяжело вздохнул. — Их тоже понять можно. Службу закончили, хотят отдыхать, а я их посылаю лежневку чинить. Конечно, не нравится. А кто меня поймет? Бревна то гниют, то расходятся на болоте, без ремонта за сезон можно дорогу потерять. На пятый ЛЗУ [9] сейчас только на вездеходе проедешь. — А почему офицеров? Бригаду осужденных поставить — и все дела! — А кто будет кубики давать? У нас каждый день в пять часов селектор, и знаешь, что генерал спрашивает? Не про оперативную обстановку, не про политико-воспитательную работу; не про подготовку к освобождению. Вопрос один: выполнен план? И не дай бог сказать «нет»… Так что зэков на это дело отвлекать нельзя. Что остается? Обстоятельства на меня давят, а я на офицеров. В результате «неумение работать с личным составом» и очередной выговорешник! Лезвии снова выругался. — Я уже двенадцать лет майор, десять — здесь, на полковничьей должности. Видно, майором и сдохну… Впереди показались сторожевые вышки. — Приехали, — утомленно сказал Лезвии. — Сейчас попаримся, банька должна быть готова — и на ужин. Заночуете у меня, жена полгода как уехала… После бани Лезвии немного размяк. Чувствовалось, что владевшее им внутреннее напряжение прошло. Сноровистый сержант накрыл стол в небольшой кухне типовой квартиры — если не выглядывать в окно, можно было легко представить, что находишься в новом микрорайоне Свердловска, Москвы или Тиходонска. Только обилие на столе грибов — жареных, маринованных, соленых, банка моченой брусники и мясо тетерева выдавали месторасположение жилого блока лесной исправительно-трудовой колонии строгого режима. Лезвии отпустил сержанта, оценивающе глянул на Старика и поставил на стол две бутылки водки и граненые стаканы. Притомившийся с дороги и не евший целый день Сизов сразу охмелел и усиленно принялся за закуску. Лезвии лишь цеплял вилкой скользкие маринованные грибы. — Через два года пенсия — уеду в Ташкент. Не бывали? Жаль, расспросил бы… Правда, говорят, нельзя резко климат менять. С минус пятидесяти до плюс пятьдесят — даже чугунный котелок растрескается. А организм-то привык за десять лет… Лезвии хлопнул ладонью по столу. — Десять лет! Срок! Они там, — он показал рукой в стену, — мы здесь. Вот и вся разница. А мороз, глушь, лес кругом — это общее. Не задумывались? — Преувеличиваете, устали, наверное, — с набитым ртом ответил Сизов. — Устал, точно… Не обращай внимания. Со свежим человеком всегда на болтовню тянет, дело-то к старости… А тут как? Сижу один, даже выпить не с кем. С подчиненными невозможно — надо дистанцию держать. Самому — страшно… Раз, два — и готово. Сам не заметишь, как сойдешь с катушек. Но в последнее время позволяю… Лезвии с силой провел рукой по лицу, снова наполнил стаканы. — Жена, правда, пообещала вернуться, дотерпит два года. А одному здесь труба. Давай! Глухо звякнуло толстое стекло. — Брусникой попробуй закуси, — переведя дух, посоветовал Лезвин. И без всякого перехода сказал: — А ты такой же… — Он замялся, подбирая слово, по так и не нашел подходящего. — С какого года? Постарше меня, значит… А тоже майор. И жены, видно, нет. — Откуда знаешь? — удивился Старик. — Вижу. Я ведь тоже сыскарь. Начинал инспектором оперчасти, так и прошел всю лестницу — до начальника… Лезвии хитро улыбнулся. — Скажешь, в огороженной зоне легче преступника ловить, чем по всей стране? И за банку сгущенки мне любое преступление раскроют? Сизов промолчал. Все аргументы в вечном споре оперативников НТК и сыщиков уголовного розыска были ему хорошо известны и собственная позиция определена предельно четко. Но обижать хлебосольного хозяина не хотелось. — Но это только на первый взгляд все просто, — запальчиво продолжал Лезвин. — Ты с нормальными людьми работаешь — свидетели, потерпевшие, вообще все вокруг. А здесь какой контингент? Светлых пятен нету! Лезвия открыл вторую бутылку. — Развелся? — неожиданно вернулся он к прежней теме. — Ага… — Сизов придвинул стакан. — Бес попутал на молодой жениться… Они снова выпили. Лезвин заметно опьянел и начал рассказывать про свою жизнь. Старик этого не любил, но сейчас раздражения не испытывал. В черноте за окном шумела невидимая тайга, сзади, со стороны охраняемой зоны, изредка доносились резкие выкрики часовых. Тиходонск остался где-то далеко-далеко, и все заботы куда-то бесследно исчезли. Он ощущал приятную истому и умиротворенность, которой не испытывал уже давно. Лезвин разбудил его в шесть утра. Он был бодр, подтянут и официален. Гладко выбритые щеки, запах хорошего одеколона, выглаженная форма. Через сорок минут, позавтракав остатками вчерашнего ужина и выпив крепчайшего, приготовленного Лезвиным чая, они были в кабинете начальника колонии. — Хотелось бы вначале получить ориентирующую информацию о Батняцком, — усевшись на жесткий стул у приставного столика, сказал Сизов. — Кто он, чем дышит, как ведет и так далее… — Знаем такого… — сказал Лезвин, подходя к картотеке и выдвигая ящичек с наклеенной буквой Б. — Я их всех знаю. Сейчас найдем… Через несколько минут Лезвин извлек прямоугольную карточку из плотной бумаги. — Так, вот он. Судим за хулиганство к двум годам, отбыл год. Второй раз — причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего — двенадцать лет. Осталось ему, сейчас скажу… Пять лет, шесть месяцев и семнадцать дней. Поощрения, взыскания… Лезвин протянул карточку Сизову — тот быстро просмотрел убористый текст. — Благодарность за опрятный внешний вид, выговор за курение в неположенном месте… Мелковат масштаб. — Правильно подметили, — кивнул Лезвин. — А поначалу записного урку изображал: жаргон, рассказы про громкие дела… Только птицу видно по полету — здесь его быстро раскусили, поутих. Отрицаловка не признала, в актив не пошел, так и болтается посередке. Статья у него серьезная, гордится ею, по их ублюдочным порядкам это вроде институтского диплома. Хозяйственники, мужики, бытовики приходят — он перед ними хвост распускает, воровскому «закону» учит. И с начальством старается не ссориться. В общем — и нашим, и вашим. Как-то записался на прием, спрашивает: если на следствии и в суде неправду сказал, что делать? У них У всех это бывает: психологический кризис — невмоготу больше сидеть, и все! Тут глаз да глаз нужен: может в петлю влезть, или на запретку под пулю сунуться, или в побег пойти, хотя куда здесь бежать… Чаще начинают биографию выправлять, писать во все концы: мол, чужую вину взял или враги оговорили… Пишут, ответа ждут, получают, читают, снова пишут, а время катится, глядишь, кризис и прошел. Так и с Батняцким — объяснил порядок пересмотра дела, только он, кажется, и не подавал. Лезвин посмотрел на часы. — Через полчаса их выводят на лесоучасток. Хотите поговорить с ним сейчас — я дам команду. А если еще что-то надо подработать, может, приговор почитать, тогда до вечера, когда вернутся. — Приговор я читал. Давайте сразу к делу, — Сизов приготовил свои бумаги. Лезвий набрал две цифры на диске старого телефонного аппарата, резко бросил в трубку: — Батняцкого из второго отряда ко мне! И, повернувшись к Сизову, другим тоном сказал: — Разговоры у вас доверительные пойдут, так что я мешать не буду. Садитесь на мое место. Он вообще-то спокойный, но если что — здесь кнопка вызова наряда. Сизов усмехнулся. Подождав, пока за Лезвиным закрылась дверь, он по-хозяйски занял место начальника и осмотрелся. Кабинет напоминал сельский клуб: просторная пустоватая комната, голые стены и окна без занавесок, вдоль стен — ряды допотопных стульев с лоснящимся дерматином сидений. Только сейф, шкаф картотеки и решетки на окнах выдавали специфическое назначение помещения. В дверь тихо постучали, и порог переступил приземистый человек в черной засаленной на предплечьях робе. — Осужденный Батняцкий, второй отряд, статья сто восьмая часть вторая, срок двенадцать лет, явился по приказанию начальника колонии. А где же он? Вошедший, озираясь, завертел стриженой шишковатой головой на короткой шее. — Садитесь, Батняцкий. Майор Лезвин вызвал вас по моей просьбе, — сказал Сизов, внимательно рассматривая осужденного. Невыразительное лицо, мясистые губы, маленькие прищуренные глазки. Батняцкий сел, облокотился на стол и довольно улыбнулся, показав два ряда железных зубов. — Чему радуешься? — Ясно чему! Отряд на работу повели, а меня — сюда. Что лучше — лес валить или разговоры разговаривать? Вот и радуюсь, — он оглянулся на дверь и потер руки. На каждом пальце был вытатуирован перстень, тыльную сторону ладони украшало традиционное восходящее солнце и надпись «Север». — А о чем собрался разговаривать? — Об чем спросите. У кого карты есть, кто чифир варит, кто пику имеет. Что вам интересно, про то и расскажу. А могу и написать, почерк у меня хороший, разборчивый. Батняцкий замолчал, присматриваясь к собеседнику, и понимающе покивал головой. — Сразу не распознал, хотя почуял: что-то не так. У наших рожи красные, загрубелые, глаза от ветра со снегом воспаленные… А вы издалече, никак из самой Москвы? Чифир вас, стало быть, не интересует… Ну да я про все в Курсе, давно сижу, могу, если надо, и про начальство наше — как бдят они, как службу несут. Вы по званию кто будете? — Я из Тиходонского уголовного розыска, майор Сизов. Батняцкий дернулся, как от удара. — На понт? А книжку свою, красную, покажешь? Сизов извлек удостоверение, раскрыл, не выпуская из рук, протянул осужденному. Батняцкий приподнялся с места, долго вчитывался, потом плюхнулся на стул. Глаза его беспокойно бегали. — Настоящее? — Видно было, что он брякнул первое, что пришло в голову, стараясь выиграть время. — Я вижу, парень, ты совсем плохой. — Сизов спрятал документ. — Чего задергался? Привидение увидел? Батняцкий почесал в затылке. — Можно считать и так. Вчера про Сизова разговор с Изобретателем вели, а сегодня он на голову свалился. Самолично, через семь тысяч верст. — А чего про меня говорить? Я же не председатель комиссии по помилованию. — Болтали про сыскарей да следователей, он тебя и вспомнил. Механическая собака, говорит. Сизов усмехнулся. — Ну-ну. Любить ему меня не за что, да вроде и не обижался. — Да вы не так поняли! — торопливо заговорил Батняцкий. — Он по-хорошему! В одной книжке вычитал: была механическая собака, ей запах человеческий дадут, пускают, и амба! — неделю рыщет, месяц, год, через реки, через горы, никуда от нее не денешься! — Интересно. И где люди такие книжки находят? — Да он штук сто прочел! — с гордостью сказал осужденный. — Знаете, как у парня котелок варит? — Знаю. Только жаль — в одну сторону: сберкассы, сейфы. Сизов выдержал паузу, внимательно глядя на Батняцкого. — У тебя тоже неплохо сработало, как мне зубы заговорить да испуг спрятать. А у самого шестеренки крутятся: зачем по мою душу прибыл опер из Тиходонска? Батняцкий пожал плечами. — Да мне какое дело — откуда. И чего гадать, сами скажете. — Чифир меня не интересует да и другие тухлые твои истории. Это ты от небольшого ума: дескать, покантуюсь от работы, сдам оперу туфту всякую да еще посмеюсь над ним с дружками-приятелями. — В голосе оперативника лязгнул металл. Батняцкий заерзал на стуле. — Я ж сначала не врубился… Думал, кабинетный фофан с какой-то проверкой приехал. — Он изобразил смущение, по получилось довольно ненатурально. — Ну теперь мы с тобой познакомились, и расскажи мне по порядку, да без финтов всяких, свое дело, — четко сказал майор, в упор глядя на Батняцкого. Тот отвернулся к окну. — Эка вдруг… Полсрока отмотал, уже и забыл, за что сижу. — Убийства не забываются. По ночам мучают, спать не дают, иной раз с ума сводят. А у тебя легко как-то — раз и забыл! — Не убийство, а тяжкое ранение. Тут две большие разницы. Я ж не виноват, что он помер! — Батняцкий сел вполоборота и смотрел прямо перед собой. — А кто виноват? — Вы к словам не цепляйтесь. Я убивать не хотел. Так и в суде объяснил… — Да ничего ты не объяснил. Ни как попал на дачи, ни как возвращался, ни почему убил… — Сизов говорил тихо и монотонно. — По пьянке-то… Разве вспомнишь! — перебил осужденный. Ни кто видел тебя до или после, ни откуда нож взял, ни куда дел его, — будто не услышав, продолжал майор. — Пьяный был. Всю память отшибло, — повторил Батняцкий. — Какой с пьяного спрос? Сизов медленно, со значением, принялся перебирать лежащие перед ним бумаги. Батняцкий напряженно следил за его руками. — Чья пудреница на земле возле трупа валялась? — вопрос прозвучал резко, как выстрел. — Про это и вообще не знаю. Может, днем хозяева потеряли… Сизов разложил на столе фотографии. Обычная финка, «лисичка», складной охотничий, пружинная «выкидуха». Взгляни-ка сюда. Батняцкий встал, посмотрел, с недовольным видом вернулся на место. — Какой похож? Хотя бы приблизительно? — оперативник подобрался. Вы чего хотите? Признался, рассказал, показал, срок получил, сижу, чего еще надо? — жалобным голосом проныл допрашиваемый. — Чего нервы мотаете? — Какой? Пусть ты его пьяным вынимал, но в карман-то трезвым клал? Вот и покажи! Батняцкий ткнул рукой в охотничий складень. — Такой примерно, только ручка другая. Сизов расслабился и собрал фотографии. — Не в цвет, приятель. Осужденный вскочил. — Интересное кино! Семь лет назад что ни скажу — все в цвет, капитан Мишуев с ходу в протокол строчит! А теперь стали концы с концами сводить! Чего вдруг? — А того, что твой нож сейчас опять объявился. Рядом с тремя трупами. Двое — работники милиции. Батняцкий испуганно отшатнулся, но тут же взял себя в руки. — Чего я, за эту пику вечный ответчик? Выбросил — и дело с концом Откуда знаю, кто подобрал и что ею сделал? Сизов недобро усмехнулся. — Выбросил, говоришь? Ну-ну… Он пристально смотрел на осужденного, пока тот не опустил глаза. — Зачем чужое дело взял? Батняцкий молчал, оперативник ждал ответа. В кабинете наступила тишина. За окном гудел, разворачиваясь, лесовоз. Наконец осужденный вышел из оцепенения. — Пустые хлопоты, начальник, — глухо сказал он. — Все сказано и забыто. Зря через всю страну тащились. Могли приговор прочесть. — Читал. Но хотел сам убедиться… — Сизов криво пренебрежительно улыбался. — В чем? — Батняцкий нервно дернул шеей и в очередной раз оглянулся на дверь. — В том, что ты такой дурак, — равнодушно бросил майор. — Конечно… Зэк всегда дурак… — Не за здорово живешь в зону полез. Это ясно, был замазан по уши, но двенадцать лет мотать за дядю… Батняцкий быстро глянул на майора и снова опустил голову. Сизов продолжал размышлять вслух. — «Мокруху» взял для авторитета, вместо какой-нибудь пакости, за которую свои сразу же в «шестерки» определят… Со сто семнадцатой соскакивал скорей всего. — Понятно! — зло оскалились железные зубы. — Мишуев полную раскладку дал, а ты, начальник, из себя ясновидца разыгрываешь! Чего вам теперь от меня надо? Или интерес поменялся? Чего душу рвешь?! — Истерику не разыгрывай, пустой номер! — повысил голос Сизов. — А что дурак — факт. Я ведь твою жизнь внимательно изучил. Обычно пацаны хотят летчиками стать, чемпионами, а ты о чем мечтал? С четырнадцати лет истатуировался, железки всякие в карманах таскал, песни тюремные заучивал, несовершенными кражами хвастал. Хотел, чтоб за блатного принимали! Чтоб боялись, заискивали… Да нет, кишка тонка — сам же и подносил хвосты настоящим уголовникам. Первый раз за что сел? Гадил пьяным на улице. А распинался — драка, с ножами, двоих пописал… Дешевка! Батняцкий закусил губу. — Со стороны легко по полочкам разложить! Ну дурил по молодости — мало таких? А меня всегда норовили в землю вогнать. Загремел по первому разу, вышел досрочно, все нормально… И опять непруха! Познакомился на танцах с одной дурой, пообжимались, я бутылку купил — ноль восемь, выпили, чего еще надо? Думал, поладим, а она кочевряжиться стала… Я и придушил малость. А потом этот опер, Мишуев, говорит: знаешь, мол, что она несовершеннолетняя? Как так, здоровая кобыла! А он статью показывает — до пятнадцати! И позору сколько: воры ноги будут вытирать, в половую тряпку превратишься… У Батняцкого внезапно сел голос, он сипло закашлялся. Из мутного графина Сизов налил полстакана желтоватой, с осадком, воды. Батняцкий жадно выпил, железо стучало о стекло. Поставив стакан, он вытер рот ладонью. — Опер разговоры задушевные заводит да про Яблоневую дачу расспрашивает и как-то само собой получается, что если я там был, то заявление кобылы исчезает. Ну понятно — за «мокруху» лучше сидеть… Так и поднял чужое дело! Потом уже смекнул: обвел меня опер вокруг пальца — кобыла небось взрослой была и никакого заявления вообще не подавала… — И не надоело лес валить? — С моим характером на воле не удержаться, зона — дом родной. Так что все равно… Паханы уважают, авторитет небольшой имеется, пайку дают. Жить можно. Только климат да лес к земле гнут. Ничего, через год на поселение переведут, перетопчемся. Губы Батняцкого сложились в издевательскую усмешку. — Пожалели? Для протокола ничего не скажу, не старайтесь. Где вы раньше были со своим сочувствием? «Вот ведь сволочь», — подумал Старик. — Я всегда был на своем месте. И сейчас, и тогда. А жалеть тебя нечего и не за что. К тому же я не больно жалостливый для вашего брата. Мне больше людей жалко, которых вы грабите, калечите, убиваете. Так что не попадайся мне на дороге! — сыщик говорил тихо, но с напряжением и один раз даже непроизвольно скрипнул зубами. Сизов собрал фотографии, документы, сложил в папку, щелкнул застежкой. Батняцкий неотрывно следил за каждым его движением. — Как-то вы со злобой ко мне, начальник, не по-хорошему. А чего я сделал, если разобраться? — Ничего путного и доброго ты в своей дрянной жизни не сделал. Зато бандитам поспособствовал: сел вместо них — пусть еще людей убивают! А нам помочь не хочешь, хвостом крутишь, даже шерсти клок с тебя не возьмешь! Обиженного строит! Мы эту падаль, все равно отыщем, дело времени! И берегись, если они еще что-то успеют заделать! Крепко берегись! Стриженый человек в черной робе с прямоугольной нашивкой «Батняцкий. Второй отряд» на правой стороне груди беспокойно заерзал. — Да какая с меня помощь? Что я знаю? — просительно заныл он. — Ну слышал краем уха, что на дачах местные ребята фрайеров динамили: девчонку подставляли и брали на гоп-стоп… А кто, что — без понятия. За что же на мне отыгрываться? — Вспомни, кто и что про это рассказывал, — перебил майор, не проявляя, впрочем, особого интереса. — Век свободы не видать — не помню… Так, болтали… Девка, говорили, красивая, ресторанная краля… Больше, честно, не знаю. Я ведь, как откинусь, не в Америку приеду, а в Тиходонск, какой мне резон вас дразнить? Сизов нажал кнопку, и рослый сержант увел осужденного. Почти сразу же в кабинет вернулся Лезвин. Он был в хорошем настроении. — Как поработали, успешно? — улыбаясь, спросил начальник колонии. — Пока трудно сказать… — Сизов сосредоточенно делал какие-то записи в своем блокноте. — Кое-что, похоже, зацепил! Он дописал и захлопнул блокнот. — А у вас, я вижу, хорошие новости? Лезвин кивнул. — С пятого участка два лесовоза прошли, и ребята свои рапорта забрали. Нормально! Через час пожилой прапорщик вез тиходонского сыщика к поселку. На том месте, где вчера Лезвия тормознул перед сгнившим бревном, два лейтенанта ремонтировали лежневку. Выбравшись на бетонные плиты, УАЗ увеличил скорость. Стаи мошкары красно-черными брызгами залепляли ветровое стекло. Прапорщик, выругавшись, включил стеклоочистители.9
Тиходонск встретил Сизова обычными для лета пыльными бурями и новостями. Кружащиеся по асфальту окурки, сигаретные пачки, взлетающие у лотков выносной торговли обрывки газет, людей, защищающих глаза от порывов ветра, обильно насыщенных песком, — все это Сизов увидел, как только вышел из аэровокзала. Новости он узнал, когда прибыл в управление, сразу угодив на оперативное совещание отдела. — …Общительный, веселый, представился земляком сержанта, пирожками угостил, в общем, вошел в доверие. Дело к обеду, этот Саша зовет всех в вагон-ресторан. Двое пошли, третий-первогодок остался, сидит на рундуке с оружием, стережет, — Веселовский докладывал обстоятельно и солидно. Он тоже успел слетать в командировку, и Сизов не сомневался, что результаты их поездок будут сопоставляться Мишуевым с особенной тщательностью. Вдруг прибегает Саша, растрепанный, возбужденный: «Скорей, ребят бьют!» Ну и третий побежал. Никакой драки, товарищи спокойно борщ едят, Саша куда-то пропал. Вернулись — в рундуке пусто, и с боковой полки попутчик исчез. Видно, соучастник… — Задешево отдали оружие, — нравоучительно сказал Мишуев. — И вот результат — сами под трибунал, десятки жизней под угрозой! Цена беспечности! Скажите, Александр Павлович, — подчеркнуто уважительно обратился он к Веселовскому, — удалось индентифицировать стволы? — Тысячи гильз просеяли на стрельбище, нашли совпадающие снашими. Значит, по крайней мере, один украденный автомат — у «сицилийцев». — С достаточной долей вероятности можно сказать, что и второй у них. Это уже не голые догадки, — начальник отдела одобрительно покивал. — Что еще сделано? — Ориентировки с приметами и фоторобот магаданские товарищи разослали по всей стране. Результатов пока нет, — скромно пояснил Веселовский. Он избегал смотреть на Старика. А тот напротив — внимательно разглядывал капитана и пришел к выводу, что он напоминает Мишуева в молодости. Хотя внешне они не были похожи. — Ясно… — сказал подполковник. — Теперь послушаем товарища Сизова. Он не знал, что услышит, поэтому на мгновенье утратил обычную невозмутимую вальяжность. — Слушать особенно нечего, для протокола Батняцкий ничего не сказал. Так, ориентирующая информация и личные впечатления. Мишуев перевел дух. — Подведем итоги. Сизов съездил за тридевять земель вхолостую, Губарев уперся в тупик. А Веселовский и под его руководством Фоменко заметно продвинули розыск! Я настоятельно рекомендую остальным брать с них пример. Сизов раздраженно двинул стулом. — Тем более, что линия Сероштанова майором Сизовым до конца не отработана. Преступление совершено на восемнадцатом километре междугородной автотрассы. А мы так и не знаем, где и зачем потерпевший посадил «сицилийцев» в машину, куда вез, где и почему его убили. — Чтобы это узнать, надо раскрыть преступление, — подал голос Старик. — Что и является нашей прямой задачей! — парировал Мишуев. — А потому Сизов должен заняться «частниками», промышляющими междугородным извозом. Пройдите по местам их сбора — аэропорт, автовокзал, железнодорожный вокзал и постарайтесь выявить очевидцев. Тех, кто видел, как Сероштанов брал пассажиров. В помощь вам придается Губарев. Веселовский и Фоменко работают по своему плану. Вопросы есть? Нет. Все свободны. Веселовский, Фоменко и Губарев вышли из кабинета. Сизов остался на месте. — Что у вас? — недружелюбно спросил начальник. — Отработка «частников» представляется мне бесперспективной. — Объем работы большой, но делать ее надо, — подполковник смотрел сурово и требовательно. — Дело не только в объеме работы. Эта публика не любит попадать в свидетели. Даже если что-то знает — предпочитает молчать. К тому же, по моим данным, Сероштанов редко искал клиентов на вокзалах: возил по предварительной договоренности. — Что вы предлагаете? — Мишуев раскрыл папку с бумагами и занялся своей работой, давая понять, что только чувство деликатности не позволяет ему выставить бывшего наставника в коридор. — Покопаться в прошлом. Поискать хозяина ножа, который семь лет назад так и не нашли. — Майор явно не ценил доброе отношение начальника. Мишуев резко отодвинул папку. — Опять о Яблоневой даче? Вы настояли на поездке к Батняцкому, и что он вам сказал? — Что взял чужое дело. — Сволочь! — вырвалось у подполковника, но он тут же спохватился. — Они все так говорят, когда припечет. — И строго добавил: — Почему не доложили на совещании? — Сказано без протокола, а поскольку ситуация складывается щекотливая… — Что за намеки? — перебил Мишуев. — Выражайтесь яснее и имейте в виду: я щекотки не боюсь! — Пока мне ясно только одно: на «сицилийцев» надо выходить через старое дело. Прошу разрешить работать в этом направлении. Вокзалы и аэропорт может отработать Губарев и райотделы по территориальности. — Не вижу оснований изменять задание — жестко сказал подполковник. — Приступайте к выполнению и каждый вечер докладывайте результаты! — Вас понял, — не по-уставному сказал Сизов и вышел из кабинета. В последующие дни майор Сизов отрабатывал вокзалы и аэропорт. Естественно, здешние «колдуны» не искали контактов с милицией и не горели желанием оказать помощь в розыске. Старик фиксировал их фамилии и номера автомашин, вызывая переполох и недовольство, которое, впрочем, проявлялось, когда он отходил на достаточное расстояние. Фамилии ему были нужны для рапортов о проделанной работе, которые он составлял очень подробно и аккуратно. Читая их, начальник мог быть уверен, что Сизов с утра до вечера выполняет порученное ему задание, которое формально отвечало плану поисковых мероприятий, но реально — и всякий мало-мальски смыслящий в розыске человек это прекрасно понимал — дать ничего не могло. При таком объеме работы у майора не должно было оставаться времени на всякие глупости, связанные с делами прошлых лет. Его и не оставалось. Но сыскная машина умела функционировать в режиме запредельных возможностей. В восемь утра Сизов начинал прочесывать автовокзал. «Колдунов» в это время практически не было, и он говорил с водителями междугородных рейсов, диспетчерами, контролерами, уборщиками платформ. Через пару часов, примостившись на ступеньках идущего на запад «Икаруса», доезжал до железнодорожного вокзала, где менял декорации: отправляя Губарева на свое место, а сам продолжал его работу — «трусил» дворников, носильщиков, кассиров и других работников, чьи окна выходили на привокзальную площадь. К середине дня появлялись промышляющие дальним извозом частники, он переключался на них, потом, захомутав одного, перебирался в аэропорт. Потолкавшись среди местных водил, опять заезжал на автовокзал и, направив Губарева в аэропорт, завершал официальную часть работы. Работая «в четыре руки», они плотно прикрывали все ворота города. К вечеру список сыщиков пополнялся таким количеством фамилий, что их вполне можно было разбросать на три рапорта, высвободив себе пару дней, но при этом не исключались накладки: если, например, «колдун» попадет в аварию, а из рапорта выходит, что в этот день он как ни в чем по бывало беседовал с опером, «химия» мгновенно обнаружится. Хотя вероятность подобных состыковок была невелика, Сизов не хотел оставлять за спиной уязвимых моментов и включал все фамилии в один дневной рапорт. Питался он как обычно — в буфетах и столовках, иногда вспоминая фразу известного в былые годы деловика: «Скажи мне, что ты ешь, и я скажу тебе, как ты живешь». Тот деловик, если исходить из его собственного афоризма, жил отлично. Сизов был на обыске и помнил глубокий сухой подвал добротного дома, забитый развешанными на крюках ароматными копченостями, грудами деликатесных консервов, невиданными винами и коньяками и другим съестным дефицитом. Если с той же меркой подойти к жизни майора Сизова, то символом ее стал бы огромный, плохо прожаренный пирожок и кастрюля жидкой бурды, именуемой в общепите «кофе». Плюс рентгенограмма желудка, на которой гастрит вот-вот грозил перейти в язву. Правда, бесплатные санаторные путевки пока позволяли отодвигать осуществление этой угрозы. А у деловика, которого Сизов через несколько лет встретил в Юрмале выходящим из пропитанной запахом очень крупных взяток шикарной гостиницы, язва уже была, что подтверждало мнение Старика о полной бессмысленности придуманного им афоризма. Рапорт о проделанной за день работе Сизов передавал с Губаревым в управление, после чего нырял в Центральный райотдел, где изучал прекращенные дела и отказные материалы семи-восьмилетней давности. Архив после окончания рабочего дня закрывался, но знакомые опера затаскивали в пустующий кабинет связанные шпагатом пачки тонких папок в картонных или бумажных обложках, и Старик, оставшись один в привычной казенной обстановке, неторопливо развязывал тугие узлы, окунаясь в удивительный мир счастливых находок, неожиданных открытий и случайных совпадений. Вот гражданин сообщает о сорванной с головы шапке, а через пару дней признается, что потерял ее по пьяному делу. Или заявляет об избиении, а вскоре пишет: «Телесные повреждения получил при падении в подвал». Сегодня озабочен кражей портфеля, а завтра находит портфель на лестнице. Накануне требует привлечь обидчика к ответственности, а сейчас утверждает, что никаких претензий к нему не имеет. Ничего удивительного: раскрываемость преступлений в те годы была почти сто процентов. Иногда потерпевшие упирались и не хотели «находить» пропавшее, исцелять побои или признаваться в «ошибке», но дела это не меняло. «…Учитывая, что гр-н Сомов оставил мотоцикл без присмотра на неохраняемой стоянке да еще не оборудовал его противоугонным устройством, он сам виновен в происшедшем угоне…» «…Заявление гр-ки Петровой о краже у нее пальто объективно ничем не подтверждается, а следовательно, оснований для возбуждения уголовного дела не имеется…» «…Поскольку телесные повреждения по заключению судебно-медицинской экспертизы относятся к легким, повлекшим кратковременное расстройство здоровья, рекомендовать потерпевшей обратиться в народный суд в порядке частного обвинения…» Майор быстро продирался сквозь горы исписанной корявыми почерками бумаги в поисках следов разбойной группы, о которой упомянул Батняцкий. Иногда откладывал какой-нибудь материал в сторону, чтобы потом взглянуть свежим взглядом, но утром, поспав пару часов на сдвинутых стульях или брошенной на пол шинели, после дополнительного изучения возвращал папку на место. Когда внизу начинали звенеть ведра исполнявших роль уборщиков пятнадцатисуточников, Сизов увязывал архивные материалы жестким шпагатом, запирал кабинет и, заехав в управление побриться, отправлялся на автовокзал. На четвертый день такой жизни Губарев застал майора в кабинете около восьми утра. Тот делал выписки из мятой папки в синей бумажной обложке. — Я уж и отвык видеть вас за столом, — сказал Губарев и кивнул на исписанный листок. — Зацепили что-нибудь? — Похоже, — как всегда, не проявляя эмоций, ответил Старик и, откинувшись на спинку стула, с хрустом потянулся. — И что же? — Да особенного-то и ничего, — прищурился Старик, — некий гражданин Калмыков заявил о попытке ограбления. Потом написал, что ошибся, перепутал, преувеличил. — Бывает… — Бывает-то всякое… — задумчиво проговорил Сизов. — Только произошло это на Яблоневой даче за десять дней до убийства Федосова. — Интересно. А кто занимался? Сизов глянул в глаза собеседнику. — Наш начальник, тогда еще капитан, а ныне подполковник Мишуев. — Вот так блин! — оторопело вымолвил Губарев. — Фоменко бы сказал: «Я ничего не слышал!» — А ты что скажешь? — Сизов не отводил взгляда. — Как что? Надо беседовать с Калмыковым. — Наши мнения совпадают. — Майор протянул напарнику свой листок. — Здесь его установочные данные. Проверь, не изменился ли адрес, и вызови на девятнадцать. А я пока сдвину стулья и вздремну пару часов. Ну этот автовокзал к чертовой матери! В то время, как майор Сизов прикорнул в чуткой полудреме на разъезжающихся стульях, начальник отдела особо тяжких Мишуев объяснялся с Крутилиным. — Люди работают, — стараясь быть убедительным, говорил он. — Линия автоматов повисла в воздухе: магаданцы давно разослали фоторобот — результата нет. Что может Веселовский? Переключился, пошел по новому кругу — от багажной веревки, которой был связан Сероштанов. Проверяет товарные станции, речной порт… Выпуклые холодные глаза полковника выражали безмерную скуку. Он действительно отдал оперативникам персональную машину, ездил городским транспортом, вмешивался в уличные конфликты и лично доставил в Прибрежный райотдел двух хулиганов. Пожилые руководители считали его надменным выскочкой, ищущим дешевой популярности, молодые оперативники — «настоящим ментом» и правильным мужиком. В одном мнения сходились: человек он в общении неприятный. — Как же вы не поймете, — ласково сказал Крутилин. — Верёвка — это фигня! На ней можно только повеситься тому начальнику отдела, который не умеет организовать работу. Именных веревок не бывает, а потому на «сицилийцев» она никогда не выведет. По крайней мере, напрямую. Пусть ею занимаются участковые райотделов… Тон полковника и сочувственная участливость, с которой он растолковывал свою мысль, подошли бы для общения с умственно отсталым ребенком. — …А вы доложите, как собираетесь поправить дело? И когда дадите результат? Задача уголовного розыска — произвести задержание. Значит, нужны конкретные данные: кто преступники и где находятся! Мишуев растерянно молчал, остро ощущая собственную беспомощность. Если бы такие вопросы ставили перед ним с самого начала карьеры, он бы до сих пор был рядовым опером в районе. Дело в том, что Мишуев совершенно не владел логикой оперативного мышления. Лишенный природных способностей шахматист может разыгрывать механически заученные партии, но ему никогда не стать мастером. Зато, выдвинувшись по организаторской линии, третьеразрядник сумеет вполне успешно командовать гроссмейстерами… Поняв, что из миллионов пронизывающих жизнь линий причинно-следственных связей он не способен наверняка выбрать ту, которая соединяет место происшествия с преступником, начинающий оперативник Мишуев окунулся в общественную деятельность. Через год его хорошо знали в райкоме, он стал постоянным участником всевозможных активов и конференций, дежурным и довольно красноречивым оратором. Волна успеха могла вынести его в сферу идеологической работы, но дальновидный Мишуев воспротивился, боясь затеряться среди стандартно-благообразных молодых людей с ловко подвешенными языками, обильно населяющих это поприще. Он рассудил, что общественная активность заметно выделит его именно на прежней службе, где вечно озабоченные, задерганные оперативники только радовались, если находился желающий выступить на собрании или поучаствовать в очередном мероприятии. Вместе с тем надо было «давать процент», что он тоже делал с помощью нехитрых приемов, распространенных в то время повсеместно. В отличие от большинства замотанных делами коллег, он регулярно читал юридические журналы и специальные сборники. Наткнувшись на разработку моделей розыска убийцы, обусловленных спецификой места происшествия, Мишуев на совещании по обмену опытом представил недавно раскрытое преступление как результат использования последних достижений науки, чем привел в восторг генерала. И все шло хорошо. Была поддержка, были составленные подчиненными розыскные планы, было умение показать себя, было доброе отношение начальства. Преступления либо раскрывались, либо нет. В первом случае это была заслуга Мишуева, во втором — неизбежные в любом деле издержки, не снижающие опять-таки оценки проделанной Мишуевым работы. — Какие наиболее перспективные мероприятия вы планируете провести в первую очередь? — снова спросил Крутилин, лениво пролистывая розыскное дело. От третьеразрядника требовали гроссмейстерской игры. — Сизов и Губарев ищут свидетелей на автовокзале, — наугад сказал Мишуев. Полковник захлопнул дело и бешено вытаращил глаза. — Я не могу понять, как вы руководите отделом, — зло процедил он. — По-моему, вы ничего не смыслите в розыске! У Мишуева захолодело внутри. Так оно и было. Но то, что Крутилин разгадал это, грозило катастрофой. — У вас есть единственная козырная карта — отпечаток пальца. Надо разыгрывать ее в первую очередь! — Там же ручной поиск, — почувствовав почву под ногами, Мишуев приободрился. — Министр приказал собрать двести экспертов со всей страны… Сидят, перебирают… — Двести экспертов?! А сколько из них приехало? Вы что, не знаете, как отпускают специалистов? Хорошо, если треть собрали! В общем, так! Командируйте человека в Центральную картотеку, пусть посмотрит, как выполняется приказ министра, если что не так — поднимает шум! Пусть мозолит глаза начальству, теребит всех, пока не получит ответ! — Хорошо, я пошлю Веселовского. Он парень шустрый, с инициативой. — Посылайте кого находите нужным, — мягко проговорил Крутилин. — А я на днях побеседую с Сизовым, подумаю… Может быть, в ближайшее время вы сдадите ему дела… Калмыков оказался огромным парнем с красным лицом и лопатообразными руками. Клетчатая ковбойка не сходилась на мощной шее. — Вот у меня повестка, — сообщил он от двери. — К Сизову. Это вы будете? — Я, — майор показал на стул. — Садитесь. — Спасибо, я уже сидел, — свидетель оглушительно хохотнул и пояснил: — Это такая шутка. Попробовав стул рукой, здоровяк аккуратно уселся и осмотрелся по сторонам. — Повестку принесли, думал за аварию на Октябрьском шоссе, а оказалось не в ГАИ, в угро. С чего бы это? — Значит, жизнь идет по плану — автошколу успешно окончили, сели за баранку… — Сизов будто продолжал начатый разговор. — Шофер первого класса! — довольно сообщил свидетель. — Как и хотели — мощный самосвал? — Рефрижератор… — Калмыков запнулся. — Постойте, а откуда знаете-то? Про планы, работу… Автошколу вспомнили — то ж когда было… Считай, семь лет. — Зачет по материальной части сдали на «отлично», решили отметить и пошли в кафе «Север». Вот с этого места расскажите подробно, по порядку. — Ничего не пойму! — недоумевающе сказал водитель. — Я уж забыл про тот случай… А вы, выходит, все копаете? Чудеса! Мне почудилось, капитан хотел закрыть дело… — По порядку. — Сизов был невозмутим. — Пришли в кафе… С кем? — Один был. Хотел подзаправиться да принять сто граммов с прицепом. А тут подвернулась эта Тамара. — Он удивленно всплеснул руками. — Смотри, сколько лет прошло, а имя запомнил! Другой раз через неделю забуду наглухо, а здесь само выскочило! — Как она подвернулась? — Деньги подошла разменять, двадцатипятирублевку. В буфете, говорит, сдачи нет, а ей сигареты нужны. Пожалуйста, разменял, еще подумал: дурак, деваха красивая, чего растерялся… А она опять подходит — прикурить просит. Ну, тут я пригласил за столик, вина взял, конфет, и пошло-поехало: танцы, манцы, анекдоты… Дело к закрытию, я уже веселый, она тоже… Может, говорю, продолжим? Соглашается: мол, дача в Яблоневке пустая, там и выпивка есть, и закуска. Далековато, конечно… Калмыков сделал выразительную паузу. — Да уж больно заманчиво… И поехал на свою голову! Во двор зашли, по тропинке к дому, а навстречу мужик… «Привела?» — и ножик наставляет… А сзади из кустов — второй… — Здоровяк нервно засмеялся. — Мы так не договаривались — рванул обратно, сшиб этого второго, только меня и видели! Хорошо не растерялся, аж сейчас мороз по спине… — В заявлении про нож ни слова. Почему? — Капитан спрашивает: «Ты нож видел?» Нет — темно ведь, но щелкнуло, как финка выкидная, и вроде блеснуло… Что это, кроме кнопочного ножа? А он опять: «Раз не видел, значит, догадки, а в протокол только факты нужны. Тебе ж показаться могло? Могло. То-то!» — А дальше? — Поехали с ним на дачи, искал я долго, еле нашел. Оказалось — хозяева в отъезде, дом забит, на калитке замок сломан — заходи кто хочет! Капитан поскучнел, говорит: «Ты этих мужиков опознать можешь?» Какой там — только тени видел. «А почему решил, что ограбить хотели?» А чего ж — премию выписать? А он сердится: «Опять догадки! Может, это твоей девчонки братья? Или муж с другом? Может, хотели отучить козла от чужих огородов?» Калмыков вздохнул и развел руками. — Разозлился я и написал, что ничего не было. Зачем в дураках ходить? С тех пор милицию за квартал обхожу. Свидетель обиженно замолк. — Тамара эта как выглядела? — не проявляя видимого интереса, спросил оперативник. — Внешний вид, одежда, поведение? — Симпатичная! Фигуристая, волосы черные до плеч… Одета… Вся в красном: платье, пояс такой широкий, как из клеенки, туфли, сумочка… А чулки черные! — Калмыков азартно хлопнул себя по колену. — Хороша, зараза! Но видно, что девка неправильная. Курила много… Да! — он значительно поднял палец. — Когда от вина разомлела, сболтнула, что кабаки любит, в «Спутнике» чуть не каждый день бывает. Я еще подумал: на какие такие деньги? Или каждый день ухажеров меняет? Не понравилось мне это… — Узнаете? — отрывисто бросил Сизов главный вопрос. — Если в той же одежде… Баба приметная! Да зачем? Я никаких претензиев не имею. — Не имеете, значит… — Сыщик согласно покивал. — А если бы получили ножом в печень? Тогда бы имели? — Ясное дело! Раз обошлось, чего вспоминать? — А ведь гуляют они на свободе, и ножичек выкидной при них… Это у вас претензий не вызывает? Вдруг опять повстречаетесь? — Вы на меня свои дела не перекладывайте! — досадливо сказал Калмыков. — Вам за одно деньги платят, мне — за другое. А оборонить себя сумею, не беспокойтесь? Сизов составил объяснение, протянул водителю, тот внимательно прочитал и расписался. — Можно уходить? Старик кивнул. — Но еще понадобитесь. У нас к вашим знакомцам серьезные претензии имеются! Водитель вышел в коридор и почти столкнулся лицом к лицу с Мишуевым. — Здравствуйте, — буркнул он и, обойдя подполковника, начал спускаться по лестнице. — Здравствуйте, — недоуменно ответил начальник отдела и, оглянувшись, проводил здоровяка задумчивым взглядом. Потом толкнул дверь семьдесят восьмого кабинета. — Кто сейчас у вас был? — спросил он у Сизова. — Лицо очень знакомо. — Шофер первого класса, который считает, что борьба с преступностью — дело милиции и его не касается, — обтекаемо ответил майор. Мишуев отметил, что Сизов не встал и никак не обозначил почтения к вошедшему начальнику. «Может, ему уже известно о планах Крутилина?» — подумал подполковник, а вслух сказал: — Вот народ! Никакой сознательности. Где же я видел эту физиономию?.. Он по-хозяйски сел на стул, достал сигареты, не предлагая Сизову, закурил. — Значит, опрашиваете водителей, — миролюбиво констатировал Мишуев. — И каковы результаты? Сизов пожал плечами. — Каких и следует ожидать. Вы же поручили мне самую бесперспективную линию. Добыто полезной информации — ноль, И вывод — Старик выработался, пора отправлять на покой. Это и есть главный результат. По крайней мере, вам кажется именно так. — Нет бесперспективных линий, есть бесперспективные работники… — отозвался Мишуев после некоторой заминки. — Вот, например, Веселовский: инициативен, находчив! Надо сказать, что он оправдывает надежды. — С помощью оправданных надежд «сицилийцев» в камеру не посадишь, — усмехнулся Сизов. Не обратив внимания на реплику, подполковник бросил пробный шар: — А вы, насколько мне известно, продолжаете свое, подпольное расследование, в ущерб полученному заданию. Потому-то и нет положительных результатов. Сизов опять усмехнулся. — Задание я выполняю, и вы об этом знаете — каждый вечер получаете доклады. Что до остального… У меня есть своя версия, занимаюсь ею в личное время, в соответствии с законом и служебной дисциплиной. Считаете возможным запретить? Мишуев промолчал. — Запретить можно многое, почти все. — Старик повысил голос. — Только черта с два кто-то помешает мне отыскать «сицилийцев» и вцепиться им в глотки! — По-моему, вы переутомились, — сухо сказал Мишуев. — Неужели действительно считаете, что я препятствую розыску преступников? Он встал и молча вышел из кабинета. Придя к себе, Мишуев вызвал Веселовского, приказал лететь в Москву и без результата экспертизы пальцевого отпечатка не возвращаться. — А какое задание определить Фоменко по работе с Сивухиным? — поинтересовался Веселовский. — Да бросьте вы его к чертовой матери, — поморщился подполковник. — Отдайте все материалы в райотдел, пусть отвечает за хулиганство! Веселовский чуть заметно улыбнулся, и Мишуев поспешил сгладить свою непоследовательность. — На определенном этапе наш интерес к нему был оправдан, но сейчас ясно, что к «сицилийцам» он не подстегивается… Веселовский подумал, что этот интерес обойдется Сивухину в три-четыре года отсидки — на острастку местной шпане и на пользу состоянию правопорядка в микрорайоне. Если подполковник предвидел такой результат с самого начала, значит, он мудрее, чем о нем думают. — Да, вот еще… — Мишуев сосредоточенно сдвинул брови. — Как обстановка в отделе? Настроения, взаимоотношения? — Нормально вроде… А там кто знает… В душу-то каждому не заглянешь… Я больше контактирую с Фоменко. — А почему? — быстро, спросил подполковник. — Да так как-то… Он звезд с неба не хватает, по службу знает. И без всяких фантазий. Разрешите идти? Мишуев кивнул. То, что подчиненный ничего не сказал о Сизове и Губареве, само по себе было ответом. После разговора с Крутилиным Мишуев находился в растерянности. Не то, чтобы он поверял в высказанную полковником угрозу — замена начальника отдела не такое простое дело и вряд ли по зубам этому бульдогу, но ясная и прогнозируемая перспектива дальнейшей службы сейчас выглядела размытой и неопределенной. Поэтому особенно важна стабильность в отделе. Подполковник уже жалел, что начал подталкивать Сизова к почетной отставке. Собственно, и визит в семьдесят восьмой кабинет имел целью не только зондаж настроения и намерений старейшего сотрудника, но и демонстрацию возможности примирения. Но где там! Старый упрямец настроен категорично… И черт бы с ним, если бы он не ковырялся в старых делах… Мишуев похолодел. Он вдруг вспомнил, откуда знает здоровяка шофера, вышедшего из семьдесят восьмого кабинета.А в семьдесят восьмом кабинете Губарев дописывал рапорт. «…Опрошено три диспетчера, восемь перронных контролеров, двенадцать водителей. Положительных результатов получить не удалось…» — Завтра опять по вокзалам? — обреченно спросил он, откладывая ручку. — Нет. Завтра тебя ждут рестораны, бары и красивые женщины, — улыбаясь, сообщил Сизов. Губарев чертыхнулся. — Неужели опять бросают на антисанитарию? Отстреливать бродячих собак, разгребать мусорные свалки, заставлять домовладельцев красить заборы? Или еще что-то придумали? Старик от души рассмеялся, что случалось крайне редко. — Нет, на этот раз без обмана. Смотри! Майор вынул из ящика увесистый альбом в потертом коленкоровом переплете, раскрыл наугад. На разноформатных нумерованных фотографиях были запечатлены молодые женщины, в конце альбома каждому номеру соответствовали фамилия, имя, адрес, у некоторых — клички. — С утра покажешь этих птичек Калмыкову, если никого не опознает, отправишься в «Спутник» и поработаешь по приметам некой Тамары. Сизов двинул по столу небольшой листок. — Вредное производство, — ободренно сказал Губарев, просмотрев убористый текст. — Они же могут посягнуть на мою добродетель. — Ерунда. Даром, что ли, в твоей аттестации написано «морально устойчив»! — Старик стер с лица улыбку. — И знаешь что… Работай аккуратно, без рекламы. Сейчас обстановка в управлении складывается так, что нужен козел отпущения. Похоже, что наш достойный руководитель готовит на эту роль меня. А я хочу уйти чистым. Возьму «сицилийцев» — подаю рапорт!
10
Предчувствия никогда не обманывали Старика. В его способности предвидеть события было что-то мистическое. Впрочем, провидческий дар можно объяснить вполне реалистично: большой опыт общения с людьми плюс развитая интуиция. Как бы то ни было, он предугадал намерения начальника отдела, хотя и не знал, что они реализуются в виде тонкой картонной папки, в которую Мишуев вложит полученный от Громакова запрос на архивное дело Батняцкого и черновик собственного рапорта на имя генерала. В рапорте сообщалось о нарушении старшим оперуполномоченным Сизовым субординации и служебной дисциплины, выразившемся в подделке подписи начальника отдела, а также о бессмысленной поездке в командировку, не давшей никакого результата. Конечно, компромат слабенький, но осведомленные люди хорошо знают: заведенное досье разрастается очень быстро. Сизов также предчувствовал, что Калмыков никого не опознает в фотоальбоме, потому что там собраны снимки только профессионалок, хорошо известных милиции. Да и поход в «Спутник» по делам семилетней давности тоже скорей всего не увенчается успехом. Просто Губарев должен выполнить обязательную в подобных случаях программу, после чего данная линия розыска независимо от результата считается отработанной. Следуя общепринятым методикам, иных путей выйти на Тамару не существует. Но у сыскной машины были свои методы. На разболтанном гремящем трамвае Сизов добрался до Берберовки. Бывший поселок стал микрорайоном, впрочем, заметных изменений там не произошло — только блочные пятиэтажки встали вместо бараков на грязных, изрытых, непроезжих круглый год улицах. Сизов зашел в замызганный подъезд, поднялся на последний этаж и позвонил у свежепокрашенной двери, вокруг ручки которой пробивались потеки копоти. — Здорово, Игнат. — Открывший дверь человек в вылинявшем мешковатом трико как будто ждал его прихода. — Видишь, что делают, сволочи! — он указал на следы копоти. — Я крашу, а они жгут! Ну, поймаю! — Кончай воевать, Поликарпыч. — Сизов протиснулся в коридор. — Не надоело? — А чего еще делать? Больше-то ничего и не умею. Поликарпыч, прихрамывая, прошел на кухню, плюхнулся на табурет. — Если всю жизнь кусать да гавкать, на пенсии сам себя грызть начнешь. Тебе-то небось тоже скоро? За последние годы Поликарпыч сильно сдал. Обрюзг, сгорбился, похудел. Сизов вдруг увидел в нем себя, и ему стало страшно. — Хорош плакать! Сизов осмотрелся. Окно без занавесок, голые стены, колченогий стол. На полу десяток трехлитровых баллонов с водой. — Воду так и дают по графику? — Утром и вечером, с шести до девяти. Чтоб они сдохли! Выпить хочешь? Старик покачал головой. — Еще возвращаться на службу. — У меня и нет ничего, — желчно осклабился Поликарпыч. — Только хлеб дома держу да картошку. В будни на мехзавод пускают — там столовка хорошая… — Чего ж предлагаешь! — Сизову захотелось поскорее уйти отсюда. У Поликарпыча всегда был скверный характер, но не до такой же степени! — Я к тебе по делу. — Ясно-понятно, — буркнул хозяин. — Стал бы ты в эту дыру тащиться… — Семь лет назад в «Спутнике» ошивалась красивая брюнетка с длинными волосами, Тамара. Вся в красном, широкий пояс… Помнишь такую? — Тамара? — Поликарпыч пожевал губами. — Была одна Тамара — маленькая, худая вертихвостка, так та белая, перекисью красилась. А других не помню. Сложив руки на груди, хозяин замолчал, и вид у него был уже не такой, как несколько минут назад: будто невидимый компрессор подкачал воздух в полуспущенную шину — он распрямился, вроде как окреп, и даже морщины разгладились, а может, так казалось оттого, что в глазах появилось новое выражение. Сизов выдержал паузу. — Ну, поройся, поройся в своих захоронках. Ты ж каждую записывал! Поликарпыч встал и направился к кладовке. — Посмотрю, если не выкинул… Сизов сдержал улыбку. Через пять минут отставной и действующий сыщики просматривали изрядно потрепанные записные книжки с малоразборчивыми записями, обменивались короткими фразами и переглядывались, понимая друг друга с полуслова. — А знаешь что, — уставившись в пространство перед собой, сказал Поликарпыч, когда последняя страница его домашнего архива была перевернута. — По приметам похожа на Статуэтку. И место совпадает — «Спутник». И одежда… Только она Вера, а не Тамара. Он пролистал блокноты в обратную сторону. — Вот… — Темный ноготь с кровоподтеком у основания подчеркнул одну из записей. — Строева Вера Сергеевна, Пушкинский бульвар, 87, квартира 14. Старик ждал продолжения. — Не профессионалка, в скандалы не попадала, приводов не имела. Но почти каждый день в кабаке ошивалась. Я с ней беседовал пару раз для профилактики… Потом как-то вдруг пропала, может, замуж вышла… А недавно встретил случайно возле «Локона» — выскочила в белом халате воды попить. Конечно, не узнала… Старик записал фамилию, прозвище, адрес. Поликарпыч удовлетворенно кивнул. — Есть польза от отставной ищейки? Может, рано нас списали? «Нас!» — Старика покоробило. — Я тебе так скажу — мы хотя образования не имели, но раскрываемость давали! И настоящую, не липовую! — Всякую… — Но не так, как сейчас! — Ты отстал. Сейчас все по-другому. — Да знаю я! Но эти, новые, все равно работать не умеют! И не хотят! Кто из них ко мне хоть раз пришел? Запросят ИЦ, картотеку: нет, и ладно — пошел домой отдыхать. Наше поколение и слова такого не знало — отдыхать! Сейчас говорят: «Пили, били…» Но весь блат знали, в любую хазу спокойно входили, а чтоб кто-то на опера руку поднял… Я не говорю — пику достать… — А как Фоменко по башке трахнули? Забыл? Поликарпыч отмахнулся. — Когда тебя выставят, ты тоже многое забудешь. А я выброшу эту макулатуру. — Он потряс одной из записных книжек. — Все равно она никому не пригодится.11
На следующий день модный дамский парикмахер Вера Строева по пути на работу дважды прошла мимо неприметного молодого человека, на которого не обратила ни малейшего внимания и не заподозрила, что он проводит скрытую фотосъемку. Еще через день свидетель Калмыков из нескольких предъявленных ему снимков уверенно выбрал фото Строевой, пояснив, что именно о ней он давал ранее показания и ее называл Тамарой. Вечером курьер отнес девушке повестку. За два часа до ее прихода Сизов зашел в областную прокуратуру. Спустившись в цокольный этаж, он без стука вошел в маленький кабинет с зарешеченным окном. Сидящий за столом высокий худой мужчина мгновенно перевернул лежащий перед ним документ текстом вниз и встретил гостя взглядом, от которого неподготовленному человеку хотелось попятиться. — Здорово, Вадим! — А, это ты… Здорово! Взгляд стал мягче, но ненамного. Последние пятнадцать лет Трембицкий работал по убийствам, и это наложило на него заметный отпечаток. Резкий, малоразговорчивый, он никому не доверял, постоянно носил при себе пистолет и был готов к любым неожиданностям. Несколько раз во время следствия по шумным делам людская молва уже хоронила его и всю его семью. К Сизову он относился хорошо, но тем не менее перевернутый лист остался лежать в прежнем положении. — Нашел «сицилийцев»? — натянуто пошутил следователь. — Пока нет. А ты? Трембицкий накрыл перевернутый лист руками, осторожно протащил по поверхности стола и, приоткрыв ящик, согнал документ туда. Проделав эту процедуру, он с явным облегчением выпрямился. — Есть одна зацепка. От автоматов… Трембицкий замолчал, и Сизов понял, что больше он ничего не скажет. О ходе расследования важняк информировал только одного человека — прокурора области. И то только в тех пределах, в каких считал возможным. А я пробую вариант со старым делом, — сказал Старик. — И мне нужно прикрытие на всякий случай… В семьдесят восьмом кабинете областного УВД Сизов и Губарев готовились к встрече Строевой. — Вот сигареты. — Губарев достал из кармана яркую пачку, тщательно протер платком я положил на стол. — «Кент»! То, что надо. Только бери аккуратно, за ребра. — Обижаете. — Сразу, как сравнят, зайди и скажи. Только чтоб она не поняла. Что-нибудь типа: «Вам звонили». Губарев кивнул, посмотрел на часы и молча вышел из кабинета. Через несколько минут дверь приоткрылась. — Мне нужно к Сизову… На пороге стояла эффектная брюнетка в модном облегающем платье, подчеркивающем достоинства фигуры. — Проходите, присаживайтесь, — пригласил майор, разглядывая посетительницу. Выглядит лет на двадцать пять, гладкое фарфоровое личико, умеренный макияж, ухоженные руки. Почти не волнуется. Строева опустилась на краешек стула. — Еще в милиции не была. В народный контроль вызывали, товарищеский суд разбирался — ни одной бесквитанционки, а она все пишет и пишет! Вот дура завистливая! Ей место не в нашем салоне, а в вокзальной парикмахерской! Лишь бы нервы мотать… Сизов сочувственно кивнул. — Мы уже и на собрании заслушивали, и в профкоме были, ну скажите, сколько можно? На лице Строевой эмоции не отражались, только поднимались полукружья бровей и закладывались глубокие морщины на лбу. Она покосилась на сигареты. — Можно закурить? А то свои забыла. — Курите, курите, — кивнул майор, не отрываясь от бумаг. Строева вскрыла пачку, ловко подцепила наманикюренными коготками сигарету, размяла тонкими пальчиками. — Фирменные. Хорошо живете! Она улыбнулась. — Неплохо, — согласился Сизов, подняв голову. Он отметил, что улыбка у девушки странная: верхняя губа, поднимаясь, обнажила ровные зубы и розовую десну, а нижняя осталась ровной. Не улыбка, а оскал. Строева поднесла сигарету к губам, ожидающе глядя на Сизова, но тот не проявил понимания, тогда она вытащила из небольшой кожаной сумочки зажигалку, закурила, откинулась на спинку стула и забросила ногу за ногу. — По-моему, это неправильно. Пишет всякий, кому не лень, а милиция тут же повестку… Сколько можно! — Разберемся, Тамара Сергеевна, — успокаивающе сказал майор. — Вера Сергеевна! — еще не понимая, машинально поправила Строева. — Ах да, извините. Тамарой вы представлялись некоторым из своих знакомых. Строева поперхнулась дымом. — Когда? Я никому чужим именем не называюсь! У меня свое есть! Сизов молча смотрел на собеседницу. Она снова застыла в неудобной позе на краешке стула. На лбу проступили бисеринки пота. Коротко постучав, в кабинет вошел Губарев. — Игнат Филиппович, сигареткой не выручите? — Бери, но с возвратом. Губарев аккуратно поднял сигаретную пачку и вышел. Сизов продолжал рассматривать Строеву. — Почему вы молчите?! — забеспокоилась она. — И что это за намеки? — Вам придется вспомнить и рассказать один эпизод из своей жизни. Семь лет назад, вечером, в кафе «Север» вы подошли к одинокому молодому человеку и попросили его разменять двадцать пять рублей… — Этого не было! Я никогда не подхожу к мужчинам! — Вы очень эффектно выглядели: жгучая брюнетка в красном платье с широким красным поясом, черные чулки. У вас ведь была такая одежда? Строева напряженно задумалась. — Я… не помню. — Это очень легко уточнить. Можно спросить у ваших подруг по общежитию, можно… — Кажется, действительно носила красное платье с поясом… Ну а чулки — разве упомнишь… — Тот молодой человек опознал вас по фотокарточке, опознает и при личном предъявлении, а на очной ставке подтвердит свои показания. — Он просто трус и слизняк! — гневно выкрикнула Строева. — На нас напали грабители, и он убежал, а меня оставил на растерзание! Она заплакала. Сизов невозмутимо выжидал. Постепенно Строева успокоилась, достала платок, осторожно, чтобы не размазать, промакнула глаза. — В милицию вы, конечно, не заявили, примет не запомнили, — прежним тоном продолжил майор. — Так? — А что толку заявлять? Разве мне легче станет? И как их запомнишь, если темно? Она нервно порылась в сумочке, обшарила взглядом стол. — Ваш товарищ так и не вернул сигарет. — Пачка у экспертов, — пояснил оперативник. — Они исследуют отпечатки ваших пальцев. — Зачем? — испуганно вскинулась Строева. — Что я, воровка? — Объясню чуть позже, — Сизов не сводил с допрашиваемой пристального взгляда. — А пока скажите, что произошло на дачах через десять дней, когда вы привели туда нового знакомого? Статуэтка остолбенела. — Какие десять дней?! Какой новый знакомый? Ничего не знаю! Вы мне собак не вешайте! Я… Я жаловаться буду! Прямо к прокурору пойду! Последние слова она выкрикнула тонким, срывающимся на визг голосом. — А почему истерика? Если не были больше на дачах, так и скажите, — майор говорил подчеркнуто тихо. — Вызывают, нервы мотают… Никогда и никого туда не водила! Одного раза хватило, чтобы за километр Яблоневку обходить! — Она глубоко затянулась, закашлялась, протерла глаза. — Пудреницу не теряли? — по-прежнему тихо спросил Сизов. — Когда эти типы напали, всю сумочку вывернули! Хорошо, голова уцелела! — не отрывая пальцев от глаз, глухо произнесла Строева. — Мы говорим о разных днях. После того, о котором вспоминаете вы, место происшествия осматривалось очень подробно, но ничего найдено не было. А через десять дней, когда очередной ваш спутник не успел убежать, нашли пудреницу. Она лежала в трех метрах от трупа… — Ничего не знаю! Вы меня в свои дела не запутывайте? — закричала Строева, с ненавистью глядя на майора, по тот размеренно продолжал: — С нее сняли отпечатки пальцев и сейчас эксперты сравнивают их с вашими, оставленными на сигаретной пачке. Подождем немного, и я задам вам еще несколько вопросов. Лицо Строевой побагровело, и пот проступал уже не только на лбу, но и на щеках, крыльях носа, подбородке, будто девушка находилась в парилке фешенебельной сауны, только готовая «поплыть» косметика была до крайности неуместна. — Я больше не желаю отвечать ни на какие вопросы! Я передовик труда, отличник бытового обслуживания! У меня грамоты… — Это будут смягчающие обстоятельства. Чистосердечное признание тоже относится к ним. Советую учесть. — Да вы меня что, судить собираетесь? Красивые губы мелко подрагивали, и Сизов знал, что произойдет через несколько минут. — Я собираюсь передать материал следователю. Он тщательно проверит ваши доводы и скорее всего полностью их опровергнет. А потом дело пойдет в суд. — За что меня судить?! — Строева еще пыталась хорохориться, но это плохо получалось, чувствовалось, что она близка к панике. — За соучастие в разбойных нападениях. В зависимости от вашей роли — может быть, и за соучастие в убийстве. Надеюсь, что к последним делам ваших бывших приятелей вы не причастны. — Какие еще… последние дела? — Охрипший голос выдавал, что она из последних сил держит себя в руках. И Сизов нанес решающий, удар. — Три убийства. Двое потерпевших — работники милиции. По контрасту с будничным тоном сыщика смысл сказанного был еще более ужасен. — А-а-а! — схватившись за голову, Строева со стоном раскачивалась на стуле. Фарфоровое личико растрескалось, стало некрасивым и жалким. — Это звери, настоящие звери! Они запугали, запутали меня… Я же девчонкой была — только девятнадцать исполнилось! Ну любила бары, танцы, развлечения… Зуб предложил фрайеров шманать, я отказывалась, он пригрозил… Он психованный, и нож всегда в кармане, что мне оставалось? Когда этот здоровый убежал, Зуб меня избил за то, что такого бугая привела… Она захлебывалась слезами, и голос звучал невнятно, но обостренный слух Старика улавливал смысл. — А этот, второй, только слово сказал, Зуб его ножом…Разве ж я знала, что он на такое пойдет… Я с той поры от них отошла, в последние годы совсем не видела, думала, посадили… А они вот что… — Кто такой Зуб? — властно перебил Сизов, знающий, как пробивать стену истерической отчужденности. — Зубов Анатолий, а Худого звали Сергей, фамилию не помню… — словно загипнотизированная, послушно ответила Строева. Когда в кабинет вернулся Губарев, Строева сидела, безвольно привалившись к холодной стали сейфа, а Старик быстро писал протокол. На скрип двери он поднял голову и устремил на вошедшего вопросительный взгляд. Губарев замялся. — Ну? — Вам не звонили. Сизов ошарашенно помолчал. — Точно? — Не точно, — Губарев переступил с ноги на ногу. — Как бы лучше объяснить… Плохая слышимость. Невозможно разобрать, кто звонит и кому… Сизов что-то сказал про себя, только губы шевельнулись. — Ладно, разберемся. Организуй машину и понятых, мы с Верой Сергеевной прокатимся по городу да съездим на Яблоневую дачу. — Майор повернулся к Строевой. — Посидите пару минут в коридоре, нам нужно обсудить небольшой вопрос… Когда Строева вышла, майор набросился на молодого коллегу. — Что ты плетешь? Какая слышимость? — Помните, в позапрошлом году прорвало отопление? Архив залило, дактилопленки отсырели, отпечатки с пудреницы расплылись и идентификации не поддаются. Сизов пристукнул кулаком по столу и опять беззвучно выругался. — Извини… — Он немного подумал. — Ладно! Что есть, то и есть! Сейчас я проведу проверку показаний на месте, а ты займись вот этими. — Сизов протянул Губареву листок с записями. — Только очень осторожно — прощупай, что за люди, где они сейчас. И все! Вечером обсудим.На следующий день начальник отдела заслушивал отчет Фоменко. Ему нравилось, что он внушает подчиненному явное почтение и ощутимый страх, поэтому сбивчивость доклада отходила на второй план и особого раздражения не вызывала. — Мало ли куда могла попасть эта веревка! Номеров на ней нет, по ведомости не списывают… — как всегда глядя в сторону, бубнил Фоменко. — Можно пять лет работать да успешно отчитываться, только толку никакого не будет. Я о товарище Веселовском ничего плохого сказать не хочу, только он все это распрекрасно понимает! — Что же ты предлагаешь? — благодушно поинтересовался Мишуев. Глаза Фоменко беспокойно блеснули. — Товарищ подполковник, вы меня знаете — я исполнитель. Звезд с неба не хватаю, в начальники не рвусь. Что поручат — выполню точка в точку. А предлагать я не умею. У Сизова выдумки много, он во все стороны землю роет, а что архив горячей водой зальет, и он не предвидел… — Постой, постой. — перебил подполковник. — При чем здесь архив? — Так он все в этом старом деле ковыряется… — обрадовавшись вниманию начальника, зачастил Фоменко. — Вчера у него под кабинетом шикарная дамочка плакала, Губарев к экспертам бегал, ну, я и полюбопытствовал… Оказалось, она замешана в убийстве, даже пудреницу на месте происшествия потеряла. — Фоменко зачем-то обернулся и привычно перешел на шепот: — Сизов собирался ее отпечатками с той пудреницы намертво к делу пришпилить, а оказалось, дактопленка испорчена. Вот блин! Кто мог предположить? — Ну и что? — нетерпеливо спросил Мишуев. Фоменко восторженно рубанул воздух ребром ладони. — Сизов ее и так расколол! Сказано — Сыскная машина! Спохватившись, он погасил восхищение в голосе. — В общем, призналась дамочка по всем статьям! Мишуев немного подумал и хмыкнул. — Много ли стоит вынужденное признание, не подкрепленное объективными доказательствами? Как вы считаете? — Почему «вынужденное»? — недоуменно округлил глаза Фоменко. — Говоришь же — плакала! Значит, вынуждали ее, запугивали. Сам знаешь… — Да они все плачут — себя жалеют! — презрительно сказал опер. Мишуев встал, обошел стол и сел напротив подчиненного, создавая обстановку доверительной беседы: — Вчера призналась, а завтра откажется, да еще пожалуется на недозволенные методы ведения дознания! Мало таких случаев! — Сколько угодно, — осуждающе выдохнул Фоменко. — То-то и оно. И придется не восхищаться Сизовым, а наказывать его. Так? Фоменко пожал плечами. Мишуев недовольно повторил его движение. — Нет, примиренческая позиция тут не годится. Мы не можем мириться с нарушениями законных прав граждан! А было ли в данном случае соблюдено право свидетельницы давать те показания, которые она считает нужными? Фоменко вновь пожал плечами, явно не понимая, куда клонит начальник. — Не знаю, не спрашивал. — Вот и спросите! Где ее найти, знаете? — Парикмахерша в «Локоне», чего ее искать… — мрачно буркнул опер. — Тем лучше, — кивнул Мишуев. — Побеседуйте с этой женщиной, узнайте, почему она без объективных улик дала компрометирующие себя показания. Если она захочет пожаловаться на превышение власти Сизовым — примите заявление. Фоменко сжал челюсти, продолжая мрачно смотреть в сторону. — Лучше я ее к вам приведу, вы и спросите, — сквозь зубы процедил он. — Начальнику это сподручней. И инспекция для таких дел имеется… — Я лучше знаю, что делать начальнику и что подчиненному, — холодно произнес подполковник. Вы меня разочаровываете, товарищ Фоменко. Предложений по делу у вас нет, инициативы вы никогда не проявляете, уверяете, что хороший исполнитель. Что ж, такие люди тоже нужны. Но вот я отдаю приказ, а вы вместо исполнения начинаете его редактировать! Значит, и исполнитель вы никудышный? Мне бы не хотелось так думать. Иначе зачем вообще держать вас на службе? — А чего я? Я не возражаю. Надо — значит надо… — Фоменко перевел на начальника убегающий взгляд. — Раз приказано — сделаю… — Важно не только точно выполнить приказ, важно получить нужный результат, — сделав паузу, Мишуев со значением повторил: — Нужный результат, которого от вас ждут! Ясно? — Ясно, товарищ подполковник, — опер привычно шмыгнул носом и кивнул. Вид у него теперь был не мрачный, а просто унылый, как обычно. Но, оказавшись на улице, он снова нахмурился, постепенно замедлил шаг и остановился, явно не желая идти туда, куда был послан. Мимо протекал плотный людской поток, его толкали в спину и бока, били по ногам тяжелыми сумками. — Чего стал, заснул, что ли! — Да, видать, пьяный… Недоброжелательность озлобленных жизнью сограждан не удивила Фоменко — коренного жителя Тиходонска, но придала его мыслям определенное направление. Он целеустремленно зашагал вперед, и тягостные размышления вытеснила из головы поставленная самому себе задача. Через несколько минут он свернул с центральной улицы, юркнул в проходной двор и оказался у тыльной стены неказистого овощного ларька. Постучав условным образом, был впущен, толстая продавщица в грязно-сером, а на животе черном халате сноровисто щелкнула задвижкой, извлекла из закутка початую бутылку водки, сходила за стаканом, заодно прихватив яблоко и крупную морковку. — Что я тебе, кролик? Фоменко залпом выпил стакан, промакнул несвежим платком губы, надкусил яблоко. Порывшись в карманах, протянул мятую пятерку. — Не надо, зачем, что я — обеднею, — замахала руками продавщица, но он сурово отрезал: — Уголовный розыск на халяву не пьет! Выйдя на воздух, он доел яблоко, чувствуя, как расплывается по телу приятное тепло, негромко, с удивлением сказал: — Ну дает! Руками одного сотрудника собрать компромат на другого, столкнуть их лбами, а самому остаться в стороне… Он далеко зашвырнул огрызок, подумал: «Ну что ж, каждый за себя… Мне три года до выслуги… Так что — кто не спрятался, я не виноват!» Уже не задумываясь над всякими глупостями, Фоменко добрался до фирменного косметического салона «Локон», но Строевой на работе не было, администратор пояснила, что она больна. Заглянув в записную книжку, он отправился к ней домой. В это время Вера Строева, сидя в глубоком кресле, разговаривала по телефону. — Не могу ничего делать… Руки, ноги дрожат, тоска смертная… Нет, какой бюллетень, просто договорилась… Людка будет только рада — перебьет моих клиентов… Знаешь, сколько я теряю каждый день? Да, это правильно… Деньги — дело наживное, а нервные клетки не восстанавливаются… И вообще — в перспективе тюрьма… Она истерически рассмеялась. — Да водили меня к адвокату, даже к двум… Один весь такой из себя правильный, говорит: «Характеристики соберите, дело давнее, будем добиваться условного осуждения…» Она переложила красную трубку с белыми кнопками цифрового набора в левую руку, а правой налила в рюмку коньяк из стоявшей рядом на журнальном столике наполовину опорожненной бутылки. — Представляешь! Все грязное белье наизнанку! И Софка послушает, и Мишель, и заведующий… А второй — ушлый жук, тот посоветовал от всего отпереться: я не я, хата не моя! Строева осторожно, чтобы не расплескать, поднесла рюмку к губам, сделала несколько маленьких глотков. — В том-то и дело — и протокол подписала, и на даче этой проклятой все показала, и фотографировали там меня со всех сторон… А он говорит: «Наплюй, сама на них жалуйся, дескать, заставили, обманули…» Она медленно допила коньяк, заинтересованно прильнула к трубке. — Тоже так советуешь? А кто он, этот твой приятель? Ах вот оно что… Два раза, говоришь? А за что? Да, они лучше юристов знают, на собственной-то шкуре… Только чего же он от своей фарцовки не отрекся, если такой умный? Вот то-то и оно! Все умные, пока на хвост не наступят… Строева разочарованно скривилась и собралась опять наполнить рюмку, но в дверь позвонили. — Кто-то пришел, пойду открою. Не знаю, может, Мишель… Я ему ничего не говорила и не знаю, с какого боку… Ну ладно, пока! Она взглянула в зеркало, провела щеткой по волосам и открыла дверь. На пороге, приятно улыбаясь, стоял Фоменко. Улыбался он через силу, это была вынужденная маска при входе в чью-нибудь квартиру после того случая, когда он почти до обморока напугал хозяйку, принявшую его за уголовника. — Вы к кому? — Здравствуйте, Вера Сергеевна. Уголовный розыск, капитан Фоменко, — с той же сахарной улыбкой оперативник поднес удостоверение к лицу Строевой. Та попятилась в комнату и обессиленно опустилась на диван. Захлопнув дверь, Фоменко вошел следом. — Ну я же уже все рассказала, зачем вы хотите опять меня мучить? Этот ваш Сизов вытрепал мне всё нервы! Она заплакала. — Я больная, лежу пластом… Я вскрою себе вены… Ну что ты лыбишься, как идиот! В бессильной ярости Строева затопала ногами. — Да что ты орешь, в натуре, — Фоменко на миг забылся, и тут же глаза его прищурились, сморщилась кожа на лбу, губы угрожающе скривились, голос разнузданно задребезжал: — Тебе помочь хотят… Строева громко икнула, но он уже взял себя в руки и загнал внутрь блатную маску, некстати проступившую на заинтересованно-сосредоточенном лице сотрудника уголовного розыска. Впрочем, он нередко забывал, какое у него настоящее, а какое — маска. — Я же по поручению… Начальник увидел, как вы плакали в коридоре, и поручил спросить, не применял ли Сизов недозволенных методов… Может, он вас пугал, может, не дал прочесть протокол? Строева мгновенно перестала плакать. — Так вы что, своего следователя проверяете? — Ну да. — Фоменко снова расплылся в сладенькой улыбке. — Вы не похожи на преступницу, хорошо работаете — я видел фотографию на Доске почета… Никаких изобличающих вас улик нет… Начальник подумал, что Сизов заставил вас признаться в том, чего вы не совершали. Вот и послал меня разобраться. — Ну и ну! — протянула парикмахерша, нащупывая на столике сигареты. — Конечно, пугал! Она щелкнула зажигалкой, прикурила. — Под суд, говорит, отдам! И сигаретами шантажировал… Статуэтка нервно отбросила пачку. — Отпечатки пальцев вроде бы снимал… Фоменко согнал улыбку, с напряжением удерживая нейтральное выражение лица. — Отпечатки пальцев действительно фиксировались, но сравнить их оказалось не с чем: те, которые были на пудренице, оказались утраченными. Строева резко вскочила с дивана и принялась быстро ходить по комнате. — Значит, на пушку взял! — она глубоко затянулась. — А я, дура, и поверила! Да я такую жалобу… Я до самых верхов дойду! Теперь не те времена! «Ну и стерва! — подумал опер. — Клейма ставить негде, а туда же — права качать!» А вслух сказал: — Начальник поручил мне принять у вас жалобу, так что идти никуда не надо, можете прямо сейчас и написать. — И напишу! — мстительно пообещала Статуэтка. — Я такое напишу! Бумага есть? Фоменко достал из папки бумагу, ручку, положил на столик рядом с бутылкой, сглотнул. — А как писать-то? — Почем я знаю? — неожиданно грубо сказал опер. — Как было, так и пишите! «Еще не хватало, чтобы я тебе диктовал на товарища! — мелькнула гневная мысль. — Что у меня, совсем совести нет?» Строева медленно начала писать, старательно обдумывая каждую фразу. Фоменко прошелся по комнате, подошел к окну. «Много неприятного приходилось делать на этой собачьей работе, но такого противного еще не было, — думал он. — Хотя, если разобраться, то и ничего особенного! Она все равно бы отперлась и стала жаловаться, не сегодня, так завтра, добрые люди присоветуют… Какая разница — я к ней пришел или кто другой… Прислали бы Веселовского — еще хуже, он бы ей такую бумагу составил! А я что — пусть пишет всякую галиматью, они все пишут. Сизову это как с гуся вода…» За окном на балконной веревке хлопало на ветру кружевное белье хозяйки. В другое время мысли Фоменко обязательно приняли бы вполне определенное направление. Но сейчас этого не произошло. В душе оперативника шевелилось то ли неведомое, то ли давно забытое чувство. «А ведь Сизов бы не пошел на товарища компру собирать… Да ему бы никто и не предложил такого!» И тут же возразил сам себе: «Потому что авторитет. Сам генерал у него когда-то стажировался. Конечно, тогда легко быть принципиальным! А приказал бы Мишуев Губареву…» Не спрашивая разрешения, он закурил. «Губарев бы тоже не пошел, шум бы поднял, стал бы рапорт писать… Потому что пацан еще, жизни не знает, жареный петух его не клевал… Вот и слушается Сизова, его умом живет…» Сзади звякнуло стекло о хрусталь. «Сука! Не может потерпеть. Ладно, каждый на своем месте, а я за всех не ответчик. Скоро эта дрянь закончит?» Он не оборачивался до тех пор, пока за спиной не прозвучал деловитый вопрос: — А подписываться как? — Имя. Отчество. Фамилия. Место работы. Адрес. Дата. — С отвращением выплевывал он. — Все! Статуэтка заметно повеселела. Подписав бумагу, она в очередной раз наполнила рюмку, потянулась. — Хотите выпить, капитан? — пухлые губы сложились в обещающую улыбку. — Теперь можно и расслабиться. Даже без грима, в простом домашнем халате она выглядела весьма эффектно. И круглые неплотно сдвинутые коленки… Фоменко сглотнул вязкую слюну. — Милиция на работе не пьет, гражданка Строева, — с трудом выдавил он, стараясь казаться презрительным и небрежным. — Не говоря уже о всяких там «расслаблениях». Последнее слово удалось произнести с явной издевкой. Строеву покоробило. Если бы сегодня утром кто-то сказал, что при столь удачно складывающихся обстоятельствах он произнесет подобную фразу и скривится, будто обнаружил в обеденной тарелке кусочек кошачьего дерьма, капитан Фоменко этому бы не поверил. Уходя, он сильно хлопнул дверью. Занеся заявление Строевой начальнику отдела, Фоменко под вымышленным предлогом покинул управление и, придя домой, напился вдребодан. Впрочем, такое случалось с ним и раньше, правда нечасто.
12
Комната изрядно заросла мохом и паутиной. Старик, который практически только ночевал здесь, уже несколько месяцев откладывал генеральную уборку «на потом», но посещение берлоги Поликарпыча заставило взяться за веник и тряпку. Не хотелось хоть в чем-то походить на одичавшего коллегу. Бывшего коллегу… Отставного коллегу… Сизов будто пробовал на вкус это словосочетание, невольно примеряя к себе. Отставного… Он же остался сыщиком, не спился, не опустился и дела не забыл, помог… Игнат Филиппович выкрутил тряпку, отжимая бурую воду. Слова… Бывший и есть бывший. Списанный охотничий пес. Умеющий идти по следу, поднимать зверя, гнать его, преодолевать сопротивление и, вцепившись в глотку, прижимать, обессиленного, к земле. Больше ни на что не годный, тоскливо грызущий собственный хвост в запущенной комнатенке блочного вольера. Мысль об уходе в отставку, настолько часто посещавшая Сизова в последнее время, что он начал постепенно с ней смиряться, сейчас стала остро угнетать. Может быть, оттого, что после сегодняшнего разговора с Мишуевым перспектива дальнейшей службы определилась предельно четко… Начальник отдела вызвал его через секретаря — это было верным признаком того, что разговор предстоит неприятный. — Ознакомьтесь… — Размашистым движением подполковник бросил на стол заявление Строевой. Сесть он не предложил. Когда обескураженный холодным приемом человек стоя читает кляузу на самого себя, у него обязательно должно шевельнуться чувство вины. Сизов тоже неплохо знал оперативную психологию. Подчеркнуто неторопливо он выдвинул стул, основательно уселся, так же неспешно извлек из внутреннего кармана пиджака очки, которыми обычно пользовался при длительной работе с документами, протер стекла, надел и лишь после этого придвинул к себе заявление. Мишуев внимательно следил за его лицом. Но Старик еще из фэзэушного детства вынес правило: никогда не проявлять боли, растерянности, страха. Особенно перед тем, кто стремится тебе их причинить. Удар, не вызвавший стона, слез или хотя бы болезненной гримасы, кажется всем, в том числе и самому ударившему, вдвое слабей, чем был на самом деле. И уже поколеблена уверенность врага в своем превосходстве, а значит, снизились шансы на победу, и самое время сделать ответный ход… Когда-то гражданин Прищепа по кличке Скелет, улучив момент, ширнул его из-под руки в бок толстым шилом, которым до этого уже приколол трех человек, и вырвавшись, отскочил в сторону, впившись жадным взглядом в «портрет» ненавистного опера. Не находя ожидаемых признаков тяжелой раны, он запаниковал, недоумевающе уставился на круглое острие, испачканное кровью и покрытое коричневым слоем печеночной ткани, промедлил и упустил момент, пока Старик возился в кармане с вмиг ставшим тугим предохранителем. Только щелчок вывел Скелета из оцепенения, он шагнул было вперед, но поздно — сил вынуть руку не было, и Старик жахнул прямо через плащ… Дочитав заявление, Сизов равнодушно положил его обратно. — Что скажете? — напористо спросил Мишуев. Ее право. В таких случаях каждый второй жалуется. И ответ майора прозвучал равнодушно. Мишуева это несколько сбило с толку, но по инерции он продолжал с тем же напором: Зря вы так легкомысленно относитесь к этому. Напишите подробное объяснение, и я направлю материал в инспекцию для проведения тщательной проверки, — и, преодолев что-то в себе, после чуть заметной паузы добавил: — А вас пока придется отстранить от дела. Сизов пожал плечами. — Не смешите людей, товарищ подполковник. Строева сдала нам подозреваемых — Зубова и Ермака. Они уже месяц не появляются дома, есть данные, что прячутся в городе. Губарев отрабатывает их связи. Считаю необходимым подключить ему в помощь Фоменко. Мишуев почувствовал, что теряет инициативу. Это другая тема. А что все-таки можете сказать по жалобе? — Строева дала подробные, в деталях показания — это раз. Показала все на месте происшествия — это два. Пудреницу опознала ее мать и подруга — это три. Калмыков изобличил на очной ставке — это четыре… — Точно, Калмыков! — Мишуев подскочил в кресле. — Я вспомнил этого шоферюгу. Только фамилия вылетела! Но и Строева с пудреницей и Калмыков — из далекого прошлого. Имеют они отношение к «сицилийцам»? Если отбросить ваши фантазии, никакого. Зато ко мне все имеет самое прямое отношение. И время выбрано удачно! — подполковник говорил еще спокойно, но чувствовалось, что это удается ему с трудом. — Не понял… — Губы Старика сжались в жесткую линию. — Сейчас мне совершенно не нужны осложнения. А тут мышиная возня вокруг старых дел, поиски ошибок и упущений… Бывший наставник копает под меня всерьез! — Вы сами копали под себя, хотя тогда об этом не думали, — устало отмахнулся майор. — А сейчас старые факты выплыли и от них никуда не деться. — Факты? Где же они? — зло спросил Мишуев. — Где протокол допроса Батняцкого? Ах, официально он ничего не сказал? И не скажет: перед воровским законом «ершом» выставляться? Черта с два — сразу уши отрежут! Досидит убийцей! Дальше что? Строева? Противоречивые показания, жалобы на незаконные методы воздействия. Пудреница? Поговорит с адвокатом и заявит, что потеряла ее за неделю до убийства. Калмыков? Он жив и здоров, испугался невесть чего, об убийстве Федосова не осведомлен! И что остается? Только ваши домыслы! — Остаются Зубов и Ермак! Когда мы их возьмем, даже вы не сможете назвать факты домыслами! Сизов прищурясь, в упор рассматривал подполковника, и тот на миг ощутил себя бестолковым, не знающим дела стажером, допустившим очередной промах. На импортном пульте селекторной связи вспыхнула красная лампочка и мелодично пропел сигнал вызова: «уа-уа-уа…» Мишуев поднял трубку, ткнул пальцем в клавишу соединения с дежурной частью, и сразу же напряженно застыл. — Когда он это сообщил? Кто-нибудь знакомился с телефонограммой? Как нет, когда половина управления о ней знает! — закричал Мишуев, давая волю раздражению, которое долгое время загонял вовнутрь. — Эти фамилии у меня на столе! Ни черта не соблюдаете режим секретности! Будем наказывать! — Он с силой бросил трубку, резко развернулся к Сизову. — Два часа назад Веселовский сообщил по ВЧ, что отпечаток пальца в машине оставлен Зубовым! А Ермак — его ближайший друг и постоянный подельник. Если вы узнали об этом раньше меня, дежурный будет наказан за халатность и ротозейство. Все равно непонятно, к чему городить огород со Строевой и Калмыковым? Неужели так велико желание закопать непосредственного начальника? Мишуев улыбнулся с нескрываемой издевкой. — Ай-ай-ай, бывший наставник, нехорошо! Учили-то вы меня совсем другому… Сизов некоторое время молчал, с прежним прищуром глядя на подполковника. — Жаль, так ничему и не научил. Порядочность и честность не привьешь, но и элементарной оценке обстановки не выучил. Какая разница, кто вышел на «сицилийцев»? Главное, что они расскажут про Яблоневую дачу, и ты провалишься в ту яму, которую сам для себя копал! Хотя Мишуев не обратил внимания на сизовское «ты», он уже не чувствовал себя стажером. — Если расскажут… Утром следующего дня Сизова вызвал Крутилин. В приемной он столкнулся с Веселовским — тот уже выходил из кабинета полковника, и вид у него был победный. — Как живете-можете, Игнат Филиппович? — с небрежной легкостью спросил он. — Скоро будем брать «сицилийцев», готовьтесь! Если это была шутка, то на серьезный лад. У Крутилина находился Мишуев, сидел за приставным столом нервно вертя в пальцах красивую импортную ручку с электронными часами. Полковник просматривал бумаги, зажатые в скоросшивателе с синей картонной обложкой. Подняв голову, кивнул вошедшему, указал на стул, перевернул очередной лист. Сизов сел напротив Мишуева, положил перед собой потертую кожаную папку, на которую подполковник покосился с некоторой тревогой. Несколько минут в кабинете царила тишина. Наконец Крутилин перевернул последнюю страницу досье. — Так. — Он поднял голову и перевел тяжелый взгляд с Сизова на Мишуева и обратно. — Подделка подписи — это полная… — он сдержался. — Полная ерунда. Безрезультатная поездка — тоже. Из рапорта видно, что определенная информация получена, хотя официальных показаний этот, как там его, не дал. Жалоба парикмахерши… Ладно, об этом потом. А сейчас скажите-ка мне, майор, на каком основании вы работаете с людьми, проходящими по старым делам? Вызываете их, допрашиваете, воспроизводите показания на месте? Мишуев старательно закивал. — Они ведь никак не подстегиваются к розыску «сицилийцев»? — продолжал Крутилин. — Значит, ваши действия незаконны. Сизов распустил разболтанную «молнию», порылся под настороженным взглядом Мишуева в кожаном нутре, отыскал и извлек бланк областной прокуратуры с отпечатанным текстом и размашистой подписью Трембицкого, протянул полковнику. — Вот письменное задание следователя, которое я выполнял. Крутилин внимательно прочел документ, взглянул на Мишуева. — Почему я ничего не знаю? — раздраженно спросил тот. — Я никаких заданий следователя не визировал! — В данном случае ваша виза не требуется, — спокойно пояснил Сизов. — Я вхожу в оперативно-следственную группу, созданную приказом прокурора области и генерала. Трембицкий — руководитель группы. В качестве такового он напрямую дает задания всем членам бригады. Мишуев открыл рот и снова закрыл. Крутилин посмотрел на него, усмехнулся и захлопнул досье. — Теперь по сути жалобы и о результатах вашей работы. Рука Сизова снова нырнула в папку, и на свет появились сразу три документа. Старик по одному выложил их перед Крутилиным. — Рапорт. Установочные данные фигурантов розыска. План оперативно-розыскных мероприятий, — коротко комментировал майор, не глядя на начальника отдела особо тяжких. — А по жалобе чего говорить — и так все понятно. На каменном лице Крутилина промелькнула тень интереса. Он взял бумаги, внимательно Посмотрел на Сизова, потом не менее внимательно на Мишуева. Тот не сводил глаз с авторучки, будто считал выпрыгивающие на электронном циферблате секунды. Полковник погрузился в чтение. В кабинете наступила тишина. Дочитав, Крутилин задал Старику несколько вопросов, которые выдавали в нем профессионала, глубоко знающего сыскное ремесло, пометил что-то на календаре, взвесил на ладони мишуевский скоросшиватель. — Хемингуэя читали? — неожиданно спросил он. — Про корриду? Подполковник ошарашенно пожевал губами. — Давно когда-то… Студентом. — Что там главное? — Крутилин слегка подбросил синюю папку, будто давая понять, что в ней и кроется ответ. Мишуев хмуро покачал головой. — Не помню. Когда это было… — Главное — последний удар! — Выпуклые льдистые глаза азартно блестели. — Все остальное: танцы перед быком, пики в загривок, взмахи плаща — это подготовка. Без завершающего выпада — обычный балаган, которому грош цена! Мишуев недовольно дернул подбородком. — При чем здесь коррида? — А при том! — полковник еще несколько раз подбросил скоросшиватель, уронил на стол и прихлопнул ладонью. — Можно планировать, докладывать, отчитываться, заверять, и хрен всему этому цена! Надо задержать преступника, и тогда становится ясно: кто прав, кто виноват, кто умный, кто дурак, кто правильно работал, кто нарушал, кто пахал, а кто болтал… Вот здесь, — полковник также небрежно ткнул пальцем в синюю обложку, — нет ничего про то, как взять «сицилийцев». А здесь все именно про это. — Он за уголок поднял схваченные скрепкой листки Старика. — В связи с этим возникает вопрос о двух подходах, двух методах работы, продолжал Крутилин. Мишуев вновь считал секунды. — Кстати, вы не изменили мнения о дальнейшей организации розыска? — Голос полковника приобрёл опасную мягкость. — Нет. Пусть Веселовский заканчивает свою работу, — не отрываясь от электронного циферблата, сказал Мишуев. Он знал, на что идет, и ожидал вспышки, но неожиданно в глазах Крутилина появилось новое выражение. — Что ж, это даже интересно… Полковник откинулся на спинку кресла, тональность голоса изменилась на обычную. — Проведем эксперимент: какой подход правильней… И сделаем соответствующие выводы… Чтобы никто не упрекнул нас в субъективизме, — вслух размышлял Крутилин. — Действуйте, товарищ подполковник, руководите перспективными сотрудниками, товарищами Веселовским и Фоменко. Мишуев понял, что Крутилин издевается, хотя ни в голосе, ни во взгляде это не проявлялось. — А вы, майор, работайте по своему плану, — повернулся Крутилин к Старику. — Докладывайте лично мне. Возникнут проблемы — ко мне. Короче — замыкайтесь непосредственно на меня. Такое, значит, устроим соревнование… Полковник улыбнулся Мишуеву, приглашая того к ответной улыбке. — Кто первый прищемит хвост этим гадам… А задержанием в любом случае руковожу я. Договорились? Улыбка мгновенно исчезла. — Вопросы есть? Нет? Работайте! Когда разыскиваемые известны, их рано или поздно находят. Принято считать: чем раньше, тем лучше. Но в данном случае Мишуев придерживался противоположного мнения. С его подачи Силантьев доложил на оперативном совещании о крупном успехе отдела особо тяжких: личности «сицилийцев» установлены, при этом отличился Веселовский, ну и, конечно, начальник отдела. Само собой, отблеск славы падал и на руководство уголовного розыска, поэтому и Силантьев удостоился похвалы генерала. По имеющимся данным, Зубов и Ермак находились в городе, несколько раз их видели то в одном, то в другом притоне. «Сицилийцев» объявили в местный розыск. Все органы и подразделения внутренних дел области получили их фотографии и соответствующие ориентировки. В любой момент инспектор ГАИ или участковый, оперативный работник или постовой, сотрудник патрульно-постовой службы или младший инспектор из «взвода карманных краж» мог обнаружить и опознать преступников. Для областного уголовного розыска дело было практически окончено. Мишуев с достоинством принимал поздравления коллег и ждал приказа об откомандировании на учебу. И хотя логическим завершением операции могло стать только задержание «сицилийцев», Мишуев не торопил этот момент, напротив, надеялся, что «последний удар» будет нанесен уже в его отсутствие: спокойней, если эти псы начнут болтать про Яблоневку… Не попадешь под горячую руку — вполне можешь и уцелеть, а за несколько лет все забудется… Правда, Москва не на другой планете, если захотят — достанут и там… Другое дело — захотят ли доставать… По-настоящему захотят ли? Ведь проще простого посотрясать воздух, метнуть пару молний в отсутствующего и этим ограничиться. Формально комар носа не подточит… Силантьев так и сделает. Да и Павлицкий мужик не кровожадный, к тому же скандальные разоблачения в областном аппарате ему совсем ни к чему. А вот этот Бульдог да чертова Сыскная машина… В действительности отдел особо тяжких будто трещина рассекла. Веселовский и Фоменко не заходили в семьдесят восьмой кабинет, Сизов и Губарев обходили их восемьдесят третий. При встречах Веселовский здоровался холодно и несколько свысока, а Фоменко буквально корежился, выдавливая слова приветствия, при этом лицо его страдальчески кривилось и глаза убегали в сторону. Обмена информацией между парами сыщиков практически не было. Веселовский докладывал собранные данные Мишуеву, тот, исполняя приказ, представлял их Крутилину, полковник доводил до Старика. В свою очередь, Сизов вначале знакомил с добытой информацией Крутилина, после чего представлял начальнику отдела. Обзорную справку по личностям «сицилийцев» майор тоже принес Крутилину. — «Зубов Анатолий, тридцать один год, две судимости, квартирная кража и хулиганство, отбыл четыре года, злостно нарушал режим содержания, к представителям администрации относился враждебно, на путь исправления не встал, — вслух читал полковник. — После освобождения несколько раз проходил по уголовным делам, прекращенным за недоказанностью… Вину никогда не признает, при задержаниях оказывает сопротивление. Дерзок, агрессивен… Склонен к побегам при конвоировании». Крутилин поднял от бумаг тяжелый взгляд. — Не подарок! И продолжил чтение: — «Ермак, тридцать лет, преступления совершал совместно с Зубовым, отбыл три года. Лжив, поддается чужому влиянию, истеричен… Во время развода на работу в ИТК-7 демонстративно вскрыл себе вены. Дерзок, злобен, мстителен, кличка Псих. Поведение труднопредсказуемое…» — Полковник выпятил подбородок, провел ладонью, будто проверяя, не зарос ли за день. — Один другого стоит… А ведь они, пожалуй, не сдадутся. Как думаете, Игнат Филиппович? — Смотря кто брать будет, — криво улыбнулся Старик, и Крутилин ответил точно такой же понимающей улыбкой. — А ведь Старик и Бульдог схавают их вместе с костями. Как думаешь? Сизов впервые услышал свое прозвище в официальной обстановке. И впервые полковник проявил осведомленность о том, как называют за глаза его самого. — Конечно, схаваем, дернув щекой, подтвердил майор. — Значит, вдвоем и пойдем, — раздумчиво проговорил Крутилин. — Разве что Лескова в прикрытие поставим, на всякий случай… Он тоже крутой парень! Полковник оживился. — Знаешь, что он выкинул? Вместо политзанятий проводил метание ножей! Конечно, схлопотал выговор… Крутилин засмеялся. Впервые Старик видел, как полковник смеется искренне и от души.13
Следующая неделя началась с неожиданностей. Произошло ЧП с Крутилиным. Поздно вечером возвращался домой, в троллейбусе сделал замечание троице пьяных хулиганов, те, как водится, вышли следом «проучить мужика». Полковник сшиб одного с ног, закрутил руку второму, а третий пырнул его ножом в бок. Обычная история, за исключением того, что потерпевшим в ней оказался замнач УВД. Впрочем, должность, даже самая высокая, не способна защитить того, кто без служебной машины и привычного окружения рискнул путешествовать по ночному городу. Но холодный клинок воткнулся в тело не просто кабинетного руководителя, а матерого сыщика, который ввел для всего оперначсостава постоянное ношение оружия, в свободное время для души ловил карманников и за личностные качества был удостоен клички Бульдог. Это и определило исход происшествия. Рывком сломав захваченную руку, Крутилин бросил бесчувственное тело на землю, не нарушая инструкции, расчетливо выстрелил в ногу вооруженному, раздробив вдребезги коленный сустав, навалился на первого, который начал уже приходить в себя и, уперев еще горячий ствол ему под челюсть, втолковывал что-то сквозь зубы до самого приезда патрульной машины. Что именно он говорил хулигану, осталось тайной, но то, что тот обмочился, — достоверный факт, подтвержденный сержантами патруля. Зажимая пульсирующую рану, Крутилин отдал несколько распоряжений, поставил на предохранитель и сдал старшему патрульной группы пистолет и продержался в сознании до самой операционной. Операция прошла нормально, и прогноз врачи давали благоприятный, с обычными, впрочем, оговорками насчет возможных осложнений. Но на полтора-два месяца полковник выбыл из строя. В устранении Бульдога Мишуев увидел руку судьбы. Обязанности замнача переходили к Силантьеву, а тот был доволен отделом особо тяжких и его руководителем, следовательно, развитие событий вновь становилось планируемым и предсказуемым. Но грянула вторая неожиданность: звонок в дежурную часть по «02». — Зуб с Психом у сестры, на Октябрьской, 47, — быстро проговорил мужской голос. — У них красная «шестерка», сейчас свалят, быстрее… В трубке щелкнуло, раздались короткие гудки. Дежурный немедленно передал информацию Силантьеву, тот по селектору доложил генералу, одновременно вдавив клавишу связи с кабинетом Мишуева, чтобы разговор был слышен и ему. Ухватив суть происходящего, Мишуев трижды нажал клавишу с цифрой 83. Это был условный сигнал: срочный сбор. Силантьев еще не договорил первую фразу, когда в кабинет начальника отдела особо тяжких вбежал Веселовский, а через несколько секунд неуклюже ввалился Фоменко, озабоченно устраивающий под мышкой что-то тяжелое. Оба напряженно застыли, вслушиваясь в глуховатый голос, доносящийся из-под декоративной решетки пульта связи. — Там действительно живет сестра Зубова… Адрес Силантьев назвал раньше, поэтому Мишуев написал его на листке бумаги. Лицо Веселовского выражало готовность к решительным действиям, Фоменко ежился и уныло шмыгал носом. Подполковник протянул листок Веселовскому. — Берите мою машину. Песцов внизу, во дворе. И это… Оружие держать наготове и применять смело! Оперативники выскочили в коридор. — …прервал разговор, поэтому личность его неизвестна… — Заканчивая доклад, осторожный Силантьев добавил: — Так же, как и достоверность сообщенной им информации. — План действий? — резко спросил Павлицкий. Силантьев замешкался с ответом. — Мишуев в курсе? — так же резко спросил генерал. Начальник отдела особо тяжких включился в разговор. Я уже послал группу, товарищ генерал, — ровным голосом сообщил он. — О результатах сообщу немедленно. Генерал любил краткость и деловитость. — Кто выехал? — голос Павлицкого стал мягче. — Веселовский, Фоменко, Песцов. Старший — Веселовский. — Справятся? — с сомнением спросил генерал. — Обязательно! — без запинки ответил Мишуев. Он знал, что генерал не терпит сомнений, неуверенности и колебаний. — А где Сизов? Почему его не задействовали? Теперь замешкался Мишуев, но только на мгновение. — Веселовский успешно провел этот розыск, пусть он его и заканчивает, товарищ генерал. У Сизова возраст и вообще… Должна же быть смена ветеранам… Павлицкий недовольно крякнул. — Имейте в виду, за исход операции спрошу персонально с вас! Чтобы не наломать дров, самым тесным образом привлеките к задержанию Сизова! Он и в своем возрасте заменит… — генерал бормотнул что-то неразборчивое и отключился. — Не боись, — подал голос Силантьев. — Веселовский парень толковый. Да и мы с тобой обмозгуем, если что… Он молчал. — А Сизова задействуй… Опыт-то у него, сам знаешь. И вперед видит… Тем более генерал приказал… Он ведь чуть что не так — сразу тебе голову оторвет… Силантьев тоже отключился. Мишуев распустил узел галстука, вытер вспотевший лоб. Крутилина нет, начальник УУР ушел в сторону, оставив его на острие атаки. С одной стороны, это хорошо: не надо будет делиться славой… А с другой, не с кем делить ответственность. К победе все равно примажутся многие, а в случае неудачи придется ответить полной мерой. Неудачу генерал подаст как провал линии Крутилина. Погнался за дешевым авторитетом, ездил в троллейбусах, ловил карманников, нарвался на нож. А уголовным розыском не руководил, развалил работу, сбил с толку подчиненных неверным тезисом об игнорировании опытных кадров в целях так называемого «омоложения». И результат налицо. Надо делать оргвыводы… Большая голова одна не падает, надо для компании отрубить несколько маленьких. И Силантьев дал понять, кто в эту компанию попадет… Мишуев встряхнулся. Рано раскисать! Скорей всего Веселовский прихлопнет этих типов как мух. Руки у него развязаны: будут дергаться — перестреляет и дело с концом. Кстати, самый лучший выход из той давней истории с Яблоневкой… А подстраховаться не мешает, поэтому Сизова пригласим поучаствовать, отчего не прислушаться к ветерану… Старик поднимался из картотеки к себе и на лестнице столкнулся с бегущими вниз коллегами из восемьдесят третьего кабинета. Пиджак Веселовского распахнулся, открыв заткнутый за пояс пистолет. Они выбежали во внутренний двор, потом Фоменко вернулся обратно, подскочил к постовому, нервно сунулся в дежурную часть. — Где Песцов? Песцова не видели? Какие сигареты, когда ехать надо? В какой ларек? На углу? — Он выскочил на улицу. Сизов зашел в дежурку. — Что случилось? Озабоченный Котов оторвался от регистрационного журнала. — Позвонил неизвестный, сказал, что «сицилийцы» в одном адресе. Ваши едут проверять — может, брехня… — Да нет, не брехня. — Старик зачем-то взглянул на часы и выругался про себя. Дернул же его черт отлучиться! Он знал, кто звонил, и информация предназначалась ему. «02» был запасной вариант… Песцова Фоменко отыскал у табачного киоска. Тот не выразил большой готовности ехать, особенно когда узнал о цели поездки. Но во дворе взбешенный Веселовский схватил водителя за грудки и пообещал набить морду, после чего тот с неохотой сел за руль. С задержкой в двенадцать минут «Волга» выкатилась на улицу. — Быстрее! — бросил раскрасневшийся от возбуждения Веселовский. Дороги были забиты транспортом, на перекрестках то и дело возникали пробки. — Вруби сирену — и полный! «Волга» выскочила на осевую. Пронзительный звук итальянской сирены разгонял маячившие по курсу автомобили. Проскакивая на «красный», Песцов чудом увернулся от бокового удара, какой-то «Москвич» протяжно заскрипел тормозами и юзом развернулся на асфальте. Промчавшись через центр города, машина свернула на Каменногорский проспект. — Выключай, — скомандовал Веселовский, в очередной раз бросая взгляд на часы. Ехали они восемь минут. Через три квартала начиналась Октябрьская. Через два. Через один. Песцов сбросил скорость. «Волга» уголовного розыска влилась в общий поток транспорта. Оперативники напряженно всматривались вперед вдоль нечетной стороны улицы. — Черт, людей много… — Вон они, — сказал Веселовский. В конце квартала человек грузил чемоданы в багажник красной «Лады». Человек захлопнул багажник, обошел машину и сел рядом с водителем. «Шестерка» тронулась. Сократи дистанцию! — приказал Веселовский. — Только аккуратно, спрячься вот за тот фургон… Он одновременно поднял тяжелую трубку рации и миниатюрную — радиотелефона. — «Эльбрус», я «шестнадцатый», прием, — Веселовским вызывал дежурную часть, в то же время набирая кнопками помер Мишуева. — «Шестнадцатый», я «Эльбрус», слушаю вас, — сказала рация. Через секунду в миниатюрной трубке отозвался голос начальника отдела. — Нахожусь на Октябрьской, только что от дома сорок семь отъехала красная ноль шестая, — говорил Веселовский сразу в два микрофона. — Госномер… Он вгляделся. — Г 2744 ТД. В ней водитель и пассажир. На наших глазах загрузили два чемодана. Движутся по Октябрьской. Продолжаю вести наблюдение. — Вас понял, — отозвался дежурный. — Кто в машине? — спросил Мишуев. — Пока не видно… Красный «Жигуль» свернул на Индустриальную. V третьего светофора прямо перед ним заглох грузовик. — Ну что, мать их, берем? — по-прежнему сипло спросил Фоменко и щелкнул затвором. — Ты справа, я слева, аПесцов прикрывает… — Люди кругом, — процедил Веселовский. — Да и не подойдем… Водитель «шестерки» выворачивал руль, газовал, отчаянно сигналил, пассажир жестикулировал и что-то выкрикивал. Напрасно: никто не давал им выехать из ряда, никто не уступал дороги. «Волга» прошла совсем рядом. — Ну?! — выдохнул Фоменко. — Они! Зубов за рулем, Псих рядом, — произнес Веселовский в оба микрофона. — «Сорок пятый», я «Эльбрус», — раздалось из рации. — Запишите адрес в вашем квадрате: Степная, сто пять, Марциев — владелец автомобиля «Жигули» красного цвета, номер Г 2744 ТД. Проверьте, где он сам и где его машина. Как поняли? — «Эльбрус», вас понял, — отозвался грубый голос «сорок пятого». — Доложить немедленно. «Шестнадцатый» слышит? — Слышу, — сказал Веселовский и, не оборачиваясь, обратился к Фоменко: — Поставь на предохранитель, а то засадишь мне в спину… — А ты сбавь скорость, пусть обгонят, — приказал он Песцову. Веселовский будто смотрел со стороны и явно нравился сам себе. Страх прошел, только некоторое напряжение, но мысль ясная, задача понятна и, главное, азарт, от которого легко всему телу. Он умело командовал и чувствовал, что это получается, правда, плохо представлялась сама развязка, но главное ввязаться, а там видно будет… — Вот они, сволочи, — прошептал Фоменко. Машина «сицилийцев» скользнула мимо и свернула в сторону Южного шоссе. — Держись на хвосте, но не особо близко, — уверенно скомандовал Веселовский и поднес к губам изящную трубку радиотелефона. — Они идут на юг, товарищ подполковник, рвут из города. На КП ГАИ буду задерживать. Дайте команду поставить там заслон. И группу резерва надо бы подтянуть… — Сейчас организуем, — сказал Мишуев. — Вы там смотрите… Таких зверей вам еще брать не приходилось. Будьте готовы применить оружие. И решительно, хватит с нас похорон! Песцов что-то сказал, но на него никто не обратил внимания. Машина «сицилийцев» пробивалась по перегруженным улицам к южному выезду из Тиходонска. Метрах в семидесяти двигалась «Волга» уголовного розыска. В сплошном автомобильном потоке они ничем не выделялись. В кабинете начальника отдела особо тяжких было жарко. Впрочем, может быть, Мишуеву так казалось. Он снял и повесил на спинку кресла пиджак, распустил, а потом и совсем сорвал галстук, расстегнул ворот сорочки. Делать это было неудобно, потому что действовать приходилось одной рукой, а во второй он держал трубку селекторной связи. — Переключай эфир на меня, — говорил он Котову. — А сейчас соедини с Южным КП ГАИ. В трубке щелкнуло. — Южный, лейтенант Сериков! — Ты в курсе, что на вас выходят «сицилийцы»? Никогда не виденный начальником отдела особо тяжких Сериков пару секунд посопел в микрофон. — Никак нет, товарищ подполковник! — опомнившись, отрапортовал он. — Дежурный передал: задержать машину 27–44 красного цвета. А кто в ней — сицилийцы или армяне, не сказал… Мишуев потерял самообладание. Коротко, но популярно он объяснил инспектору дорожного надзора, кто он есть такой, какое место занимает в системе органов внутренних дел, какую пользу можно от него ожидать в деле борьбы с преступностью и каковы перспективы его дальнейшей службы. — Это они убили Мерзлова и Тяпкина! — орал подполковник, не думая о том, что его слушает вся Дежурная смена. — И тебя… с такой подготовкой расшлепают за минуту! — Никак нет… — повторил Сериков, который еще не знал, что благодаря громкой трансляции прославился на все управление. — Мы уже «ежа» проверили, приготовили КамАЗ с песком, две патрульных машины подтянули… Не уйдут гады! — И, решив окончательно оправдаться, добавил: — Только какой национальности они — не знали, это наша ошибка… Мишуев коротко рассмеялся и сдержал готовые вырваться слова. Гнев прошел. — Сколько вас там? Шестеро? Оружие у всех? Будьте готовы, чуть что — стреляйте! Чтобы не повторился восемнадцатый километр… — «Эльбрус», я «сорок пятый», — ворвался в динамик селектора общий эфир. — Хозяина дома нет. Жена сказала: два дня, как уехал на машине к брату, в область. Вчера должен был вернуться, до сих пор нету. Адрес брата записали… — Слыхали, товарищ подполковник? — включился Котов. — «Шестнадцатый», слышали? — в свою очередь, спросил Мишуев. — Как там у вас? — Слышали, — отозвался Веселовский. — Видно, он там же, где Сероштанов. У нас без изменений. Идем по Индустриальной в сторону моста. Пока отключаюсь. Мишуев развалился в кресле и расслабился. Что-то ой собирался сделать… В кабинете уже не было жарко. Разрядка наступила после разговора с бестолковым, но, судя по хватке, знающим службу Сериковым. Пока все шло хорошо, дело двигалось к завершению. И скорей всего узел семилетней давности развяжут пули пээмов. Мишуев успокоился. Он чувствовал, что владеет ситуацией. Значит, выучился, несмотря на скепсис кое-кого… Он вспомнил, что собирался сделать, и потянулся к клавише связи с семьдесят восьмым кабинетом. Но не успел нажать ее, как Сизов без стука распахнул полированную дверь. «Черт побери, неужели он и правде ясновидец?» — подумал подполковник, а вслух сказал: Дело сделано! Веселовский обнаружил «сицилийцев», преследует их и вот-вот поставит точку! Выражение лица Сизова не изменилось. Мишуеву показалось, что он все знает. Мелькнула даже неприятная мысль, что чертова Сыскная машина знает, что будет дальше. — «Сицилийцы» с автоматами? — сразу же спросил Сизов, и уверенность начальника отдела в том, что он контролирует ситуацию, мгновенно пропала. Это обстоятельство он совершенно упустил из виду. Мишуев вновь ощутил себя бестолковым и малоперспективным стажером. — Пока не установлено. — Тоном он дал понять, что все необходимые меры в этом направлении предприняты. — Конечно, дело десятое, — хмыкнул Старик и гвоздем вбил следующий вопрос: — Где он думает проводить задержание? — На Южном КП ГАИ. Там уже все готово: и самосвал, и «еж»… Сизов с досадой махнул рукой. — Неудачное место! — Это еще почему? — Дорога прямая, идет под уклон, просматривается, как на ладони. Приготовления впереди, машина Веселовского сзади. «Силицийцы» не дураки — возьмут и свернут на Кольцевую. Надо перегнать самосвал на пятый километр, там двойной поворот и резкое сужение дороги. — Не усложняйте. Веселовский знает, что делает. Через несколько минут он доложит о завершении операции. У Мишуева в кабинете тонко запел зуммер радиотелефона, на пульте вспыхнула зеленая лампочка. Вздрогнув, он схватил трубку. — Слушаю! Да! Черт возьми… Что думаешь делать? Ну давай, по обстановке. Докладывай! Он сделал переключение на пульте, резко скомандовал: — Перекрыть Кольцевую на уровне товарной станции! Подтянуть патрульные машины из центра! Оцепить район, убрать прохожих! Сизов привстал со стула. — Для перехвата надо было подготовить усиленную группу резерва! — Группа резерва находится на выезде из города, — раздраженно сказал начальник. — Кто мог предположить, что они свернут на Кольцевую! Подполковник осекся. — Неужели вы действительно ясновидящий?! — Да нет. Прогнозы основываются на знании людей и жизненных ситуаций. А в данном случае все вообще элементарно… — Пророки! — зло прищурился Мишуев. — Сколько развелось пророков… Но одних пророчеств мало. Надо вносить свой вклад в общую работу. Легко тыкать пальцем в чужие ошибки… Упущения Веселовского — это и ваш промах: не подсказали, не сориентировали… Когда я был опером, а потом начальником уголовного розыска… Сизов встал. — Вы сделали все, чтобы сейчас мы ловили «сицилийцев». Всю жизнь вы лакировали действительность, гнались за процентом раскрываемости: девяносто восемь — мало! — он загнул один палец, второй, третий. — Девяносто девять — больше! Девяносто девять и девять десятых! Сто! И на этом дутом проценте делали карьеру, получали благодарности и внеочередные звания! — Не стройте святого, — отмахнулся подполковник. — В то время все игрались цифрами. Рапортовать надо было о том, чего от тебя ждут, а не о том, как обстоит дело в действительности. И вы тоже «давали процент»! — Давал, было дело, прятал кражи, хулиганку. Но убийц я никогда не отпускал! — А кто отпускал? Дело Батняцкого вел следователь прокуратуры, а приговор выносил суд! Как я мог знать, что он взял чужой «мокряк»? Старик скривился, словно от зубной боли. — Вы просто не хотели этого знать! Спрятав разбойное нападение на Калмыкова, вы умышленно оставили на свободе Зубова и Ермака, которые уже сделали первый шаг к превращению в «сицилийцев»! И убийство Федосова списали на этого приблатненного полудурка! — Что ж я — сам себе враг? — Мишуев был спокоен и снисходителен. — Наоборот, в тот период вы стали начальником уголовного розыска, а потом пошли на повышение в область. Врагом вы были для людей, среди которых оставляли развращенных безнаказанностью убийц! — Интересное рассуждение! Выходит, только врагов продвигают по службе? Интересно… Значит, Павлицкий, Крутилин, начальники отделов — враги простых советских людей? За это и выдвинули? Так получается? — Брось! — презрительно сказал майор. — Время этих тухлых провокаций давно прошло! И не надо за чужие спины прятаться. Те, кого назвал, — профессионалы. А ты работы не знаешь, способностей сыскных не имеешь, только на очковтирательстве и выезжал. — Как разговариваете? На гауптвахту захотели? — тихим угрожающим голосом проговорил Мишуев. Сизов взял себя в руки. — Начальство разберется: кого куда. Наступил момент, когда на чернухе не выехать. Операция по захвату «сицилийцев» не спланирована, сейчас она вышла из-под контроля. И неизвестно, чем закончится для Веселовского и других ребят… А что на «ты» сказал — извиняюсь. Снова зазуммерил радиотелефон. Мишуев включил громкую трансляцию. — Они ушли с Кольцевой, — ворвался в кабинет возбужденный голос Веселовского. — Переехали пути, не доезжая шлагбаума. Движутся к Восточному шоссе. Мишуев растерянно молчал. Все летело в тартарары. Третьеразрядник беспомощно застыл перед доской, на которой неожиданно осложнилась ситуация. Он вопросительно смотрел на Сизова. Губы Старика шевельнулись. — Отсекайте их от Восточного шоссе и от центра города. Мишуев продублировал команду дежурному. Несколько минут динамик молчал. — Они остановились на выезде из поселка железнодорожников, — по-прежнему возбужденно сообщил Веселовский. — Так прихлопните их! — не выдержал подполковник. — Не приближаться! — одновременно крикнул Сизов. — Не понял, повторите, — запросил «шестнадцатый». Мишуев смотрел на Сизова. Тот молчал. Пауза затягивалась. — Стою в ста метрах от «сицилийцев». Жду указаний, — донеслось из динамика. — Продолжайте наблюдение. Не приближаться, — устало сказал Мишуев. Сизов быстро прошелся по кабинету взад-вперед. Так мечется по вольеру затомившаяся овчарка. — Сядьте, — бросил подполковник. Старик сел. — Они двинулись к водокачке. Иду следом, — доложил Веселовский и после паузы продолжил: — Впереди показался патрульный автомобиль. Преследую. Связь прекращаю. Красная «шестерка» подпрыгивала на ухабах, поднимая бурые облака пыли. Наперерез ей заходил желтый УАЗ со включенной мигалкой. Резко завыла сирена. Фоменко громко откашлялся. — Молодцы, на нервы давят… Давай и мы? Веселовский кивнул. — И фары включи! Песцов выполнил команду. Пронзительный визг итальянского сигнала наложился на басовитый рев отечественной сирены. Оперативная «Волга» с зажженными фарами и патрульный УАЗ зажимали машину «сицилийцев» в клещи. Огоньки вызовов на пульте у Мишуева перемигнулись: один погас, тут же зажегся другой. Теперь частил словами Веселовский. — Они бросили машину и спрятались в доме путевого обходчика! Дом старый, аварийный, в нем никто не живет. Расположен прямо под железнодорожной насыпью. Два окна в фасадной стене, одно — в торцевой. Да, еще слуховое окно с чердака… Мишуев посмотрел на Сизова. Тот молчал. Казалось, что он впал в оцепенение. — Жду указаний, — нервно донеслось из динамика. Мишуев поднес руку к вороту сорочки, но нащупал уже расстегнутые пуговицы. Ему показалось, что Сизов насмешливо улыбается, но усилием воли сдерживает улыбку. — Надо проявлять больше инициативы! Гоняли, гоняли, загнали в укрытие и ждете указаний! Разве так проводят боевую операцию! — заорал подполковник. И уже спокойней продолжил: — Окружить дом, вести наблюдение… Сейчас подошлю патрульные машины с Кольцевой и направлю группу из райотдела. Руководство операцией по-прежнему на вас! Все! Губы Сизова снова шевельнулись. — Оружие? — Оружия не видно? — послушно повторил Мишуев. — Нет, — сказал Веселовский и помолчал. — Может, под одеждой? Или в сумке… Большая, спортивная, в красную клетку. Чего они ее с собой тягают? — Меньше фантазируйте, опирайтесь на факты! Что собираетесь предпринять? Веселовский опять помолчал. — Блокировать дом. Через громкоговоритель предложу им сдаться. Предложи… Только вряд ли… Агрессивные психопаты с непредсказуемым поведением… Они будут ногтями царапать, зубами рвать. Справишься? — Как-нибудь… — без особой уверенности сказал Веселовский. — Помни: оружие держать наготове и применять решительно. — Помню. До связи. Огонек на пульте погас. Сизов вышел из глубокой задумчивости. — Надо объявлять «Тайфун». — Зачем? Нашли, выследили, загнали в ловушку, обложили! — с преувеличенной бодростью сказал Мишуев. — А теперь ставить весь город на уши, поднимать шум, сумятицу и отдавать наши результаты спецроте? Нет, товарищ майор, надо быть стратегом! Мы сделаем так… Многозначительно кивнув, будто приглашая поучаствовать в единственно правильном решений проблемы, подполковник ткнул нужную клавишу, подождал соединения и, подняв трубку, отключил громкую трансляцию. — Прибрежному райотделу и его начальнику приветствие. Мишуев. Дела, как сажа бела. «Сицилийцы» в твоем районе, товарищ Петров, а ты не чешешься! Не щучу. Мы их загнали в дом путевого обходчика напротив водокачки. Веселовский. Да, да… Он дослушал невидимого собеседника, пожал плечами. — «Тайфун»? Можем и объявить, если ты своими силами не справишься. Но я бы не упустил шанс взять «сицилийцев»! Тут и орден, и внеочередное звание, — тон подполковника был одновременно и серьезным и шутливым, понимай как хочешь. — Инструкция само собой, а жизнь вносит коррективы… В общем… смотри сам. Ведут себя спокойно, похоже, без оружия, хотя кто знает… Надо взять пару автоматов на всякий случай… И правильно. Риск — благородное дело, удача любит смелых. Войдешь в историю! Да нет, генералу я сам доложу. Действуй, удачи! Положив трубку, Мишуев свойски подмигнул Сизову. — Управление — наука сложная! Подтянувшись и застегнув рубашку, он нажал первую клавишу пульта связи, выкрашенную в отличие от остальных, зеленых, в красный цвет. — Товарищ генерал, докладываю: «сицилийцы» блокированы в заброшенном доме за поселком железнодорожников. Район оцеплен, Веселовский ведет наблюдение. Ему в помощь направляется группа из Прибрежного райотдела во главе с Петровым. Положив трубку, Мишуев раздраженно напустился на Сизова. — Чему вы усмехаетесь? Что смешного здесь происходит? Старик печально покачал головой. — Удивительно. Хорошему не научились, а от чего предостерегал — овладели в совершенстве! — Что вы имеете в виду? — Доклад начальству. Получается, что вы ни на миг не теряли контроля над операцией, и ваше умелое руководство, последовательные и целенаправленные действия дали положительный результат! Хотя на самом деле — ни руководства, ни результата: цепь случайностей и накладок, которая неизвестно чем завершится! — Почему же неизвестно? — растягивая слова, сказал подполковник, — Задержанием преступников, награждением Веселовского и Петрова. — Посмертно? Самый молодой сотрудник знает: для обезвреживания вооруженных преступников проводится общегородская операция «Тайфун» с применением специальных сил и средств, защитного снаряжения и техники, чтобы свести к минимуму риск для личного состава. — Конкретный способ задержания выбирает руководитель операции. Если он считает, что может обойтись своими силами… — «Сицилийцев» нельзя равнять с бытовым дебоширом, схватившим по пьянке охотничье ружье! — перебил Сизов плавную речь начальника отдела. Мишуев пренебрежительно отмахнулся. — Не нагнетайте панику. Пока у нас нет сведений, что они вооружены. Это ваши догадки, только и всего. Сизов молча встал и направился к двери, но на пол пути передумал и вернулся. — Опасней всего, когда ложь имеет видимость правды. Семь лет назад вы говорили Калмыкову, что в протокол записываются факты, а не догадки. И это правда, но не вся. Потому что разумные предположения тоже необходимо принимать в расчет. Но Калмыков этого не знал. Зато сейчас все причастные к операции убеждены, что «сицилийцы» вооружены. А вы делаете вид, будто сомневаетесь. Сказать, почему? Чтобы иметь формальный предлог не вводить «Тайфун»! Мишуев прищурился. — Для чего это мне? — Для того, что вам не нужны живые и дающие показания «сицилийцы»! — Старик повысил голос, как много лет назад, когда распекал желторотого Мишуева за очередной промах. — Я не спрашиваю, жалко ли вам подчиненных, я знаю ответ, меня интересует другое: стоит ли, по-вашему, карьера жизни, скажем, Веселовского? Старик резко повернулся и вышел из кабинета. В коридоре он столкнулся с Губаревым. — Ну что там? — Губарев кивнул в сторону полированной двери. — Надо выезжать на место… — Не пори горячку, — бросил Старик на ходу. — Что изменим ты или я на месте? Сейчас все решается здесь. От управленческого решения зависит гораздо больше, чем от наших пистолетов. — А чего ж он тянет? И голос по телефону какой-то странный… Вроде заболел… — Примерно так. Уверенно и напористо зашагал вперед, поднимался все выше, казалось, вот-вот ухватит бога за бороду. И вдруг в самый неподходящий момент влипает мордой в стену — тупик! — Старик резко остановился и повернулся к своему спутнику. Зрачки глаз у него были расширены. — И оказывается, всю жизнь шел к этому тупику! Заболеешь! Думает лихорадочно, дергается: не понимает, не может, не хочет осознать, что произошло! Сизов снова двинулся вперед, но продолжал говорить с несвойственной для него горячностью. Надеется — очередное препятствие, каких было много в жизни, надо только как следует разбежаться, ударить всем телом — и путь свободен… Только не сам бьет — подставил Веселовского и Петрова! Локальная операция, суматоха, неизбежна стрельба. Девять против одного, что «сицилийцы» будут убиты. И все — концы в воду. Догадки выжившего из ума злопыхателя Сизова, которому давно пора на пенсию, — не стена, нет, не стена! — Да-а, протянул Губарев. Они стояли у высокой, отделанной под дуб двери в приемную генерала. — А сам он, как думаете, что сделает? Сизов взялся за ручку двери. — Рискнет лично — выедет на место и возглавит штурм. Деваться-то некуда! Ну, постарается себя обезопасить как только можно, стрелять будет больше всех… А потом — либо «победителей не судят», либо «учитывая личную храбрость»… Ладно, подожди… Сизов вошел в приемную.На пустыре у железнодорожной насыпи три патрульных УАЗа и оперативная «Волга» блокировали брошенный двухэтажный дом из старого кирпича с пустыми, без рам, напоминающими амбразуры окнами. — Зубов и Ермак, район окружен, не усугубляйте своего положения, — грохотал динамик на крыше среднего УАЗа. Звуковая волна ударялась в темно-красный растрескавшийся фасад, отражалась и, раздробленная на невнятные обрывки, эхом гуляла по пустырю. — Ен, йте, йя… Подполковник Петров опустил микрофон. Он неловко приткнулся на месте водителя, сдавленный обтянутыми брезентом титановыми пластинами, и парился в наглухо застегнутом форменном плаще на два размера больше обычного. Свободной рукой он придерживал сползающий с колен заряженный автомат. Единственным чувством, которое он сейчас испытывал, было сильное раздражение. Еще два офицера в непомерно больших плащах, с автоматами, не особо скрываясь, стояли за кузовом автомобиля. Нелепо выглядящие в сухой летний день плащи должны были замаскировать бронежилеты: подготовленность сотрудников милиции к выстрелам в себя могла подтолкнуть преступников к мысли произвести эти выстрелы. Теоретически правильные изыски, относящиеся к психологии задержания, сейчас казались такими же ненужными, как и плащи с чужого плеча. Поэтому раздражение испытывал не только Петров. К тому же в реальность опасности верилось слабо: сколько задержаний произведено на таких обыденно-захламленных пустырях, а ЧП можно пересчитать по пальцам, да и случаются они всегда с кем-то другим. Скорее всего вместо грозных «сицилийцев» в брошенный дом загнали какую-нибудь шпану, вот и сидит там, под мегафонными криками, нос высунуть боится, а то и утекла уже через задние окна… Чего ж устраивать представление? Серьезней всех воспринимали ситуацию сотрудники отдела особо тяжких. — Зубов и Ермак, сдавайтесь, у вас нет другого выхода, — напряженным голосом Веселовского заговорило громкоговорящее устройство из-под капота «Волги». — Дом окружен. Возможные пути отхода перекрыты… В кабине находились только Веселовский и Фоменко. Песцов вызвался отгонять от пустыря возможных прохожих, а так как он славился своей ленью, можно было сделать вывод, что он тоже серьезно относится к возможной опасности. — Чего они молчат, в натуре, — нервно елозя по сиденью, просипел Фоменко. — Дай я скажу… Веселовский отвел его руку и начал набирать на клавишах радиотелефона номер начальника отдела. Одновременно он в который уже раз повторял обращение к «сицилийцам». — Зубов и Ермак, сопротивление бесполезно, выходите по одному…
После ухода Сизова Мишуев несколько минут сидел в тяжелом отупении, словно боксер после нокдауна. Проклятая Сыскная машина видела его насквозь! Если операция пройдет, как он и рассчитывал, тогда плевать — домыслы, они домыслы и есть… А если события развернутся по-другому? Вишь, как он выдал: дескать, Мишуев убирает ненужных свидетелей чужими руками да еще неоправданно подставляет подчиненных под пули… Вдруг действительно что-то случится… Вряд ли Крутилин, только-только залечив ранение, войдет в его положение. Да он бы и раньше не вошел… А генерал… Зуммер радиотелефона прервал его размышления. — На предложения сдаться «сицилийцы» не реагируют, — деловито сообщил Веселовский. — Затаились и сидят как крысы. Попробуем войти в дом… — Подождите, — перебил Мишуев и, немного подумав, включил канал связи с дежурной частью… — Исходите из того, что они вооружены! Примите максимальные меры предосторожности. Повторяю — исходите из того, что «сицилийцы» вооружены. Захват не начинайте до моего прибытия. Как поняли? — Понял, — с заметным удивлением отозвался Веселовский и отключился. — Слышали? — обратился к селектору начальник отдела. — Слышал, — сказал дежурный. — Тогда действуйте: машину к подъезду, приготовьте мне каску, бронежилет, автомат! Через десять минут после того, как Сизов зашел к генералу, была объявлена общегородская операция «Тайфун». Специальную роту подняли по тревоге, патрульные автомобили кольцом стягивались к пустырю у поселка железнодорожников. По давней традиции на место происшествия выехала и группа захвата управления. В переполненном салоне микроавтобуса было жарко и тесно, воняло бензином. Никто не разговаривал. «Потеряли темп, — думал прижатый к решетке «собачника» Старик, страшась своего предвидения и отгоняя картины, которые рисовало воображение. — Вот и цена случайности… Не напорись Крутилин на пику, моя информация ко мне бы и попала, тут же выскочили бы и сожрали их, пока не опомнились… А сейчас заперли, раздразнили да дали время все решить и обдумать…»
В похожем на амбразуру окне что-то мелькнуло. — Не ушли… — процедил Петров и вернулся к прерванному разговору с подошедшим Веселовским. — А мне говорил — вроде без оружия… Непонятно. Чего тогда голову ломать — поднимать спецроту — и дело с концом! И какой смысл в его приезде? Ждем, время теряем… Что изменится? Во втором окне ясно обозначился силуэт человека и тут же пропал в темной глубине дома. — Вы что прячетесь, волки рваные! — взвинченно закричал вдруг Фоменко через громкоговорящее устройство оперативной «Волги». — Как наших ребят убивать, так смелые? Вылазьте, падлы, а то мы вас тоже расшлепаем! Фоменко никто не поручал обращаться к «сицилийцам» да еще в такой форме, напрочь перечеркивающей все тактические рекомендации, и Веселовский рванулся было к «Волге», чтобы забрать у него микрофон, но не успел. Из осаждаемого дома раздался тонкий животный визг, и в тот же миг обе амбразуры взорвались грохотом автоматных очередей. Лобовое стекло оперативной машины засеял десяток маленьких, беспорядочно разбросанных отверстий, вокруг которых вспыхивала густая белая паутина трещин, мгновенно превративших сверкающий широкообзорный глаз «Волги» в сплошное бельмо. Струя свинца прошила капот, хлестнула по крыше, коротко вякнул клаксон, машина задрожала и внезапно осела на сплющенные передние скаты. Омертвевший от ужаса Веселовский понял, что ничего живого остаться в расстрелянном автомобиле не могло и, нашаривая деревянной рукой пистолет, обернулся к Петрову, чтобы крикнуть какие-то необходимые слова, хотя все слова вылетели из головы и он немо открывал и закрывал рот, словно вырванная из воды, оглушенная воздухом и светом рыба. Стекло УАЗа тоже было разбито вдребезги, Петров откинулся на спинку сиденья, закрыв растопыренными ладонями окровавленное лицо. Быстрые молоточки ударили по открытой двери с надписью «милиция», невидимые бритвы поронули бок неразмерного плаща начальника райотдела, звякнули титановые пластины. Одновременно со свистом рикошета Веселовского что-то рвануло за ногу, и он упал, больно ударившись о землю и, может быть, на миг потеряв сознание. Но пистолет оказался в руке и стрелял сам по себе, неприцельно — пули ударяли в кирпичный фасад. После третьего выстрела Веселовский пришел в себя и направил ствол в темный провал окна. Там уже никого не было. Огонь прекратился, только в глубине дома раздавался истерический вой вперемешку с гнуснейшей бранью. За десять секунд автоматы «сицилийцев» извергли в окружающий мир шесть десятков смертей, и картина на пустыре резко и страшно изменилась. «Волга» уголовного розыска уткнулась капотом в землю, словно убитый наповал зверь. Патрульные машины стояли с разбитыми стеклами и простреленными бортами. Особенно досталось УАЗу, из динамика которого Петров обращался к бандитам. Сам Петров вывалился на землю, промакивал платком изрезанное осколками стекла и металла лицо и, пытаясь определить, ранен он или нет, ощупывал бронежилет. Автоматная пуля могла прошить титан навылет, а одеревеневшее тело в нервном возбуждении не чувствует боли. Но, к счастью, пробоин не было: попадания оказались касательными. — Повезло, кажется, цел, — крикнул он Веселовскому. — Как ты? — Нога… Не могу встать, — отозвался тот. — Надо брать их, пока не перезарядили… Петров огляделся. Сержанты разбежались с открытого пространства и прятались за кустарником на краю пустыря. Офицеры в плащах залегли за машиной и целились взведенными автоматами в окна дома. Больше он ничего не рассмотрел, потому что кровь залила глаза. За десять секунд обыденность обстановки исчезла. Захламленный пустырь Стал местом одного из крупнейших за последние годы ЧП. Не было больше размягченного состояния сотрудников, да и численный перевес, пожалуй, тоже утрачен. — Скалов, возьми кого-нибудь и проверь дом с той стороны, — сказал Петров одному из офицеров. — Если там все перекрыто, свяжись с «Эльбрусом» и запроси помощь. Если нет, останься и держи заднее окно. Лейтенант встал и, пригибаясь, побежал за дом. — Иванов, за мной! — на бегу крикнул он. — Куда «за мной»? Без жилета, без автомата! Низкорослый сержант все же выполнил приказ, хотя было видно, что его боевой дух основательно подорван. Слабеющий Веселовский подумал, что операция по задержанию «сицилийцев» проваливается. И вдруг обстановка опять резко изменилась. Под звуки сирен к пустырю подъехали еще три патрульных автомобиля. Веселовский несколько раз выстрелил в воздух, и они затормозили в отдалении. Там же остановились «Волга» уголовного розыска и РАФ дежурной части. Через несколько минут подъехал крытый грузовик специальной роты. — Не возьмете, суки, — раздался истерический вопль, и окно второго этажа снова брызнуло огнем, но за секунду до этого лежащий у колеса расстрелянного УАЗа офицер дал короткую очередь, и пули бандита прошли над скоплением машин, никого не задев. — Рассредоточиться! — громко крикнул Мишуев. — Машины убрать! Эта команда не требовалась. И так сотрудники управления вмиг освободили микроавтобус, из грузовика сноровисто выпрыгнули спецназовцы. Пятнистая, удобная для боя форма, открыто надетые пулезащитпые жилеты, каски, стальные щитки. Они были готовы к тому, чтобы в них стреляли, и не скрывали, а демонстрировали эту готовность. Но профессиональная четкость и слаженность действий говорили о том, что попасть в них будет не так-то легко… Короткими перебежками боевые двойки, страхуя друг друга, выдвинулись на рубеж атаки. Майор Лесков управлял ими по рации. Группа захвата управления оставалась в резерве, наблюдая, как бойцы сцецроты окружают кирпичный дом. Сизов подумал, что один к одному повторяется, ситуация, разыгранная на полигоне. Похожий дом, только фасад меньше поклеван пулями, да изрешеченные милицейские машины… он увидел копошащихся на земле людей и быстро пошел вперед. — Менты позорные, козлы парашные! — надрывался Псих. — На всех патронов хватит! — Ду-ду-ду, — застучал автомат из окна, но в ответ ударили четыре ствола, и очередь оборвалась. Снова раздался нечеловеческий вой, в котором переплелись злоба, безысходность и тоска. Сизов подошел к раненым. Один из спецназовцев бинтовал Веселовскому простреленное бедро, Петров, запрокинув голову, ждал своей очереди. — Сильно досталось? — спросил Старик. — Царапины, только глаза заливает, — ответил Петров. Веселовский молчал. — А где Фоменко? По-прежнему молча Веселовский показал рукой в сторону мертвой «Волги». Сизов направился туда. — Ну что, будем их выкуривать и брать живыми? Или как? — спросил Лесков, подойдя к Мишуеву. Тот успел облачиться в бронежилет, надел каску, приготовил к бою автомат. — Или как… — ответил Мишуев. — Мало они наших побили?! Вон, полюбуйся. Сизов открыл дверь «Волги» и подхватил сползающее тело Фоменко. Повозившись над ним, Старик выпрямился и безнадежно махнул рукой. — Эх, ребятки, — с горечью сказал Мишуев, обращаясь к Веселовскому. — Я ведь предупреждал об осторожности… — И жестко бросил Лескову: — Хватит с ними церемониться! Командир специальной роты поправил тяжеленную каску-сферу и пружинисто подпрыгивая на носках, осмотрелся. Пятнистые комбинезоны замкнули дом в кольцо. Снайпер, не забывший на этот раз СВД, держал окна под прицелом. Изредка «сицилийцы» стреляли одиночными, им отвечали офицеры в непомерно больших плащах, несколько длинных очередей выпустил по окнам Мишуев. Спецназовцы огня не открывали. Внимание Лескова переключилось на строительную площадку в сотне метров справа, где возле наполовину снесенного барака стояли трактор и бульдозер. — «Пятый», ко мне! — сказал он в рацию. Два сержанта на сцепленных руках понесли к машине Веселовского. — Держись, Александр Павлович, — отеческим тоном напутствовал его Мишуев. — Я сам приеду, поговорю с врачами. Все будет на высшем уровне… Веселовский не ответил. Лесков тем временем отдавал приказ «пятому» — рыжему здоровяку Борисову, который на полигоне пел под гитару лихие песни. — Понял… — Борисов побежал в сторону стройплощадки. Через несколько минут затарахтел дизель, и бульдозер, выплевывая сизые клубы дыма, пополз к рубежу атаки. — Я с ним, — сказал Мишуев. Лесков, помедлив, кивнул. Он не отрывался от рации. Когда бульдозер приблизился, Мишуев вскочил в кабину. Туда же втиснулся еще один спецназовец. Борисов поднял лопату, закрывая кабину, и двинул бульдозер к осажденному дому. Снова истошно заорал Псих. Снова ударили автоматы. Пули попадали в толстую вогнутую сталь лопаты и с визгом уходили в небо. — Готов! — сказал снайпер. Его выстрела Старик не слышал, но теперь стрелял только один автомат «сицилийцев». Бульдозер подполз вплотную к дому, оказавшись в «мертвой зоне». Две пятнистые фигуры и одна в зеленом жилете поверх штатского костюма метнулись к двери и скрылись внутри. — Атака! — сказал Лесков в микрофон рации. Боевые двойки, прикрывая друг друга, рванулись вперед. Спецназовцы бежали молча. Дом тоже молчал. — Ду-ду-ду… — глухо стукнула короткая очередь. Лесков поднес рацию к уху и тут же опустил. — Все… — облегченно выдохнул он и, распустив ремень, стащил с головы двухкилограммовую «сферу». — А твой начальник молодец, лихой парень, — улыбаясь, сказал он Сизову. Тот сплюнул и молча направился к машинам.


Последние комментарии
2 часов 48 минут назад
6 часов 30 минут назад
6 часов 51 минут назад
7 часов 45 минут назад
10 часов 44 минут назад
10 часов 45 минут назад