Наркомы страха [Борис Вадимович Соколов] (fb2) читать онлайн
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]

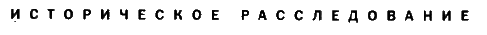
Б. В. Соколов
НАРКОМЫ СТРАХА
Ягода
Ежов
Берия
Абакумов

*
Борис Вадимович Соколов доктор филологических наук, кандидат исторических наук, автор семнадцати книг и более двухсот статей по истории и литературоведению.
*
На фронтисписе: Строительство Беломорканала
Редактор О. Куксина
Дизайнер книги А. Копалин
Художественный редактор М. Егиазарова
В книге использованы фотоматериалы из фондов Российского государственного архива кинофотодокументов М. Альперта, М. Калашникова, Ф. Кислова, A. Устинова, М. Дмитриева, B. Ковригина, Д. Черняева, М. Наппельбаума.
© ООО «АСТ-ПРЕСС КНИГА», 2001
ИЛЛЮСТРАЦИИ[1]

Руководители государства на трибуне мавзолея.
Слева — Генрих Ягода.

Выступление Феликса Дзержинского на пленуме ВСНХ 1926 год

Вячеслав Менжинский (справа) на маневрах Красной армии, 1933 год

Максим Горький, земляк и друг Генриха Ягоды — певец Беломорканала.

Генрих Ягода, Алексей Рыков и Николай Бухарин (слева направо) среди делегатов XV партсъезда. Москва. 1927 год

Еще одна жертва Большого террора — Николай Угланов рядом с Михаилом Калининым и Вячеславом Молотовым.

Николай Ежов (справа) рядом с другими руководителями СССР.


Михаил Шолохов и Исаак Бабель — счастливые соперники Ежова в любви Евгении Хаютиной.

Григорий Зиновьев, Лев Каменев и Лев Троцкий — лидеры антисталинской оппозиции (слева направо).

Карл Радек — «золотое перо партии». Благодаря готовности говорить то, что диктовало следствие избежал смертного приговора на процессе по делу «параллельного троцкистского центра».

Убийство Сергея Кирова в конечном счете привело Ежова на пост наркома внутренних дел.

Вскоре после публикации этого в снимка в печати лицо ставшего «врагом народа» Ежова (второй слева) замазали черной краской

Лаврентий Берия.
Один из ранних снимков

Глава НКВД и его сотрудники

Наследники великого вождя, еще вместе

Никита Хрущев — один из руководителей заговора против Берии


Те, кто арестовывал Берию — Георгий Жуков и Кирилл Москаленко

Павел Батицкий, который расстрелял Берию

Знаменитый актер и режиссер Соломон Михоэлс был убит по приказу Сталина и Абакумова

Актриса Татьяна Окуневская — одна из жертв садистской изобретательности Абакумова.

Виктор Абакумов

Вступление
Верный взгляд на прошлое способен помочь в оценке настоящего. Если мы идеализируем советскую эпоху, людей того времени, то настоящее выглядит катастрофой, прервавшей восхождение общества к светлому будущему А ведь в действительности с точки зрения нынешнего дня эпоха 20—50-х годов, эпоха Сталина, — )го едва ли не мистический триллер с отнюдь не счастливым концом. И судьба четырех руководителей карательных органов — яркая тому иллюстрация. Палачи, не моргнув глазом отправлявшие на смерть тысячи людей, попав в положение своих жертв, вовсе не показали себя образцами твердости духа и готовности умереть за свои убеждения, которых, впрочем, и не имели. Однако никто из них не был зверем в человеческом обличье, и, сложись их судьба иначе, все четверо могли бы дожить до пенсии и умереть в собственной постели. Но пост, который в то время занимали герои моей книги, предопределил их гибель. Исполнители Большого террора были слишком опасными свидетелями, чтобы партийные вожди, пролившие ничуть не меньше крови, оставили бы их в живых. Преступная власть превращала ничем не примечательных, часто ничтожных в интеллектуальном и нравственном отношении людей в великих преступников. Такими они и остались в народной памяти. За помощь в поиске материалов для книги выражаю искреннюю признательность директору Российского государственного архива социально-политической истории (РГАСПИ) Кириллу Михайловичу Андерсону и его сотрудникам, особенно ведущему специалисту читального зала РГАСПИ Михаилу Владимировичу Страхову за ценные советы, благодаря которым удалось найти ряд документов, связанных с Л. П. Берией. Хочу также поблагодарить моих друзей Николая Евгеньевича Руденского и Сергея Михайловича Корнеева за предоставление ряда материалов и весьма полезные советы.
ЯГОДА

Еще не чекист
Генрих Григорьевич (Енох Гершенович, писался также как Генрих Генрихович) Ягода (Иегуда, в публикациях встречается написание: Ягуда), в отличие от своих преемников, был большевиком с солидным дореволюционным стажем. Ему не приходилось скрывать впоследствии, как Ежову и Абакумову, ни дату рождения, ни уровень образования, ни социальное происхождение, весьма далекое от пролетарского или крестьянского. Ягода родился 7/19 ноября 1891 года (все даты до 1 февраля 1918 года даны по старому стилю — юлианскому календарю. В некоторых случаях приводится двойная датировка как по старому, так и по новому стилю — григорианскому календарю. В XIX веке разница между старым и новым стилем составляла 12 дней, а в XX веке — 13 дней) в городе Рыбинске в семье ремесленника. Отцу в момент его появления на свет было 30 лет, а матери 26. О родителях будущего наркома внутренних дел сведения остались довольно противоречивые. Мать, Мария (Ласа — Хася) Гавриловна, урожденная Масинзон, была домохозяйкой. А вот отец Генриха, Григорий Филиппович Ягода (Гирш, или Гершон, Фишелевич Иегуда), по одним данным, был часовым мастером, гравером — по другим, по третьим — аптекарем и по четвертым — ювелиром. Кроме Генриха в семье было еще два сына и пять дочерей — Эсфирь, Роза, Лилия, Фрида и Таиса. Старший сын, Михаил, погиб во время Сормовского восстания 1905 года. Младший, Лев, будто бы был расстрелян на фронте в 1916 году за отказ идти в бой. Как утверждает нижегородский историк Б. М. Пуданов, изучавший местные архивы, Гершон Фишелевич в действительности был гравером-печатником, в самостоятельные ремесленники не выбился, а служил подмастерьем у разных хозяев, в том числе у Михаила Свердлова, отца будущего председателя ВЦИК. В 1904 гону на квартире Гершона Ягоды на Ковалихинской улице, 17, содержалась подпольная типография Нижегородского комитета РКП(б), разгромленная жандармами. После революции 1905–1907 годов благодаря собственным заслугам и связям сына, служившего в Высшей военной инспекции, Гершон Фишелевич устроился на должность помощника заведующего типографией Нижегородского губернского военного комиссариата. Бывший секретарь Политбюро Б. Г. Бажанов вспоминал: «У четырех братьев Свердловых была сестра. Она вышла замуж за богатого человека Авербаха… У Авербахов были сын и дочь. Сын, Леопольд, очень бойкий и нахальный юноша, открыл в себе призвание руководить русской литературой и одно время через группу «напостовцев» (от журнала «На литературном посту» — органа возглавлявшейся Авербахом Российской ассоциации пролетарских писателей. — Б. С.) осуществлял твердый чекистский контроль в литературных кругах. А опирался он при этом главным образом на родственную связь: его сестра Ида вышла замуж за небезызвестного Генриха Ягоду, руководителя ГПУ». Борис Георгиевич не питал к Генриху Григорьевичу ни малейшей симпатии и потому рисовал его в мемуарах исключительно черными красками: «Ягода в своей карьере тоже немалым был обязан семейству Свердловых… Ягода был вовсе не фармацевтом, как гласили слухи, которые он сам о себе распустил, а подмастерьем граверной мастерской старика Свердлова. Правда, после некоторого периода работы Ягода решил, что пришла пора обосноваться и самому. Он украл весь набор инструментов и с ним сбежал, правильно рассчитывая, но старик Свердлов предпочтет в полицию не обращаться, чтобы не выплыла на свет божий его подпольная деятельность (по утверждению Бажанова, отец Якова Свердлова делал печати, с помощью которых большевики выправляли себе фальшивые паспорта и другие документы. — Б. С.). Но обосноваться на свой счет Ягоде не удалось, и через некоторое время он пришел к Свердлову с повинной головой. Старик его простил и принял на работу. Но через некоторое время Ягода, обнаруживая постоянство идей, снова украл все инструменты и сбежал. После революции все это забылось, Ягода пленил Иду, племянницу главы государства, и это очень помогло его карьере — он стал вхож в кремлевские круги». Рассказ Бажанова о двукратной краже Ягодой граверных инструментов не внушает доверия. Вряд ли после такого Яков Михайлович сохранил бы доверие к свояку и стал бы продвигать его в кремлевские коридоры власти… Пудалов сообщает, что, по рассказам старожилов, дальних родственников и свойственников Генриха Григорьевича, «семья Ягоды была беднейшей из бедных, что старики объясняли не только социальным и национальным моментом, но и непрактичностью отца… Генрих — очень импульсивный, вспыльчивый, мстительный, замкнутый («вырос затравленным волчонком»); будто бы внешне был очень красив в молодости (до старости не дожил — расстреляли в 47 лет. — Б. С.)». Сам Ягода в марте 1938 года на процессе «по делу правотроцкистского антисоветского блока», глядя в глаза неизбежной смерти, так изложил свою биографию: «Я с 14 лет работал в подпольной типографии наборщиком… Нас было три брата. Один убит в Сормове во время восстания, другой расстрелян за восстание в полку во время войны. Я могу только позавидовать их смерти. 15-ти лет я был в боевой дружине во время Сормовского восстания. 16—17-ти лет я вступил в партию, об этом знает нижегородская организация. В 1911 году я был арестован и послан в ссылку. В 1913–1914 году вернулся в Петроград, работал на Путиловском заводе, в больничной кассе, вместе с Крестинским. Потом фронт, где я был ранен. Революция 1917 года застает меня в Петрограде, где я принимал активное участие, являюсь членом военной организации, формирую отряды Красной гвардии. 1918 год — Южный и Восточный фронт. 1919 год — ЧК…» Генрих окончил 6 классов Симбирской гимназии, а затем экстерном — последний, 8-й класс в Нижнем Новгороде. Очевидно, средства отца позволяли ему пользоваться услугами домашних преподавателей и до поры до времени не работать. По окончании гимназии Ягода-младший стал учеником аптекаря. По данным Нижегородского охранного отделения, 16-летний Генрих в 1907 году примкнул к местной группе анархо-коммунистов. Он занялся добыванием взрывчатки (помогли познания в химии) и подготовкой налета на городской банк, впрочем так и не состоявшегося. Как утверждает Пудалов, Ягода был одним из ближайших соратников лидера анархо-коммунистов И. А. Чемборисова, по совместительству полицейского провокатора. Однако нет никаких данных о связях будущего шефа НКВД с охранным отделением. Только в одном документе Московского охранного отделения, датированном 28 апреля 1912 года, говорилось, что Ягода, встречавшийся с московскими анархо-коммунистами, «в 1908 году был заподозрен в сношениях с охранным отделением». Но никакого подтверждения этому в нижегородских архивах не найдено. Да и зачем местной охранке начинающий анархист, если сам глава нижегородских анархо-коммунистов Иван Алексеевич Чемборисов давно уже был у нее на содержании? Потому-то дальше разговоров дело у группы, в которую входил Ягода, не пошло. Можно допустить его участие в Сормовском восстании. Человек, в 1907 году готовивший экспроприации, годом раньше вполне мог оказаться в рядах боевой дружины. Не исключено также, учитывая знакомство с Я. М. Свердловым (об этом речь впереди), что Генрих Ягода с самого начала своей революционной деятельности примыкал не только к анархо-коммунистам, но и к большевикам. В охранном отделении ведь этого вполне могли не знать. Во всяком случае, в РКП(б) партстаж Ягоде исчисляли с 1907 года. Если не за каждым шагом, то по крайней мере за поездками Генриха Григорьевича следили зорко. 15 августа 1909 года он выехал из Нижнего с паспортом на имя Григория Петровича Кнышевского (евреям запрещалось проживание в столицах, и приходилось пользоваться подложными документами), и об этом заблаговременно поступило сообщение в Московское охранное отделение. В письме указывались приметы Ягоды: «Одет: белая рубашка с длинным белым галстуком, поверх сероватый пиджак, черные брюки, серая большая заклепка (очевидно, на галстуке. — Б. С.), худощавый, среднего роста, сутуловат, лет двадцать, волосы длинные». Замечу, что одет наш герой довольно элегантно. Поэтому вряд ли основательны слухи, будто отец его был голь перекатная, «беднейший из бедных». В тот раз переговоры Ягоды с московскими коллегами о получении порции «динамитного студня» для будущих экспроприаций закончились ничем. В конце концов полиции надоели частые отлучки Генриха Григорьевича в Белокаменную. 12 мая 1912 года Ягода был арестован в Москве с паспортом на имя Николая Галушкина — по некоторым сведениям, он сговаривался с московскими анархистами об организации налета на Николаевский банк в Нижнем. Благодаря Чемборисову и другим агентам об этом тут же стало известно жандармам. Однако «данных для возбуждения формального дознания», то есть достаточно весомых для суда улик, они добыть не сумели. В результате 14 июля 1912 года Ягода был в административном порядке сослан на два года в Симбирск — «за преступные сношения с лицами, принадлежащими к революционным организациям». Уже 21 февраля 1913 года в связи с амнистией, объявленной по случаю 300-летия дома Романовых, срок ссылки сократили вдвое, и 16 июля того же года Генрих Григорьевич был освобожден» Вернувшись в Нижний, он к анархо-ком-мунистам больше не обращался, зато сблизился (или возобновил контакты?) с большевиками. В ноябре будущий шеф НКВД перебрался в Петербург, где поступил работать статистиком сначала в статистическую артель Союза городов, а потом в больничную кассу Путиловского завода. Позднее он указывал в анкетах, что знает статистику и немецкий язык. Такое страховое учреждение, как больничная касса, считалось хорошим прикрытием для ведения среди рабочих марксистской пропаганды. В 1914 году в Петербурге Ягода женился на Иде Авербах, с которой познакомился еще в Нижнем. В 1915 году наш герой был мобилизован в армию рядовым 20-го стрелкового полка 5-го армейского корпуса, на фронте был ранен, дослужился до ефрейторских лычек. После демобилизации вернулся в больничную кассу Путиловского завода. Очевидно, Генрих Григорьевич в армии вел партийную работу, поскольку сразу после Февральской революции стал членом большевистской фракции Петросовета, Петроградской военной организации и вошел в редакцию «Солдатской правды». С ноября 1917 по ноябрь 1918-го Ягода редактировал также газету «Крестьянская беднота», но на ниве журналистики известности так и не приобрел.Руководитель ОГПУ
После Октябрьской революции свойство со Свердловым открыло Ягоде путь к быстрой карьере. В 1918-м Генрих Григорьевич стал управляющим делами Высшей военной инспекции Красной Армии, а 3 ноября того же года по совместительству — управделами Особого отдела ВЧК, осуществлявшего надзор за Красной Армией. В 1920 году Ягоду ввели в коллегию Наркомата внешней торговли, ни одного сотрудника которого не могли арестовать без предварительного уведомления об этом Генриха Григорьевича. С 1920 года он также управлял делами всей Чрезвычайной комиссии. После того как в январе 1920 года право ВЧК выносить расстрельные приговоры было ограничено только прифронтовой полосой, Ягода подписал директиву, которая предлагала местным ЧК и армейским особым отделам арестованных, «кои по числящимся разным преступлениям подлежат высшей мере наказания», направлять в те районы, где декрет об отмене смертной казни не действовал, и там благополучно выводить в расход. Нет оснований полагать, что это была инициатива самого Генриха Григорьевича. Наверняка вопрос о том, чтобы и невинность соблюсти, и капитал приобрести, формально следуя пропагандистскому декрету и в то же время избавляясь от «контрреволюционеров», решался даже не Ф. Э. Дзержинским, а В. И. Лениным и другими членами Политбюро. 29 июля 1920 года Ягода стал членом коллегии ВЧК, которая в феврале 1922-го была преобразована в Главное политическое управление (ГПУ) при НКВД с лишением судебных функций. Ягода сохранил пост управделами ГПУ. С окончанием Гражданской войны и ослаблением террора осенью 1923-го ГПУ преобразовали в Объединенное государственное политическое управление (ОГПУ), во главе которого остался Дзержинский. ОГПУ вывели из состава НКВД. Ягода получил повышение. 18 сентября 1923 года его назначили вторым заместителем председателя ОГПУ. В чекистской иерархии Ягода сделался третьим лицом — после председателя ОГПУ Феликса Эдмундовича Дзержинского и его первого заместителя Вячеслава Рудольфовича Менжинского. Вот что пишет Бажанов о личных и деловых качествах руководителей ОГПУ: «Старый польский революционер (Дзержинский. — Б. С.), ставший во главе ЧК с самого ее возникновения, он продолжал формально ее возглавлять до самой своей смерти, хотя практически мало принимал участия в ее работе, став после смерти Ленина председателем Высшего Совета Народного Хозяйства… У него была наружность Дон-Кихота, манеры говорить человека убежденного и идейного. Поразила меня его старая гимнастерка с заплатанными локтями. Было совершенно ясно, что этот человек не пользуется своим положением, чтобы искать каких-либо житейских благ для себя лично. Поразила меня вначале и его горячность в выступлениях — впечатление было такое, что он принимает очень близко к сердцу и остро переживает вопросы партийной и государственной жизни… Но… очень скоро мне бросилось в глаза… что Дзержинский всегда шел за держателями власти и если отстаивал что-либо с горячностью, то только то, что было принято большинством… А один раз председательствовавший Каменев сухо сказал: «Феликс, ты здесь не на митинге, а на заседании Политбюро». И о чудо! Вместо того чтобы оправдать свою горячность… Феликс в течение одной секунды от горячего, взволнованного тона вдруг перешел к самому простому, прозаическому и спокойному.. Первый заместитель Дзержинского (тоже поляк), Менжинский, человек со странной болезнью спинного мозга, эстет, проводивший свою жизнь лежа на кушетке, в сущности, тоже очень мало руководил работой ГПУ. Получилось так, что второй заместитель председателя ГПУ Ягода был фактически руководителем ведомства. Впрочем, из откровенных разговоров на заседаниях «тройки» (состоящей из Г. Е. Зиновьева, Л. Б. Каменева и И. В. Сталина, объединившихся против Л. Д. Троцкого. — Б. С.) я быстро выяснил позицию лидеров партии. Держа все население в руках своей практикой террора, ГПУ могло присвоить себе слишком большую власть вообще. Сознательно «тройка» держала во главе ГПУ Дзержинского и Менжинского как формальных возглавителей, в сущности от практики ГПУ далеких (но списки подлежащих расстрелу визировавших. — Б. С.), и поручала вести все дела ГПУ Ягоде, субъекту малопочтенному, никакого веса в партии не имевшему и сознававшему свою подчиненность партийному аппарату. Надо было, чтобы ГПУ было всегда подчинено партии и никаких претензий на власть не имело». Дзержинский, как отмечают современники, действительно был очень плохим организатором. А его словно нарочно обременяли все новыми и новыми постами. Помимо ВЧК Феликс Эдмундович возглавлял Комиссию по улучшению жизни детей, Наркомат внутренних дел, Наркомат путей сообщения, а с 1924 года являлся председателем Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ). У шефа ГПУ не должно было оставаться времени для контроля за оперативной деятельностью карательного ведомства. Троцкий утверждал: «Самостоятельной мысли у Дзержинского не было. Он сам не считал себя политиком, по крайней мере, при жизни Ленина. По разным поводам он неоднократно говорил мне: я, может быть, неплохой революционер, но я не вождь, не государственный человек, не политик. В этом была не только скромность. Оценка была верна по существу… В хозяйственной работе он брал темпераментом: призывал, подталкивал, увлекал. Продуманной концепции хозяйственного развития у него не было… Ленин Дзержинского очень ценил. Охлаждение между ними началось тогда, когда Дзержинский понял, что Ленин не считает его способным на руководящую хозяйственную работу. Это, собственно, и толкнуло Дзержинского на сторону Сталина». О Менжинском же Троцкий отзывался и вовсе нелицеприятно: «Впечатление, какое он на меня произвел, будет точнее всего выражено, если я скажу, что он не произвел никакого впечатления. Он казался больше тенью какого-то другого человека, неосуществившегося, или неудачным эскизом ненаписанного портрета. Есть такие люди. Иногда только вкрадчивая улыбка и потаенная игра глаз свидетельствовали о том, что этого человека снедает стремление выйти из своей незначительности… После завоевания власти его впопыхах направили в Министерство финансов. Он не проявил никакой активности или проявил ее лишь настолько, чтоб обнаружить свою несостоятельность. Потом Дзержинский взял его к себе. Дзержинский был человек волевой, страстный и высокого морального напряжения. Его фигура перекрывала ВЧК. Никто не замечал Менжинского, который корпел в тиши над бумагами. Только после того как Дзержинский разошелся со своим заместителем Уншлихтом… он, не находя другого, выдвинул Менжинского. Все пожимали плечами. «Кого же другого? — оправдывался Дзержинский. — Некого!» Но Сталин поддержал Менжинского. Сталин вообще поддерживал людей, которые способны политически существовать только милостью аппарата. И Менжинский стал верной тенью Сталина в ГПУ. После смерти Дзержинского Менжинский оказался не только начальником ГПУ, но и членом ЦК. Так на бюрократическом экране тень несостоявшегося человека может сойти за человека». Следует признать, что все преемники Дзержинского на посту главы ОГПУ-НКВД до назначения Берии были абсолютно ничтожны в политическом отношении и годились только на роль исполнителей решений партийного руководства, а точнее, Сталина. Но вернемся к Ягоде. В бытность свою одним из руководителей ОГПУ Генрих Григорьевич издал немало любопытных распоряжений. Так, 4 августа 1924 года он разослал на места секретный документ, где говорилось: «Главный Репертуарный комитет циркуляром за № 1606 от 15/VII с. г. всем облитам и гублитам дал директиву… о том, чтобы они при разрешении сеансов так называемых «ясновидцев», «чтецов мыслей», «факиров» и т. д. ставили непременными условиями: 1) указание на каждой афишной рекламе, что секреты опытов будут раскрыты, 2) чтобы в течение каждого сеанса или по окончании его четко и популярно было разъяснено аудитории об опытах, дабы у тамошнего обывателя не создалось веры в потусторонний мир, сверхъестественную силу и «пророков». Местным органам ОГПУ надлежит строго следить за выполнением указанных условий и в случае уклонения и нежелательных результатов запрещать подобные сеансы через облиты и гублиты». Как не вспомнить тут сеанс черной магии профессора Воланда? Многие думали, что текст афиш «Сегодня и ежедневно в театре Варьете сверх программы: Профессор Воланд. Сеансы черной магии с полным ее разоблачением», равно как и появление после скандального представления людей из солидного ведомства на Лубянке — целиком плод булгаковской фантазии. На самом деле за разоблачением всяческой «магии» на театральной или цирковой сцене действительно следило такое серьезное учреждение, как ОГПУ. Тогда же, 4 августа 1924 года, Ягода позаботился и о репертуаре лагерных и тюремных театров, в специальном циркуляре отметив, что он «ни в какой мере не соответствует задачам перевоспитания заключенных; постановки переполнены сентиментализмом, порнографией и пьесами, отрицательно влияющими на психику заключенных». Сам Генрих Григорьевич, как мы убедимся ниже, знал толк в порнографии. Но одно дело он сам и друзья чекисты и прочие представители советской элиты, и совсем другое — зеки, которых надлежит кормить только «идеологически выдержанной» культурной продукцией, без всяких там сентиментальностей или непристойностей. Летом 1924 года цензура и ОГПУ ополчились также на патефонные пластинки (был составлен длинный список запрещенных произведений), современные танцы и городской фольклор. 16 июля Ягода потребовал «не допускать к публичному исполнению как на эстраде, так и в клубах «новых эксцентрических», как они обычно именуются, танцев — фокстрот, шимми, тустеп и прочие… Равным образом означенные танцы не допускать на танцевальных вечерах в клубах и других зрелищных предприятиях… Исключение представляют лишь те сценические произведения, куда хореография или эксцентрика введены в музыкальную партитуру и органически входят в само произведение, но отнюдь не являются вставным или дивертисментным номером». Не случайно у Булгакова в «Мастере и Маргарите» на Великом балу у сатаны танцуют крамольный фокстрот «Аллилуйя». А днем раньше, 15 июля, Генрих Григорьевич обрушился на «песенки улицы», которые «состоят из пошлостей, порнографии и прочей романтики хулиганства, где единственное чувство — похоть и ревность». Органам ОГПУ во взаимодействии с цензурой предписывалось запрещать репертуар «цыганского типа». Сам Ягода, как и другие видные чекисты, этим запретам, естественно, не следовал — и «романтике хулиганства» не был чужд, и цыган уважал. Интересно, а что писали о своем шефе чекисты-перебежчики? Один из них, бывший резидент ОГПУ в Турции Георгий Агабеков, в 1931 году в Берлине выпустил книгу «ЧК за работой», где наряду с тем, что знал лично, передал и слухи, ходившие в чекистской среде. Агабеков утверждал, что верхушка ГПУ состоит «в большинстве из садистов, пьяниц и прожженных авантюристов и убийц, как Ягода, Дерибас, Артузов и многие другие. Председатель ГПУ Менжинский, состоящий одновременно членом ЦК ВКП(б), не в счет. Он — член правительства, больной человек. Живет все время на даче и выполняет предписания врачей. Зато его первый заместитель Ягода — совсем другого поля ягода. Я его знал в 1921 году, когда он еще был мелкой шишкой по Управлению делами ГПУ и больше интересовался хозяйственной частью. Хозяйство, в особенности чужое хозяйство, является, видимо, его специальностью, ибо и сейчас Ягода, будучи фактически руководителем всего ОГПУ, опять-таки оставил за собой руководство кооперативом ГПУ, являющимся одним из лучших и богатейших кооперативов в Москве. Из средств кооператива он подкармливает многочисленных своих прихлебателей, которые взамен этого являются его верными соратниками, начиная с ведения какой-нибудь служебной интриги и кончая устройством попоек с де-вицами-комсомолками на конспиративных квартирах ГПУ Все работники знают садистские наклонности Ягоды, но все боятся говорить об этом вслух, ибо иметь Ягоду врагом — это минимум верная тюрьма». В своих первых публикациях о ЧК, вышедших вскоре после побега на Запад, Агабеков высказывался еще резче. Серия его статей, появившаяся в парижской «Матэн» в октябре 1930 года под названием «Преступления ГПУ», тотчас же в виде секретных сводок ТАСС оказалась на столах руководителей карательных органов, в том числе Ягоды и Берии, тогда главы ОГПУ Закавказья. Агабеков так описал верхушку родного ведомства: «Ленин сказал: «Каждый коммунист должен быть чекистом» (Агабеков перефразировал ленинские слова, сказанные в 1920 году на IX съезде партии: «Хороший коммунист в то же время есть и хороший чекист». — Б. С.). С тысячами других я разделил тогда то убеждение, что советский режим — правительство пролетариата, для пролетариата. Для того же, чтобы этот новый режим мог развернуться и крепнуть, ему нужна была полная свобода; всякий, кто мешал ему в его развитии, был его врагом и должен быть уничтожен. Это было логично. Моя первая миссия поставила меня в отношения с людьми, поступки которых внушали мне отвращение, но мой революционный фанатизм был еще настолько силен, что он мне мешал утерять веру в правительство, которое терпело подобных слуг». Агабеков дал в статье очень колоритные портреты этих «слуг»: «В Ташкенте я миновал встречу с Бокием, настоящим чудовищем. В 1919 и 1920 годах он до такой степени терроризировал Ташкент, что еще и сейчас там говорят о нем с ужасом. Так вот, этот человек, ставший легендарным из-за своей жестокости, является сейчас начальником специального отдела ГПУ, где он является хранителем важнейших тайн. При каждом моем возвращении в Москву я открывал новые гнусности моих шефов и чувствовал, как вера моя колеблется. Петерс, который сейчас возглавляет восточный отдел ГПУ, — личность, испорченная до мозга костей; он никогда не ездит без своего «гарема» своих маленьких машинисток: когда которая-нибудь из них наскучит ему и он ею пресытится, он бросает ее где-нибудь в пути, наставляя ее обратиться к представителям местной ГПУ; последние вынуждены прийти на помощь покинутой и найти какое-нибудь занятие. Не начальник, не патрон разве Петерс? Менжинский — глава ГПУ, но только по имени, ибо он человек больной. Истинный глава — его заместитель, Ягода. Это грубый субъект, без всякой культуры и образования, почти безграмотный (тут уж автор хватил через край: гимназию, хоть и экстерном, Ягода все-таки окончил. — Б. С.), но он обладает железной волей (последующие события, в том числе поведение Генриха Григорьевича на следствии и суде по делу «правотроцкистского блока», доказали, что его железная воля — миф, созданный советской печатью. — Б. С.), он обожает власть и ни перед чем не отступился бы для того, чтобы сохранить ее (в действительности ничего не сделал. — Б. С.). Его подставное лицо, преданный ему беспредельно, — это Шанин, садистические наклонности которого ни для кого не секрет. Шанин — организатор знаменитых оргий, которыми развлекается Ягода; для этого образовалась специальная группа секретарей и машинисток, желающих принимать участие в этих маленьких празднествах; для пополнения состава приглашаются, кроме того, комсомолки (интересно, танцевали там крамольный фокстрот? Наверняка танцевали. — Б. С.). Крупным главарям не неизвестны эти гнусности, но ЦК партии умеет так устроиться, чтобы ни один скандал не задел бы ни одного сколько-нибудь значительного члена правительства. Если менее высокопоставленные люди ухитряются собрать доказательства, таковые быстро уничтожаются». Легендарный злодей Глеб Иванович Бокий тоже знал толк в оргиях. В 1938 году один из его товарищей, Н. В. Клименков, на следствии в НКВД поведал историю «коммуны Бокия», глава которой был расстрелян годом раньше: «С 1921 года я работал в спецотделе НКВД (имеется в виду ВЧК. — Б. С.). Отдел в то время возглавлял Бокий Глеб Иванович… Последний в одно время сообщил мне, что им в Кучино создана «Дачная коммуна», в которую входят отобранные им, Бокием, люди, и пригласил меня ехать на дачу вместе с ним. После этого я на даче в Кучино бывал очень часто… При первом моем посещении «Дачной коммуны» мне объявили ее порядки, что накануне каждого выходного дня каждый член «коммуны» выезжает на дачу и, приехав туда, обязан выполнять все установленные «батькой Бокием» правила. «Правила» эти сводились к следующему: участники, прибыв под выходной день на дачу, пьянствовали весь выходной день и ночь под следующий рабочий день. Эти пьяные оргии очень часто сопровождались драками, переходящими в общую свалку. Причинами этих драк, как правило, было то, что мужья замечали разврат своих жен с присутствующими здесь же мужчинами, выполняющими «правила батьки Бокия». «Правила» в этом случае были таковы. На даче все время топилась баня. По указанию Бокия, после изрядной выпивки партиями направлялись в баню, где открыто занимались групповым половым развратом. Пьянки, как правило, сопровождались доходящими до дикости хулиганством и издевательством друг над другом: пьяным намазывали половые органы краской, горчицей. Спящих же в пьяном виде часто «хоронили» живыми, однажды решили похоронить, кажется, Филиппова и чуть его не засыпали в яме живого. Все это делалось при поповском облачении, которое специально для «дачи» было привезено из Соловков. Обычно двое-трое наряжались в это поповское платье, и начиналось «пьяное богослужение»… На дачу съезжались участники «коммуны» с женами. Вместе с этим приглашались и посторонние, в том числе и женщины из проституток. Женщин спаивали допьяна, раздевали их и использовали по очереди, предоставляя преимущество Бокию, к которому помещали этих женщин по нескольку. Подобный разврат приводил к тому, что на почве ревности мужей к своим женам на «Дачной коммуне» было несколько самоубийств… К концу 1925 года число членов «Дачной коммуны» увеличилось настолько, что она стала терять свой конспиративный характер». О «коммуне» рассказал на следствии и другой участник оргий — подчиненный Бокия доктор Гоппиус: «Каждый член коммуны обязан за «трапезой» обязательно выпить первые пять стопок водки, после чего члену коммуны предоставлялось право пить или не пить, по его усмотрению. Обязательно было также посещение общей бани мужчинами и женщинами. В этом принимали участие все члены коммуны, в том числе и две дочери Бокия. Это называлось в уставе коммуны «культом приближения к природе». Участники занимались и обработкой огорода. Обязательным было пребывание мужчин и женщин на территории дачи в голом и полуголом виде…» Описаний оргий с участием Ягоды пока не найдено. Но, наверное, они не слишком отличались от тех, что устраивались в «коммуне Бокия». Только Генрих Григорьевич «приближался к природе» не в Кучино, а на своей даче в Озерках. И, в отличие от Глеба Ивановича, водке предпочитал дорогие коллекционные вина. Но вернемся к Агабекову. Бывший чекист старался объяснить европейской публике, почему он вдруг решил сменить вехи: «Я был убежден, что советский режим с его железной дисциплиной сумеет насадить коммунизм в России и что благодаря ему страна узнает эру благополучия и процветания. Увы, это была лишь прекрасная мечта, от которой я внезапно очнулся, когда понял, что ЧК, этот оплот революции, лишь прогнившее здание, источенное червями, и что главари ее, за редкими исключениями, предаются интригам, пороку, разврату, даже садизму… Я исключаю из этого очень немногих простаков, которые честны, но остальные… Я должен сказать свое слово сейчас, я должен разоблачить, к каким гнусностям приводит неограниченная власть главарей; я должен рассказать об омерзительной жестокости их убийств и их репрессий, я должен, наконец, рассказать о том, как террор и разврат являются рычагами советского правительства…» Агабеков заклинал западные правительства пресечь козни большевиков по разжиганию «мировой революции»: «Иностранцы прежде всего должны убедиться в одной вещи: в том, что Наркоминдел, III Интернационал, шпионская разведка (имеется в виду военная разведка. — Б. С.) и прославленное ГПУ — одно целое, единое и неделимое. Эти четыре учреждения имеют одного господина, одну цель. Господин — это Политбюро. И глава его — Сталин. Цель — мировая революция. У советского правительства никогда не переводятся деньги для финансирования этих различных учреждений. На свой заграничный шпионаж, т. е. помимо административных расходов в Москве и СССР, ГПУ расходует ежегодно 3 миллиона долларов, и заметьте при этом, что всевозможные мелкие дополнительные дела, как дача взяток, убийства и пр., оплачиваются отдельно. Откуда же берутся эти баснословные суммы? Своим источником они имеют экспорт и продажу предметов первой необходимости, в особенности хлеба, который отбирают у голодающего народа. В Москве ГПУ имеет у себя на службе 10 тысяч человек (в действительности к 1 октября 1930 года центральный аппарат ОГПУ насчитывал 4692 человека, а всего в ОГПУ по штату состояло 22 180 человек, да еще не менее 20 тысяч сексотов, работавших на постоянной или разовой основе; после проведенной в октябре реорганизации штаты карательного ведомства возросли еще на 3 тысячи человек. — Б. С.). Трудно подсчитать число всех тех, кто обслуживает его и в СССР, и за границей. Во всяком случае, я могу удостоверить, что нет такого сколько-нибудь значительного города на свете, где ГПУ не удалось бы водворить своих агентов. В Москве штаб ГПУ имеет сейчас 2500 главных сотрудников. Все они получают хорошее жалованье и пользуются многочисленными привилегиями в отношении продовольственных продуктов». Агабеков рассказал, как именно казнили в мрачном здании на Лубянке: «Наиболее балуемые… — это лица, на которых возложены казни — слово должно быть произнесено: палачи. Эти могут быть уверены в том, что они ни в чем нуждаться не будут, но к ним относятся и с отменным уважением, кроме того. Но медаль имеет и оборотную сторону: каждый агент ГПУ, однажды заподозренный, будет ликвидирован без суда. Главари рассмотрят его дело, и если им покажется, что он «заслуживает виселицы», то виновный предается казни — тут же, в самом здании ГПУ. Что касается осужденных на смерть из лиц, не принадлежащих к составу этого учреждения, то они обычно предаются казни в другом месте… В эти зловещие убежища (внутреннюю тюрьму ГПУ. — Б. С.) имеют доступ только стражники, и стражники тщательно просеиваются среди отрядов ГПУ. Так, когда я должен был пойти допрашивать Блюмкина… то я не был допущен в камеру заключенного; тюремщики привели его ко мне в другую часть здания. Содержащимся во внутренней тюрьме ГПУ ни на минуту не разрешается выходить на прогулку. Клуб чекистов помещается в доме № 11 на Лубянке и тут же рядом тир… Улица так шумна со своими электрическими трамваями и другими экипажами, что шум из тира заглушается; однако из столовой слышатся порой явственные звуки выстрелов… За галереей тира имеется комната с асфальтовым полом. Здесь казнят, «пускают в расход», как там говорят. Величайшая тайна окружает эти казни, которые происходят на рассвете. Встретишь только иногда в клубе лиц, известных как палачей. Если они являются совершенно пьяными и особенно шумные, то ты уже знаешь, в чем дело. Они расстреливали, и их угостили хорошей порцией водки. Впрочем, ничего не может быть проще казни на Лубянке. Заключенный вытаскивается из своей камеры; так как ему ничего не говорят и так как его уже вытаскивали не раз для допросов, то он говорит себе: «Это, может быть, не произойдет». Через настоящий лабиринт коридоров он проходит в узкий проход, откуда спускается несколько ступеней; тут солдаты грубо толкают его, и, в то время как он спотыкается по ступенькам, выстрел сзади сваливает его вниз; он падает, пораженный со спины палачом, которого он не видел. Большинство людей, на которых лежит выполнение казней, люди ненормальные или же перестают быть нормальными; часто они трагически кончают. Так, например, был среди них некий Вейсс, чрезвычайно ценимый за свою «старательную работу»; правильно или неправильно, но однажды его обвинили в передаче тайн иностранцам. При одной только мысли, что он, в свою очередь, подвергнется тем ужасным мучениям, которые он наносил другим, он сошел с ума и обратил свое оружие против самого себя». Легендарный чекист Яков Григорьевич Блюмкин, которого Агабекову довелось допрашивать, тоже получил свою пулю от кого-то из коллег безумного Вейсса. Это произошло 3 ноября 1929 года. Блюмкин оказался первым членом партии, расстрелянным за фракционную деятельность. Виноват он был в том, что встретился на Принцевых островах вблизи Стамбула с опальным Троцким и согласился передать письмо Льва Давидовича его сторонникам в СССР. Напомню, что Яков Григорьевич в 1918 году прославился убийством германского посла графа Мирбаха.Неожиданный свидетель
Интересный портрет Блюмкина и ряда других видных деятелей той эпохи дал в своем дневнике журналист Михаил Яковлевич Презент. Этот дневник попал в руки Ягоды и Сталина в результате почти детективной истории. В январе 1935 года было начато так называемое «кремлевское дело» о террористических планах, будто бы существовавших среди сотрудников правительственных учреждений. Аресту подверглись технические сотрудники кремлевских служб и Президиума ЦИК. В рамках этого дела 11 февраля был арестован ответственный секретарь издававшегося ЦИК журнала «Советское строительство» Михаил Яковлевич Презент, близкий к Енукидзе. Главной причиной задержания, однако, стал его дневник, о котором ходили легенды в московской литературной среде. В тот же день дневник оказался на столе у Сталина, а затем был возвращен Ягоде для предметного разбирательства. Презент записал много достаточно откровенныхвысказываний представителей советской политической и литературной элиты, что впоследствии вышло им боком. Автор же дневника, тяжело больной диабетом, не вынес потрясения. После ареста он был лишен жизненно необходимого инсулина и 112 дней спустя умер в тюремной больнице. Ягода (или сам Сталин?) взял на карандаш многие крамольные места из дневника журналиста. Например, разговор Презента 6 июня 1928 года с бывшим троцкистом Леонидом Петровичем Серебряковым, собиравшимся на работу в «Амторг» (это назначение так и не состоялось): «Л. П. Серебрякова предположено послать в Америку заместителем председателя Амторга. Когда ему передали, что я не прочь тоже поехать в Америку, он ответил, что все бы хорошо и парень я хороший, и хорошо, что язык изучаю, но плохо, что я — еврей, а в Ам-торге всего один русский, а остальные евреи. Это заявление мне настолько противно, что я прекратил на середине разговор. Антисемитизм въелся даже в мозги таких прекрасных людей, как Серебряков, утверждающих, что мне нельзя ехать в Америку, потому что американцы не любят евреев. Думаю, что здесь дело не в американцах». Прочитав эти строки, Генрих Григорьевич наверняка поежился. Он и сам должен был чувствовать тенденцию постепенно убирать евреев со всех более или менее значительных постов. Борис Бажанов приводит в своих мемуарах, впервые опубликованных в 1930 году, анекдот, сочиненный Карлом Радеком после разгрома троцкистско-зиновьевской оппозиции: «Какая разница между Сталиным и Моисеем? Моисей вывел евреев из Египта, а Сталин из Политбюро». Бажанов заметил по этому поводу: «К старым видам антисемитизма (религиозному и расистскому) прибавился новый — антисемитизм марксистский». Ягода это тоже понимал. Как выяснилось из последующей записи Презента, Серебряков оказался чужд антисемитизма: «После разговора с Серебряковым я увидел, что информация о его отношении ко мне как к еврею неверна. Верно только то, что в Амторге много евреев, и это, по его мнению, производит несколько отрицательное впечатление на американцев. Но верно также и то, что он рад взять меня на работу в Нью-Йорк; временным препятствием является скверное знание мною (почти незнание) английского языка». Внимание Ягоды и Сталина привлекла и запись от 30 ноября 1928 года, где Презент зафиксировал разговор в трамвае: «Теперь нужно быть философом и ко всему относиться с юмором, чтобы смотреть, как «они строят социализм» и отрывают друг у друга головы». Генрих Григорьевич чувствовал, что его голова тоже непрочно сидит на плечах. Сталин ведь уже грозился «набить морду» за то, что НКВД не дает Ежову, председателю Центральной контрольной комиссии (ЦКК), всех материалов по убийству Кирова. Еще одно место, отчеркнутое в дневнике, — это комментарий Презента на стихотворный фельетон Демьяна Бедного «Через сто лет», опубликованный в «Правде» 11 декабря 1928 года и клеймивший троцкистов: «Лучших доносов не бывало и в худшие времена». Бедный представлял оппозицию в виде капризного дитяти, которому нужно только кричать и выискивать недостатки. В заключение он писал: «Я не знаю карательных статей, а просто скажу в своей концовке: подпольных троцкистских детей мы не будем гладить по головке!» Заинтересовала Генриха Григорьевича и запись от 19 января 1929 года о бывшем редакторе «Известий» Юрии Михайловиче Стеклове, возглавлявшем в ту пору журнал «Советское строительство»: «Постепенно Стеклов повышается в чинах. Недавно он из заместителя председателя комитета по заведованию учеными и учебными учреждениями ЦИК СССР переведен в председатели. Когда я ему вручил выписку из протокола Президиума ЦИК СССР об его назначении, он сказал: «Вы помните, конечно, «Три мушкетера». Герцог Ришелье дает д’Артаньяну чистый бланк за своей подписью, чтобы он вписал в него любое назначение. Д’Артаньян идет с этим бланком к своим друзьям и передает его первому Атосу. Тот с улыбкой возвращает бланк, благодарит д’Артаньяна за дружбу и говорит: «Возьми его себе: для Атоса это слишком много, а для графа де ла Фер — слишком мало». Из этого следует, что Стеклов еще не считает себя потерянным человеком. Колоритная фигура. Смесь большой эрудиции, бойкого пера и потрясающего нахальства. С удовольствием-любопытством наблюдаю, как этот хам распускает свои лепестки. Недаром его так не терпит Авель Софронович Енукидзе». Для Ягоды и Сталина было важно, что бывший оппозиционер Стеклов все еще не отказался от политических амбиций, а значит, представляет определенную опасность. Тем более что дальше в дневнике Презента, в записи от 10 февраля 1929 года, зафиксированы совсем уж крамольные речи Юрия Михайловича: «Стеклову, как крупному чиновнику ЦИКа, оборудовали большой отдельный кабинет. Я распорядился перевесить туда находившийся в моей с Ю. Потехиным (Потехин Юрий Николаевич — писатель и журналист, видный «сменовеховец», погибший в ходе репрессий 1937–1938 годов. — Б. С.) комнате солидный портрет Рыкова. Портрет этот висит в комнате Стеклова уже довольно долго. Позавчера он говорит Потехину: «Как, у меня висит портрет Рыкова!» — «А что, — отвечает Потехин, — не оправдал доверия?» — «Нет, ничего. Он человек хороший. Звезд с неба, правда, не хватает, но ничего». — «А кто, по-вашему, сейчас самый талантливый человек?» — спрашивает Потехин. «Троцкий, конечно. Но он выслан, кажется, за границу, и теперь не осталось ни одного умного человека. Томский вот очень талантлив, но он мало популярен. А это такой человек, который может дать много очков вперед многим европейским министрам». Сталин не простил Стеклову восхваления Троцкого. Получалось, что бывший редактор «Известий» и Иосифа Виссарионовича не относил к числу умных людей, раз утверждал, что таковых после изгнания Троцкого в руководстве страны не осталось. В феврале 1938 Стеклов будет арестован и в сентябре 1941-го, как и Презент, умрет в тюремной больнице. Отмечена и запись от 25 февраля 1929 года, зафиксировавшая весьма нелестную характеристику, данную Стекловым Михаилу Кольцову: «Не могу видеть творения Михаила Кольцова. Во Франции, знаете, есть журналисты, которых называют «револьверными». Они в погоне за сенсацией готовы пойти под револьвер, нож, веревку. Отличие Кольцова от таких журналистов то, что он хочет быть «револьверным» журналистом, но без всякого риска в работе». Сталин хорошо запомнил эти строки. И в 1938 году вернувшемуся из Испании Кольцову Иосиф Виссарионович задал странный на первый взгляд вопрос: «У вас есть револьвер, товарищ Кольцов?» — «Есть, товарищ Сталин», — ответил удивленный редактор «Огонька». «Но вы не собираетесь из него застрелиться?» — «Конечно нет. И в мыслях не имею». — «Ну вот и отлично, — заключил Сталин. — Еще раз спасибо за интересный доклад, товарищ Кольцов. До свидания, дон Мигель». Иосиф Виссарионович решил сделать из Михаила Ефимовича подлинно «револьверного» журналиста. Чтобы все было по-настоящему: не только сенсации, но и реальный риск получить пулю. Возможно, сгубили Кольцова, среди прочего, его неумеренные славословия в адрес «железного наркома» Ежова. 8 марта 1938 года в «Правде» Кольцов охарактеризовал его как «чудесного несгибаемого большевика, который дни и ночи не встает из-за стола, стремительно распутывает и режет нити фашистского заговора». При преемнике Ежова — Берии — Михаил Ефимович был 14 декабря 1938 года арестован, а 2 февраля 1940 года, на два дня раньше, чем Ежов, расстрелян. В дневнике Презента Ягода и Сталин нашли еще немало откровенных высказываний деятелей оппозиции. Например, 29 марта 1929 года Стеклов опять хвалил Троцкого: «Я всегда ровно относился к Льву Давидовичу, признавал, признаю и буду признавать его огромные дарования, но всегда утверждал, что политически он неуравновешен. Никогда не считал его выше себя, просто человеку повезло. А эта нынешняя лающая свора раньше подавала ему калоши и счищала пыль с костюма». 23 апреля 1929 года Презент зафиксировал откровения своего друга А. С. Енукидзе, только что вернувшегося из Германии: «Ни за что бы не жил в Европе, где живут и работают для единиц, где нет никакой перспективы, жить можно только в СССР, — сказал А. С. — Но, — добавил он, — только союз Германии и СССР может спасти и ту, и другую страну». Тут уже недалеко и до обвинений в работе на германскую разведку. Правда, в 1935-м Авелю Софроновичу инкриминировали только «моральное разложение» и потерю политической бдительности. Он отделался исключением из партии. Вот в 1937-м, уже при Ежове, последовали обвинения в участии в «правотроцкистском блоке», «систематическом шпионаже в пользу одного из иностранных государств» (Германии) и руководстве «кремлевским заговором» с целью убийства Сталина. В декабре того же года Енукидзе расстреляли. Презент описал и визит Демьяна Бедного на сталинскую дачу 17 мая 1929 года: «Сегодня в третьем часу дня Демьян, его дочь Тамара, А. В. Ефремин и я поехали в Зубалово: Демьян к Сталину, а мы в ожидании Демьяна — в сосновый лес… Около 5 ч. Демьян вернулся, и мы покатили в город. — Сколько оптимизма в этом человеке! — рассказывал Демьян о Сталине. — Как скромно живет! Застал я его за книгой. Вы не поверите: он оканчивает вторую часть «Клима Самгина». А я первую часть бросил, не мог читать. Но если б вы знали, чем он разрезает книгу! Пальцем! Это же невозможно. Я ему говорю, что, если бы Сталин подлежал партийной чистке, я бы его за это вычистил из партии». Эта шутка наверняка не понравилась Иосифу Виссарионовичу. И в 1938 году он сам вычистил зарвавшегося Демьяна из рядов ВКП(б). Большая часть следующей страницы из дневника Презента вырвана. Вполне вероятно, что там прозвучал очень резкий отзыв Демьяна Бедного о Сталине, содержание которого мы попробуем восстановить. В мае 1934 года Осип Эмильевич Мандельштам был арестован за стихи о «кремлевском горце», где были такие строки:В начале «славных» дел
Ягода по заданию Политбюро выступил одним из организаторов процессов по делу так называемых «вредителей». Наиболее известными стали «Шахтинский» в 1928 году и процесс по делу «Промпартии» в 1930 году. Подследственных обвиняли в намеренном разрушении угольной и других отраслей советской промышленности, в совершении актов диверсий и саботаже, а главное — в организации «Промпартии» («Союза инженерных обществ») — теневого антисоветского правительства. Эти процессы проходили по одинаковым сценариям. Нередкие случаи бесхозяйственности и аварии в промышленности объявлялись намеренным вредительством. На роль вредителей подбирались специалисты «непролетарского происхождения», работавшие инженерами и руководителями предприятий еще до революции. Их арестовывали и на следствии заставляли признаться в связях с прежними владельцами заводов, фабрик или промыслов, эмигрировавшими за границу (Нобелями, Путиловыми, Рябушинскими и др.). По заданию бывших фабрикантов и разведок Англии и Франции (с Германией в то время были дружеские отношения) инженеры якобы умышленно вредили делу индустриализации, чтобы создать благоприятные условия для иностранной интервенции и прихода к власти антисоветского правительства. Роль Ягоды в организации этих процессов была чисто техническая. У него не было иных талантов, кроме канцелярских. В этом сходятся все, его знавшие. Троцкий в 1939 году, уже после казни Ягоды, отмечал, что в его лице «возвышалось заведомое для всех и всеми презираемое ничтожество. Старые революционеры переглядывались с возмущением. Даже в покорном Политбюро пытались сопротивляться. Но какая-то тайна связывала Сталина с Ягодой». А ранее в одном из писем Лев Давидович дал убийственный портрет Генриха Григорьевича: «Очень точен, чрезмерно почтителен и совершенно безличен. Худой, с землистым цветом лица (он страдал туберкулезом), с коротко подстриженными усиками, в военном френче, он производил впечатление усердного ничтожества». Бажанов, как и Троцкий, от нравственных качеств Ягоды был не в восторге, но определенные организаторские способности за ним признавал: «Первый раз я увидел и услышал Ягоду на заседании комиссии ЦК, на которой я секретарствовал, а Ягода был в числе вызванных к заседанию. Все члены комиссии не были еще в сборе, и прибывшие вели между собой разговоры. Ягода разговаривал с Бубновым, бывшим еще в это время заведующим Агитпропом ЦК (этот пост Бубнов занимал в 1922–1923 годах. — Б. С.). Ягода хвастался успехами в развитии информационной сети ГПУ, охватывавшей все более и более всю страну. Бубнов отвечал, что основная база этой сети — все члены партии, которые всегда должны быть и являются информаторами ГПУ; что же касается беспартийных, то вы, ГПУ, конечно, выбираете элементы, наиболее близкие и преданные Советской власти. «Совсем нет, — возражал Ягода, — мы можем сделать сексотом кого угодно, и в частности людей, совершенно враждебных Советской власти». — «Каким образом?» — любопытствовал Бубнов. «Очень просто, — объяснял Ягода. — Кому охота умереть с голоду? Если ГПУ берет человека в оборот с намерением сделать из него своего информатора, как бы он ни сопротивлялся, он все равно в конце концов будет у нас в руках: уволим с работы, а на другую нигде не примут без секретного согласия наших органов. И в особенности если у человека есть семья, жена, дети, он вынужден быстро капитулировать (в 1923 году комиссия по финансированию ГПУ предлагала платить жалованье 18 тысячам штатных сексотов; а сколько было внештатных, точно вообще никто не знал. — Б. С.)». Ягода произвел на меня отвратительное впечатление. Старый чекист Ксенофонтов, бывший раньше членом коллегии ВЧК, а теперь работавший управляющим делами ЦК и выполнявший все темные поручения Каннера (помощника Сталина. — Б. С,), Лацис и Петерс, наглый и развязный секретарь коллегии ГПУ Гриша Беленький дополняли картину — коллегия ГПУ была бандой темных прохвостов, прикрытых для виду Дзержинским». Как отмечает директор архива Федеральной службы безопасности (ФСБ) В. К. Виноградов, «в материалах известных контрразведывательных операций («Трест», «Синдикат-2» и др.) не прослеживается заметная роль Ягоды». Зато поведать публике о достижениях чекистов Генрих Григорьевич случая не упускал. 6 июля 1927 года в интервью «Правде» он рассказал о завершении операции «Трест»: «В перестрелке с нашим кавалерийским разъездом оба белогвардейца (офицеры-террористы Мария Захарченко и Вознесенский — Петерс, безуспешно пытавшиеся взорвать общежитие ОГПУ на Малой Лубянке. — Б. С.) покончили счеты с жизнью». Как и подавляющее большинство коллег, Ягода отличался не только нравственным, но и интеллектуальным ничтожеством. В специальном заявлении на имя Ежова от 17 мая 1937 года только что арестованный Леопольд Авербах, спеша откреститься от одиозного деверя, камня на камне не оставил от его репутации «просвещенного политического руководителя», каким представляла Генриха Григорьевича партийная пропаганда: «Он никогда не вел политических разговоров, он все сводил к личной выгоде и личным взаимоотношениям, во всем пытался найти нечто низменное и на нем играть, он всегда зло подсмеивался над постановкой в центре принципиального существа того или другого вопроса… В разговорах с А. М. Горьким мы неоднократно останавливались на том, что Ягода — деление, конечно, условное — не политический руководящий работник, а организатор административного типа и складки. Не раз в частых беседах у Горького чувствовалось, что Ягода не разбирается в том, о чем идет речь. Он иногда спрашивал меня потом о тех или иных затрагивавшихся в этих разговорах темах или фамилиях, но и это всегда свидетельствовало не о естественно возникшем интересе, а о вынужденной необходимости хотя бы поверхностно ориентироваться. Бывало, что перед какой-либо беседой с Горьким Ягода наводил у меня те или иные справки, «нужные ему для использования в этой беседе». Однако только при составлении… доклада (по просьбе Ягоды Авербах помогал ему готовить доклад о февральско-мартовском Пленуме ЦК 1937 года для выступления перед активом Наркомата связи. — Б. С.) я увидел, насколько Ягода боится политического выступления, насколько он путано и нерешительно подходит к политическим формулировкам, насколько, по существу, чужда ему линия партии». Будешь тут осторожен в формулировках, если на пленуме Генриха Григорьевича подвергли уничтожающей критике за работу на посту наркомвнудела. На этот пост он был назначен в 1934 году. Рассказ Авербаха о том, насколько беспомощно чувствовал себя Ягода при встречах с Горьким, внушает доверие. Ведь Генрих Григорьевич завел дружбу с «буревестником революции» еще в Нижнем и очень ею гордился. При самом активном участии Горького создавалась панегирическая по отношению к ГПУ книга о Беломорско-Балтийском канале. Алексей Максимович прославил чекистов в очерке о Соловках, в ряде статей. Ягоду связывали с семейством Горького многие узы, в частности весьма интимные. Жена сына Горького Максима — Надежда Алексеевна Пешкова (урожденная Введенская), носившая ласковое домашнее прозвище Тимоша, была любовницей Генриха Григорьевича. Позднее, на процессе по делу «правотроцкистского антисоветского блока», Ягоду обвинили в организации убийства, с помощью «врачей-вредителей», Максима Пешкова. Но, во-первых, неизвестно, стала ли Тимоша любовницей Ягоды еще до смерти мужа, последовавшей в мае 1934 года от гриппа, или позднее. Во-вторых, не было секретом, что сын Горького страдает тяжелым алкоголизмом — заснуть на улице в пьяном виде и простудиться он вполне мог сам, без посторонней помощи. Учитывая же, что впоследствии секретарь Горького П. П. Крючков и врачи, которые будто бы по приказу Ягоды умертвили Максима, были полностью реабилитированы, есть все основания полагать, что супруг Тимоши скончался без чьего-либо вмешательства. Ныне опубликована переписка Ягоды и Горького, продолжавшаяся до смерти последнего. Она полностью подтверждает справедливость слов Авербаха. Горький по преимуществу ходатайствует за кого-нибудь или делится впечатлениями от европейской жизни. Ягода отвечает дежурными комплиментами. И практически ничего не пишет при этом о литературе или культуре, равно как и о политике. Генриху Григорьевичу, по большому счету, не о чем было говорить с Горьким — только о сугубо деловых вопросах, например о хлопотах писателя за кого-нибудь из узников. Характерно, что Горький называет шефа ОГПУ «дорогой друг и земляк». Ягода же постоянно жалуется, что «не умею, разучился писать письма», что «в силу целого ряда соображений иногда пишешь не то, что хочешь». И подчеркивает, что отнюдь не все может доверить бумаге. Разумеется, ведь еще в 1923 году он сам издал циркуляр о тотальном вскрытии органами цензуры всей иностранной корреспонденции. При этом Генрих Григорьевич не упускал случая порисоваться перед своим именитым корреспондентом. Так, 29 октября 1932 года Ягода с упоением рассказывал о собственных подвигах на ниве сплошной коллективизации: «Десять дней и ночей летал по степям и станицам кубанским. Казаки — народ крепкий, хитер уж больно — простачком прикидывается. Вот мы и поговорили с ним. Слов нет — умен. Хотел перехитрить, но не вышито. Я очень доволен своей поездкой, чертовски много видел, много узнал — если б не моя такая усталость, все было бы прекрасно». Тема усталости находит живой отклик у Горького. 20 ноября 1932 года он признавался: «Я бы тоже с наслаждением побеседовал с Вами, мой дорогой землячок, посидел бы часа два в угловой комнате на Никитской. Комплименты говорить я не намерен, а скажу нечто от души: хотя Вы иногда вздыхаете: «Ох, устал!» — и хотя для усталости Вы имеете вполне солидные основания, но у меня всегда после беседы с Вами остается такое впечатление: конечно, он устал, это — так, а все-таки есть в этом заявлении об усталости нечто «предварительное», от логики: должен же я, наконец, устать, пора! Иными словами, к действительной и законнейшей усталости Вы добавляете немножко от самовнушения, от сознания, что — пора устать! На самом же деле Вы — человек наименее уставший, чем многие другие, и неистощимость энергии Вашей — изумительна, работу ведете Вы громадную». Жаль, не дожил «буревестник революции» до ежовщины. Вот бы выразил свое восхищение трудовыми подвигами Николая Ивановича! Ягода продолжал рисовать собственный образ неутомимого бойца революции. 18 марта 1933 года он писал Горькому: «Бурная зима прошла, дорогой А. М., — в этой борьбе я чувствую себя сейчас, как солдат на передовых линиях. Я, как цепной пес, лежу у ворот республики и перегрызаю горло всем, кто поднимет руку на спокойствие Союза. Враги как-то сразу вылезли из всех щелей, и фронт борьбы расширился — как никогда. Знаете ли, Алексей Максимович, какая все-таки гордость обуревает, когда знаешь и веришь в силу партии, и какая громадная сила партии, когда она устремляется лавой на какую-либо крепость, прибавьте к этому такое руководство мильонной партией, таким совершенно исключительным вождем, как Сталин. Правда, есть для чего жить, а главное, есть, за что бороться. Я очень устал, но нервы так напряжены, что не замечаешь усталости. Сейчас, по-моему, кулака добили, а мужичок понял, понял крепко, что, если сеять не будет, если работать не будет, умрет, а на контру надежды никакой не осталось. Перелом в деревне большой, и я думаю, что повторения того, что было, больше не будет. Вы подумайте, Алексей Максимович, ведь борьба идет от правых, троцкистов до махровых контрреволюционеров. Ведь троцкисты докатились до прямого вредительства, до прямой диверсии. Троцкист Иоффе (инженер) взрывает и уничтожает единственный у нас открытый электроинститут. Троцкисты в депо Верхнеудинска бьют и уничтожают паровозы и останавливают движение. Правые — Слепков, Астров, Марецкий, Цейтлин (секретарь Бухарина) (Слепков Александр Николаевич — сторонник Бухарина, бывший редактор «Комсомольской правды»; расстрелян в 1937 году. Вместе с М. С. Цейтлиным, писателем В. Н. Астровым и журналистом Д. П. Марецким был наиболее известным публицистом так называемой школы Бухарина. Из них Большой террор удалось пережить только Астрову, до середины 50-х просидевшему в лагерях. — Б. С.) устраивают правую конференцию — обсуждают план борьбы с нами — одновременно заговор в сельском хозяйстве и т. д. и т. д. Вот фронт борьбы, — а я сейчас почти один, Вячеслав Рудольфович болен, Прокопьев болен. Пока держусь. Я так мало сплю, что иногда засыпаю за столом. Ну, это не так уж важно. Жаль, что я уж очень постарел за этот год». Расхваление Сталина и филиппики в адрес правых предназначались, конечно, не только Горькому, но и более широкой общественности, общавшейся с «буревестником», — в расчете, что окольными путями они дойдут и до ушей вождя. И по всей видимости, это письмо Горькому стало известно многим. Может быть, фраза из него каким-то образом дошла до чекиста-перебежчика Александра Орлова (Лейбы Фельбинга), который в мемуарах назвал Ягоду «верным сторожевым псом» Сталина. Но того не ведал Генрих Григорьевич, что Иосиф Виссарионович цепных псов долго не держит, предпочитает менять, а выбракованных в живых не оставляет. Кокетливо сокрушаясь, как он постарел за год, Ягода не знал, что умереть ему придется не своей смертью и сравнительно молодым.Вверх по лестнице, ведущей вниз
Как сообщает Пудалов, дальние родственники вспоминали, «что уже в 30-е годы, будучи в Москве, иногда заходили к Ягоде в гости; он встречал приветливо, но в общении бывал неровен: однажды на довольно безобидную просьбу помочь с железнодорожным билетом не просто отказал, а вспылил, раскричался, крепко обидел». И делает следующий вывод о причинах падения Ягоды: «По-моему, тяжелый, неуравновешенный характер его и погубил: не умел вести «придворную» интригу, управлять своими эмоциями». Но дело было не в характере, а в принадлежности Генриха Григорьевича к плеяде «старых большевиков» и его близости к группе Бухарина. Когда в 1929 году стало известно о встрече Бухарина с бывшими лидерами оппозиции — Каменевым и Сокольниковым, руководство ОГПУ в лице Менжинского, Ягоды и Трилиссера вынуждено было 6 февраля 1929 года обратиться к Сталину со специальным заявлением, копия которого была направлена председателю ЦКК С. Орджоникидзе: «В контрреволюционной троцкистской листовке, содержавшей запись июльских разговоров т. Бухарина с т. т. Каменевым и Сокольниковым о смене Политбюро, о ревизии партийной линии и пр., имеются два места, посвященные ОГПУ: 1. На вопрос т. Каменева: каковы же наши силы? Бухарин, перечисляя их, якобы сказал: «Ягода и Трилиссер с нами» и далее 2. «Не говори со мной по телефону — подслушивают. За мной ходит ГПУ, и у тебя стоит ГПУ». Оба эти утверждения, которые взаимно исключают друг друга, вздорная клевета или на т. Бухарина, или на нас, независимо от того, говорил или нет что-нибудь подобное т. Бухарин, считаем необходимым эту клевету категорически опровергнуть перед лицом партии. Просим приложить наше заявление к протоколу объединенного заседания Политбюро и Президиума ЦКК, разослав участникам данного заседания». Руководители ОГПУ допускали, что Бухарин мог сказать Каменеву что-то о поддержке «правых» Ягодой и Трилиссером. Поэтому разумно предположить, что определенная близость к группировке Бухарина у обоих чекистов была. Другое дело, что Николай Иванович наверняка преувеличил степень этой близости. Частые контакты Генриха Григорьевича по службе с председателем Совнаркома Рыковым и главой Московского городского комитета партии Углановым (Ягода состоял членом бюро МГК), а также дружеские попойки с ними во внеслужебное время еще не означали, что фактический руководитель ОГПУ готов поддержать правых в их попытке сместить Сталина. В любом случае заявление от 6 февраля 1929 года знаменовало собой окончательный разрыв с бухаринцами и переход к безоговорочной поддержке Сталина. Теперь песенка Бухарина была окончательно спета. Но Сталин связи Ягоды с оппозиционерами не забыл… 1 декабря 1934 года произошло событие, предопределившее дальнейшее падение Ягоды. В Смольном выстрелом в затылок был убит глава ленинградских коммунистов и один из ближайших друзей Сталина Сергей Миронович Киров. Его убийца, Леонид Васильевич Николаев, рабочий и член партии, ни в каких оппозициях сроду не участвовавший,мстил за несправедливое, как он считал, увольнение с непыльного места работы — из Ленинградского института истории партии. Сперва он думал лишить жизни директора института — непосредственного виновника увольнения, а затем остановил свой выбор на Кирове, оставившем без ответа его апелляции. Все многочисленные версии заговоров с целью ликвидации «Мироныча» опровергаются одним твердо установленным фактом. В тот роковой день Киров в Смольный не собирался, и их встреча с Николаевым оказалась чистой случайностью. О мотиве же, двигавшем преступником, исчерпывающе рассказал Генрих Самойлович Люшков. В качестве заместителя начальника секретно-политического отдела НКВД он расследовал покушение в Смольном, а потом благополучно бежал в Японию. В Токио Люшков заявил: «Перед всем миром я могу удостоверить с полной ответственностью, что все эти мнимые заговоры никогда не существовали и все они были преднамеренно сфабрикованы. Николаев, безусловно, не принадлежал к группе Зиновьева. Он был ненормальный человек, страдавший манией величия. Он решил погибнуть, чтобы стать историческим героем. Это явствует из его дневника». Люшков также опровергает мнение, что авария, в которой погиб охранник Кирова Борисов, была подстроена по приказу Сталина. С того момента, как последний распорядился срочно доставить Борисова в Смольный на допрос, до его гибели прошло всего лишь полчаса. Этого времени для организации покушения, со знанием дела утверждал Генрих Самойлович, абсолютно недостаточно. Ягода понимал, что в связи с убийством Кирова НКВД могут обвинить в халатности. В Смольный, где располагались руководители ленинградской парторганизации, мог войти любой по предъявлении партбилета. Кирова постоянно сопровождал лишь один охранник, который в момент покушения отстал от своего подопечного. Это и позволило Николаеву выстрелить в свою жертву в упор. Генриху Григорьевичу неудобно было признать, что его люди ничего не смогли сделать с удачливым убийцей-одиночкой. Ягода попытался сфабриковать версию о связи Николаева с белой эмиграцией и представить его чуть ли не профессиональным террористом. Однако Сталин требовал искать сообщников Николаева среди зиновьевцев. Ягоде пришлось скрепя сердце подчиниться. Сталин же использовал убийство Кирова с максимальным эффектом. Уже вечером 1 декабря он продиктовал постановление ЦИК, предписывающее дела о подготовке и совершении терактов вести ускоренным порядком и не принимать ходатайства о помиловании, приводя приговоры в исполнение немедленно. Очевидно, Иосиф Виссарионович давно обдумывал план устранения путем террора как бывших оппозиционеров, так и всех подозрительных людей в стране. Поэтому, когда представился удобный повод, ему не надо было долго размышлять над текстом чрезвычайного закона. Этот закон к тому времени уже сложился в его голове. Вместе с Николаевым в конце декабря расстреляли 13 человек, никакого отношения к убийству Кирова не имевших. В январе 1935-го Особое совещание при НКВД СССР осудило 77 человек из мифической «ленинградской контрреволюционной зиновьевской группы» на различные сроки заключения и ссылки. Среди осужденных бывшие члены Политбюро Г. Е. Зиновьев и Л. Б. Каменев, которых заставили взять на себя «моральную ответственность» за выстрел Николаева. Всего в 1934–1935 годах по обвинению в этом преступлении репрессировали 843 человека. В феврале — марте 1935 года в ходе специальной операции НКВД из Ленинграда по решению Особого совещания было выселено около 12 тысяч человек — бывших дворян, офицеров, жандармов, торговцев, фабрикантов и прочих представителей «эксплуататорских классов». Но это были еще цветочки. Программа Великой чистки как преддверия новой мировой войны излагалась в постановлении Политбюро от 15 мая 1935 года. Тогда были созданы Оборонная комиссия Политбюро «для руководства подготовкой страны к возможной войне с враждебными СССР державами» и Особая комиссия Политбюро по безопасности «для ликвидации врагов народа». Одновременно предписывалось «провести во всей партии две проверки — гласную и негласную». Ягода отнюдь не торопился репрессировать партийные кадры и в осуществлении «негласной проверки» не слишком преуспел. На первую роль в борьбе с «врагами народа» выдвинулся председатель Комиссии партийного контроля Николай Иванович Ежов, руководивший чисткой партии. Но пока Сталин продолжал оказывать Ягоде знаки внимания. 7 октября 1935 года по предложению Генриха Григорьевича в ОГПУ были введены персональные звания. Сам Ягода с 26 ноября именовался генеральным комиссаром госбезопасности, что соответствовало армейскому маршалу. Форма у чекистов стала гораздо лучше армейской. Ягода теперь носил темно-синюю приталенную однобортную шерстяную тужурку с золотым кантом на воротнике и обшлагах рукавов, белую рубашку с черным галстуком, темно-серый шерстяной реглан и темно-синие брюки навыпуск с малиновым кантом. На рукаве тужурки красовалась большая золотая звезда, окаймленная красным, синим, зеленым и краповым шитьем, в центре звезды помещался красный серп и молот, а под ней — золотой жгут. Такая же звезда была и на петлицах. А подчиненные Ягоды щеголяли в синих фуражках с краповым околышем и малиновым кантом, в гимнастерках цвета хаки с серебряным или золотым кантом, в зависимости от звания (гимнастерки наркома и других высших чинов шили из коверкота), и в синих габардиновых бриджах с малиновым кантом. Но носить свою роскошную форму Генриху Григорьевичу довелось всего год.«Кузнец новых людей»
Генрих Григорьевич прославлялся советской пропагандой не только как глава карательного ведомства, но и как великий созидатель. Именно Ягода положил начало массовому использованию зеков для нужд социалистического строительства. Вызвано это было ускоренным ростом населения ГУЛАГа, как уголовного, так и политического. Если в 1933 году в тюрьмах и лагерях находилось 334 тысячи человек, то в 1936-м — 1 миллион 296 тысяч. Чтобы уменьшить расходы на их содержание, заключенных решили направить на сравнительно несложные, но тяжелые работы — на стройки, где главным орудием труда были лопата и тачка, на лесоповалы, в шахты. 17 ноября 1935 года «Правда» с восторгом писала о Генрихе Григорьевиче: «Неутомимый воин революции, он развернулся и как первоклассный строитель… Переделка людей, проблема «чудесного сплава» — разве она не решается замечательным образом на этих стройках». Первой из них стал в 1931–1933 годах Беломорско-Балтийский канал имени И. В. Сталина. О строительстве канала была написана книга, которую редактировали Горький, Авербах и начальник Белбалтлага С. Г. Фирин (он же заместитель начальника ГУЛАГа). Трассу проложили за 20 месяцев более чем 100 тысяч заключенных. Книгу 36 писателей создали столь же ударными темпами — всего за 5 месяцев, к открытию XVII партсъезда — съезда победителей. В профинансированной ОГПУ поездке по открытому 5 августа 1933 года каналу участвовало гораздо больше литераторов, но в заветный том попали не все. Однако и непопавшие оставили восторженные отзывы о «стройке века». Например, бывший участник Ледового похода генерала Л. Г. Корнилова драматург Евгений Шварц писал: «Настоящего мастера всегда узнаешь по работе. Работа мастера и хороша, и характерна для него. Беломорский канал и великолепен, и поражает особой точностью, целесообразностью и чистотой работы. ОГПУ, смелый, умный и упрямый мастер, положил свой отпечаток на созданную им стройку. То, что мы увидели, — никогда не забыть, как не забыть действительно великое произведение искусства». А Ильф и Петров умилялись, увидев перед Маткожнинской плотиной маленькую решеточку для вытирания ног: «Строители канала показали, как надо строить вещи. Они сделали свою работу сразу, от начала до конца — вывезли миллионы кубометров земли, взорвали скалы и не стали от этого высокомерными. Раз нужна решеточка для вытирания ног — сделали и решеточку. Вот эта законченность и есть замечательный стиль работы чекистов». О том, сколько десятков тысяч строителей осталось навсегда лежать в карельских болотах, литераторы не задумывались. Бруно Ясенский от волнения даже заговорил стихами:Московские процессы
В августе 1936 года прошел первый из больших московских процессов 1936–1938 годов, в результате которых были приговорены к смерти и казнены лидеры оппозиции. Всего таких процессов было три. В августе 1936-го в рамках дела «антисоветского объединенного троцкистско-зиновьевского центра» судили Зиновьева, Каменева и 14 их сторонников. В январе 1937 года на процессе по делу «параллельного антисоветского троцкистского центра» предстали такие видные приверженцы Троцкого, как Ю. Л. Пятаков, Г. Я. Сокольников, К. Б. Радек, Л. П. Серебряков и др. Последний процесс состоялся в марте 1938 года. На этот раз судили Бухарина, Рыкова, Угланова и других сторонников правых, а также некоторых троцкистов вроде заместителя наркома иностранных дел Н. Н. Крестинского и самого Ягоды, не примыкавшего по-настоящему ни к одной фракции. Как и процессы по делам «вредителей», они строились по одному сценарию. Борьба со Сталиным объявлялась заговором с целью захвата власти. При этом у арестованных оппозиционеров выбивали признание, будто бы они действовали в связи и по заданию разведок Англии, Германии, Польши и Японии. С Францией у Советского Союза в тот момент были хорошие отношения, поэтому она из числа покровителей мнимых заговорщиков исключалась. Падение Ягоды оказалось непосредственно связано с первым большим московским процессом в августе 1936 года, когда по обвинению в убийстве Кирова и намерении совершить государственный переворот вторично судили Зиновьева, Каменева и ряд их соратников. В подготовке этого процесса главную роль уже фактически играл Ежов. 22 августа 1936 года, предчувствуя неизбежный арест после того, как его имя было упомянуто на процессе по делу Каменева и Зиновьева, застрелился один из ближайших соратников Бухарина, Михаил Томский, бывший глава советских профсоюзов, директор Объединенного государственного издательства. Вечером Каганович, Ежов и Орджоникидзе сообщили об этом Сталину в Сочи специальной шифровкой: «Сегодня утром застрелился Томский. Оставил письмо на Ваше имя, в котором пытается доказать свою невиновность. Вчера же на собрании ОГИЗа в своей речи Томский признал ряд встреч с Зиновьевым и Каменевым, свое недовольство и свое брюзжание. У нас нет никаких сомнений, что Томский, так же как и Ломинадзе, зная, что теперь уже не скрыть своей связи с зиновьевско-троцкистской бандой, решил спрятать концы в воду путем самоубийства (а ведь Орджоникидзе был другом Ломинадзе, память которого теперь предал. — Б. С.). Думаем: — Похоронить там же, в Болшеве. — Дать завтра в газету следующее известие: «ЦК ВКП(б) извещает о том, что кандидат в члены ЦК ВКП(б) Томский, запутавшись в своих связях с контрреволюционными троцкистско-зиновьевскими террористами, 22-го августа на своей даче в Болшеве покончил жизнь самоубийством». Просим сообщить Ваши указания». Сталин одобрил текст сообщения для печати. В тот момент он еще не знал, что самоубийство Томского положит начало интриге, окончившейся смещением Ягоды и назначением Ежова на пост наркома внутренних дел. Тут сыграло свою роль предсмертное письмо Михаила Петровича, найденное на столе в его дачном кабинете. Томский просил: «Я обращаюсь к тебе не только как к руководителю партии, но и как к старому боевому товарищу, и вот моя последняя просьба — не верь наглой клевете Зиновьева, никогда ни в какие блоки я с ними не входил, никаких заговоров против правительства я не делал… Не верь клевете и болтовне перепуганных людей… Не забудьте о моей семье…» А в постскриптуме писал: «Вспомни наш разговор в 1928 году ночью. Не принимай всерьез того, что я тогда сболтнул — я глубоко в этом раскаивался всегда. Но переубедить тебя не мог, ибо ведь ты бы мне не поверил. Если ты захочешь знать, кто те люди, которые толкали меня на путь правой оппозиции в мае 1928 года, — спроси мою жену лично, только тогда она их назовет». Разговор, на который ссылался Михаил Петрович, происходил на даче Сталина в Сочи после обильного застолья. Юрий Михайлович Томский вспоминал: «Был чей-то день рожденья. Мама со Сталиным готовили шашлык. Сталин сам жарил его на угольях. Потом пели русские и революционные песни и ходили гулять к морю». В тот роковой майский вечер все много выпили, и особенно Томский. И спьяна наговорил Кобе много лишнего. 1 октября 1936 года Ежову докладывали: «Не кем иным, как ближайшими доверенными людьми и помощниками Н. Бухарина и М. Томского — А. Слепковым, Д. Марецким и Л. Гинзбургом, распространялся еще осенью 1928 года белогвардейский рассказ о том, что «мирный» Томский, доведенный якобы до отчаяния тов. Сталиным, угрожал ему пулями…» Бухарин же в своем заявлении на Пленуме ЦК 7 декабря 1936 года, оправдываясь, почему не сообщил Сталину о «террористических намерениях» Томского, утверждал: «Во время встречи Томский был в абсолютно невменяемом состоянии. Сообщать Сталину дополнительно о том, что Томский говорил тому же Сталину, было бы по меньшей мере странно. Я не придал значения угрозе Томского. Но, по-видимому, и сам т. Сталин не придал ей значения большего, чем пьяной выходке». Тут Николай Иванович ошибался. Иосиф Виссарионович ничего не забывал и ко всему прислушивался. Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Сталин поверил, что оппозиционеры хотят его смерти. С этого момента троцкисты и бухаринцы были обречены на физическое уничтожение. Томский знал, что слов о пулях Коба не простит. И поспешил добровольно уйти из жизни, когда понял, что вслед за Каменевым и Зиновьевым настала его с Бухариным и Рыковым очередь. А сведения, содержавшиеся в постскриптуме предсмертного письма Томского, Сталин использовал на полную катушку. Существует версия, что Ежов направил к вдове Томского Марии Ивановне начальника секретно-политического отдела НКВД Г. А. Молчанова (Георгий Андреевич Молчанов при Ягоде занимал ключевой пост начальника секретно-политического отдела, через который проходили все агентурные донесения; расстрелян в 1937 году в особом порядке, без суда). Но Молчанову она отказалась назвать людей, упомянутых в постскриптуме. Тогда с Марией Ивановной встретился Ежов. Младший сын Томского Юрий уже в 1988 году вспоминал: «В ночь на 23 августа на дачу в Болшево приехал Ежов. Он долго беседовал с матерью и сказал ей, что захоронение предполагается у Кремлевской стены. Утром 23 августа матери передали по телефону, что захоронение произойдет на кладбище Новодевичьего монастыря. Через некоторое время было сообщено, что захоронение будет произведено временно на Болшевском кладбище. Тело отца было забальзамировано. В день похорон у дачи скопилось очень много народу. Срочно кем-то было принято решение о захоронении Томского на территории дачи. Позже его тело ночью было вырыто. Имеется ли где-нибудь его захоронение, мне узнать не удалось». Этот рассказ выглядит красивой легендой о том, как статус покойника в течение суток стремительно понижался — от претендента на погребение у Кремлевской стены до обитателя безымянной могилы неведомо где. Но Ежов никак не мог обещать вдове торжественные похороны на Красной площади — для опального директора ОГИЗа даже в случае естественной смерти, а не самоубийства это было явно не по чину. Тем более Ежов прекрасно знал решение Политбюро. Может быть, и насчет встречи матери с Ежовым память подвела Юрия Михайловича? Ведь сохранилось письмо Марии Ивановны Ежову, датированное 27 октября 1936 года, где никак не упоминаются их встречи и беседы. В письме Сталину Томский сказал и о другом своем письме: «Я признаю, что у меня великие провинности перед партией — о них написано в письме (неокончено — в ОГИЗе)». Оно так до сих пор и не обнаружено. Юрий Томский вспоминал, что это письмо они с братом Виктором и заместителем отца Броном изъяли из сейфа Томского в издательстве и передали в ЦК Ежову. Николай Иванович прочел письмо и восхитился: «Ай да Мишка, молодец! Это документ огромной важности и будет жить в веках». И обещал, что ни один волос не упадет с головы родственников Томского (его слова оказались пустым звуком). Скорее всего, именно в этом письме содержались прямое указание на связь Ягоды с правыми и, может быть, еще какие-нибудь компрометирующие данные на Рыкова или Бухарина. Михаил Петрович наивно рассчитывал, что, закладывая других, спасет от репрессий свою семью. Сталин и Ежов с избытком отблагодарили за его откровенность и вдову, и детей. Старшие сыновья Томского Михаил и Виктор были расстреляны. Младший сын Юрий и жена Мария Ивановна получили по 10 лет лагерей. Мария Ивановна умерла в ссылке в Сибири в 1956 году. До реабилитации дожил только Юрий Михайлович. Одна встреча у вдовы Томского с Ежовым действительно была, но не в первые дни после самоубийства мужа, а несколько месяцев спустя. 23 февраля 1937 года, выступая на Пленуме ЦК, Ежов заявил: «На днях жена Томского, передавая некоторые документы из своего архива, говорит мне: «Я вот, Николай Иванович, хочу рассказать вам один любопытный факт, может быть, он вам пригодится. Вот в конце 1930 года Мишка… очень волновался. Я знаю, что что-то такое неладно было. Я увидела, что приезжали на дачу Васи Шмидта (бывшего зампреда Совнаркома, близкого к Рыкову, Бухарину и Томскому. — Б. С.) такие-то люди, он там не присутствовал. О чем говорили, не знаю, но сидели до поздней ночи. Я это дело, говорит, увидела случайно. Я почему это говорю, что могут теперь Васю Шмидта обвинить, но он ничего не знает». Я говорю: «А почему вы думаете, что он ничего не знает?» Потому, что я на второй день напустилась на Томского и сказала: ты что же, сволочь такая, ты там опять встречаешься, засыпешься, попадешься, что тебе будет?» Он говорит: молчи, не твое дело. Я с ним поругалась и сказала, что я еще в ЦКК скажу. Потом пришел Вася Шмидт, я на него набросилась: ты почему даешь квартиру свою для таких встреч? Он страшно смутился и говорит: я ни о чем не знаю. Вот она какой факт рассказала. Таким образом, это не только показание этого самого Шмидта, но это совпадает и с тем разговором, который у меня с ней был при встрече». По всей вероятности, когда младший сын Томского говорил о беседе матери с Ежовым, он имел в виду именно эту, февральскую встречу: за давностью лет память переместила ее на день после отцовского самоубийства. Трудно отделаться от впечатления, что Николай Иванович исказил то, что на самом деле говорила вдова Томского. Вряд ли Мария Ивановна действительно подозревала супруга в антисталинском заговоре. Да и в том, что Томский и его товарищи по партии встретились на даче Шмидта в отсутствие хозяина, никакого криминала не было. А вот когда Ежов упомянул «таких-то людей», он вполне мог иметь в виду и еще остававшегося на свободе Ягоду О его тесных контактах с правыми Николай Иванович знал из письма Томского, адресованного ЦК. В конце августа или в сентябре 1936-го Ежов сообщил Кагановичу и Орджоникидзе, что человеком, толкавшим Томского на союз с правыми, оказался Ягода, который будто бы «играл очень активную роль в руководящей тройке правых, регулярно поставлял им материалы о положении в ЦК и всячески активизировал их выступление». Перед этим Ежов по телефону связался со Сталиным. Тезисы к этой беседе (или ее запись) сохранились в до сих пор закрытом архиве Ежова в РГАСПИ. Их изложение опубликовано в 1996 году в книге Олега Хлев-нюка «Политбюро: механизмы политической власти в 1930-е годы». Николай Иванович настаивал на том, что Томский клевещет на Ягоду, сводя с ним старые счеты. Однако при этом глава ЦКК обвинил шефа НКВД в недооценке троцкистской опасности. «Лично я сомневаюсь, — писал Николай Иванович, — что правые заключили прямой организационный блок с троцкистами и зиновьевцами». При этом он отмечал, что «новый процесс затевать вряд ли целесообразно… Арест и наказание Радека и Пятакова вне суда, несомненно, просочатся в заграничную печать. Тем не менее на это идти надо… Стрелять придется довольно внушительное количество. Лично я думаю, что на это надо пойти и раз навсегда покончить с этой мразью. Понятно, что никаких процессов устраивать не надо. Все можно сделать в упрошенном порядке по закону от первого декабря и даже без формального заседания суда». Насчет новых политических процессов Сталин держался иной точки зрения. А вот мысль о том, что «внушительное количество» оппозиционеров и просто почему-либо неугодных партийцев надо будет расстрелять без суда, в ускоренном порядке, ему понравилась, поскольку отвечала самым заветным чаяниям. Вечером 25 сентября 1936 года Сталин и Жданов послали Кагановичу, Молотову, Ворошилову и Андрееву историческую шифровку за № 1360/ш. В отличие от большинства других шифровок, поступавших в Сочи и из Сочи — места, где любил отдыхать Сталин, — она была передана только по каналам партийной связи и не была продублирована по линии связи НКВД, чтобы Ягода не узнал ее содержания. Вот ее полный текст, ранее не публиковавшийся: «Москва, ЦК ВКП(б) т.т. Кагановичу, Молотову и другим членам Политбюро. Первое. Считаем абсолютно необходимым и срочным делом назначение т. Ежова на пост наркомвнудела. Ягода явным образом оказался не на высоте своей задачи в деле разоблачения троцкистско-зиновьевского блока. ОГПУ опоздал в этом деле на 4 года. Об этом говорят все партработники и большинство областных представителей НКВД. Замом Ежова в наркомвнуде-ле можно оставить Агранова (Якова Сауловича Агранова, надзиравшего за интеллигенцией и дружившего, по должности, с Маяковским; Ежов расстреляет его 1 августа 1938 года. — Б. С.). Второе. Считаем необходимым и срочным делом снять Рыкова с НКсвязи и назначить на пост НКсвязи Ягода. Мы думаем, что дело это не нуждается в мотивировке, так как оно и так ясно. Третье. Считаем абсолютно срочным делом снятие Лобова и назначение на пост НКлеса т. Иванова, секретаря Северного крайкома. Иванов знает лесное дело, и человек он оперативный; Лобов, как нарком, не справляется с делом и каждый год его проваливает. Предлагаем оставить Лобова первым замом Иванова по НКлесу. Четвертое. Что касается Комиссии Партконтроля, то Ежова можно оставить по совместительству председателем Комиссии Партконтроля с тем, чтобы он 9/10 своего времени отдавал НКВД, а первым заместителем Ежова по комиссии можно было бы выдвинуть Яковлева Якова Аркадьевича. Пятое. Ежов согласен с нашими предложениями. Шестое. Само собой разумеется, что Ежов остается секретарем ЦК. Сталин, Жданов». Все предложенные Сталиным и Ждановым перемещения были произведены незамедлительно. Только С. С. Лобов не захотел оставаться в подчинении у В. И. Иванова и был назначен наркомом пищевой промышленности РСФСР. Впрочем, в этой должности Семен Семенович пробыл недолго. Любопытно, что никто из названных в шифровке не пережил эпохи Большого террора. Рыков, Ягода и Владимир Иванович Иванов оказались на одной скамье подсудимых и были расстреляны по делу «правотроцкистского блока». Лобова казнили раньше, в октябре 1937-го, обвинив в троцкизме. Яковлев прожил дольше всех. Ежов вывел в расход своего заместителя только 29 июля 1938 года… 26 сентября в специальной записке Сталин убеждал Ягоду принять новое назначение, подчеркивая, что Наркомат связи — «оборонный» и он, Ягода, сумеет поднять его работу. В тот же день Ежов возглавил НКВД, а Генрих Григорьевич стал наркомом связи. Понимал ли он, что это конец? Неизвестно. Но падение продолжалось. 29 сентября 1936 года Генриха Григорьевича отправили в двухмесячный отпуск «по состоянию здоровья». А 29 января 1937-го он был уволен в запас и перестал носить мундир генерального комиссара государственной безопасности. На февральско-мартовском Пленуме ЦК, как я уже говорил, деятельность Генриха Григорьевича в НКВД подвергли критике, а 28 марта его арестовали прямо на квартире в Кремле. Ягода был кандидатом в члены ЦК ВКП(б) и членом ЦИК, и теоретически на его арест требовалась предварительная санкция этих органов. Ее получили задним числом. 31 марта 1937 года Сталин направил членам ЦК ВКП(б) следующее послание: «Ввиду обнаруженных антигосударственных и уголовных преступлений наркома связи Ягода, совершенных в бытность его наркомом внутренних дел, а также после его перехода в наркомат связи, Политбюро ЦК В КП доводит до сведения членов ЦК ВКП, что, ввиду опасности оставления Ягода на воле хотя бы на один день, оно оказалось вынужденным дать распоряжение о немедленном аресте Ягода. Политбюро ЦК ВКП просит членов ЦК ВКП санкционировать исключение Ягода из партии и ЦК и его арест». Разумеется, члены ЦК это решение единогласно одобрили.Последний путь
На допросе 2 апреля 1937 года Генрих Григорьевич рассказал о своих связях с правыми следующее: «Как зампред ОГПУ, я часто встречался с Рыковым, сначала на заседаниях, а затем и дома у него. Относился он ко мне хорошо, и это мне льстило и импонировало. Личные отношения у меня были также с Бухариным, Томским и Углановым (я был тогда членом бюро МК, а Угланов секретарем МК). Когда правые готовились к выступлению против партии, я имел по этому поводу несколько бесед с Рыковым… Это было в 1928 году у Рыкова в кабинете. О характере этого разговора у меня в памяти сохранилось, что речь шла о каких-то конкретных расхождениях у Рыкова, Бухарина, Томского с Политбюро ЦК по вопросам вывоза золота и продажи хлеба. Рыков говорил мне, что Сталин ведет неправильную линию не только в этих вопросах. Это был первый разговор, носивший скорее характер прощупывания и подготовки меня к более откровенным разговорам. Вскоре после этого у меня был еще один разговор с Рыковым. На сей раз более прямой. Рыков изложил мне программу правых, говорил о том, что они выступят с открытой борьбой против ЦК, и прямо поставил вопрос, с кем я… Я сказал Рыкову следующее: «Я с вами, я за вас, но в силу того, что я занимаю положение зампреда ОГПУ, открыто выступать на вашей стороне я не могу и не буду. О том, что я с вами, пусть никто не знает, а я всем возможным с моей стороны, со стороны ОГПУ, помогу Вам в Вашей борьбе против ЦК…» Я был зампредом ОГПУ Если бы я открыто заявил о своих связях с правыми, я был бы отстранен от работы. Это я понимал… В 1928—29 годах я продолжал встречаться с Рыковым. Я снабжал его, по его просьбе, секретными материалами ОГПУ о положении в деревне. В материалах этих я особо выделял настроения кулачества (в связи с чрезвычайными мерами), выдавая их за общие настроения крестьян в целом. Рыков говорил, что материалы эти они, правые, используют как аргумент в их борьбе с ЦК. В 1928 году я присутствовал на совещании правых в квартире Томского. Там были лидеры правых и, кажется, Угланов и Котов (Котов Василий Афанасьевич — сторонник Бухарина, бывший секретарь Московского комитета партии; расстрелян в 1937 году. — Б. С.). Были общие разговоры о неправильной политике ЦК. Конкретно, что именно говорилось, я не помню. Помню еще совещание на квартире у Рыкова, на котором присутствовал, кроме меня и Рыкова, еще Вася Михайлов (Михайлов Василий Михайлович — сторонник Бухарина, бывший секретарь Московского комитета партии, а позднее — начальник строительства Дворца Советов; расстрелян в 1937 году. — Б. С.) и, кажется, Нестеров. Я сидел с Рыковым на диване и беседовал о гибельной политике ЦК, особенно в вопросах сельского хозяйства. Я говорил тогда Рыкову, что все это верно, и сослался на материалы ОГПУ, подтверждающие его выводы. В 1929 году ко мне в ОГПУ приходил Бухарин и требовал от меня материалов о положении в деревне и о крестьянских восстаниях. Я ему давал. Когда я узнал, что Трилиссер также однажды дал Бухарину какие-то материалы, я выразил Трилиссеру свое отрицательное отношение к этому факту. В данном случае мне нужно было монополизировать за собой снабжение правых документами, поставить их в некоторую зависимость от себя». Все эти показания Ягоды выглядят довольно правдоподобно и вполне соответствуют содержанию троцкистской листовки 1928 года, где излагался разговор Бухарина с Каменевым и Сокольниковым. Разве что формулировки следователи записали в протокол какие надо. Вряд ли Генрих Григорьевич стал бы сам по доброй воле признаваться в том, что легко квалифицировалось не только как участие во фракционной борьбе, но и как подготовка заговора. Сомнительно, чтобы осторожный Ягода рискнул бы столь прямо заявить правым о своей поддержке. Хотя на рубеже 1928–1929 годов исход борьбы между группами Сталина и Бухарина был еще не очевиден и руководитель ОГПУ, конечно, не хотел портить отношения ни с одним из возможных победителей. Да наверняка были и встречи на квартирах и дачах Рыкова и Томского, где за рюмкой водки (которую Алексей Иванович Рыков очень уважал) поругивали Сталина с его ускоренной коллективизацией. Сталин вывозил за границу хлеб, несмотря на реально грозивший стране голод. А Рыков с Бухариным предлагали продавать золото, чтобы на вырученные средства купить зерно и ослабить хлебный дефицит. Замечу, что сводки ОГПУ Ягода Рыкову и Бухарину действительно передавал, ибо просто обязан был это делать. Ведь Рыков был председателем Совнаркома, а Бухарин — главой Коминтерна. Ни о какой особой услуге со стороны Генриха Григорьевича тут речи не шло. В июле 1928 года Бухарин на Пленуме ЦК прямо признал, что Ягода предоставил ему сведения о крестьянских волнениях, которые невозможно было получить по партийным каналам. А 27 октября 1929 года Ягода был официально назначен первым зампредом ОГПУ, конечно же не без одобрения Сталина. Значит, в тот момент Иосиф Виссарионович не сомневался в лояльности Генриха Григорьевича. Другое дело, что с нарастанием политической борьбы в феврале — апреле 1929-го Сталин мог потребовать от руководства ОГПУ перестать снабжать лидеров оппозиции секретными материалами. А если Меер Трилиссер, тогда второй зампред ОГПУ, ослушался и дал Бухарину какие-то материалы, это должно было вызвать гнев Ягоды. После же письма от 6 февраля 1929 года Менжинский, Ягода и Трилиссер окончательно встали на сторону большинства в Политбюро, но Трилиссера, подозреваемого в симпатиях правым, Сталин в 1930 году перевел из ОГПУ в заместители наркома Рабоче-Крестьянской инспекции. Об отношениях Ягоды с правыми рассказали на следствии и другие высшие чины ОГПУ и НКВД. Так, бывший заместитель Ягоды в НКВД Георгий Евгеньевич Прокофьев на допросе 25 апреля 1937 года показал: «Среди лиц, тесно связанных с Ягодой, особо выделяются Уханов и Карахан… Уханов часто бывал у Ягоды и на квартире, и в НКВД, приходил всегда без доклада прямо в кабинет, где долго оставался наедине с Ягодой. Я сам много раз убеждался в том, что Ягода никого не принимал, когда Уханов у него в кабинете. У них шли секретные разговоры. Уханов имел отношение к правым еще в период пребывания Угланова секретарем МК (Николай Угланов в 1924–1928 годах возглавлял Московский комитет ВКП(б), а Константин Уханов в 1926–1929 годах был председателем Моссовета. — Б. С.)… Карахан имеет давнишнюю очень тесную связь с Ягодой. Эта связь продолжалась до последнего дня. Карахан неоднократно посещал Ягоду в наркомсвязи и до, и после пленума ЦК (февральско-мартовского. — Б. С.). Ягода располагал о Карахане компрометирующими материалами о разложении, и этот материал, очевидно, использовал как свой обычный метод вербовки нужных ему людей. Мне приходилось заходить в кабинет Ягоды, как в НКВД, так и в наркомсвязи, когда бывал там Карахан. Каждый раз разговор между ними прерывался и искусственно переводился на иную тему». Тесную связь Ягоды с Караханом Прокофьев не выдумал. Благодаря Ягоде, роскошные дачи Уханова и Кара-хана обслуживались 2-м отделением административно-хозяйственного отдела НКВД. 4 апреля 1937 года, уже после ареста Генриха Григорьевича, был представлен рапорт о расходах этого отделения на нужды Ягоды, его родных и друзей. Выяснилось, что только содержание квартир и дач Ягоды обошлось НКВД в 1936 году в круглую сумму — 1 149 500 рублей. На его родственников было потрачено 165 тысяч рублей, а на любовницу Надежду Алексеевну Пешкову (Тимошу) — 160 тысяч рублей. В этом ряду расходы на дачи и продукты для заместителя наркома иностранных дел, а с 1934 года — полпреда в Турции и члена ЦИК СССР Льва Михайловича Карахана и разжалованного в наркомы местной промышленности РСФСР Константина Васильевича Уханова выглядят сравнительно скромно — соответственно 45 и 40 тысяч рублей. Связь у Уханова и Карахана с Ягодой, повторяю, была, и секретные разговоры они меж собой вели, только касались эти разговоры совсем не планов свержения Сталина, а, скорее всего, совместных походов по девочкам. По части «морально-бытового разложения» все трое были признанными мастерами. Уже знакомый нам Георгий Агабеков писал в книге «ЧК за работой»: «Кто в Москве не знает Карахана? Кто не знает его автомобиля, еженощно ожидающего у Большого театра? Кто может себе представить его не в обществе балетных девиц, которые так вошли в моду в последнее время (речь идет о второй половине 20-х годов. — Б. С.) у кремлевских вождей, что даже «всероссийский батрак» Калинин обзавелся своей танцовщицей? Карахана, которого девицы считают «душкой», а «вожди» хорошим, но недалеким парнем?» Сам же Ягода был еще большим гедонистом, чем Карахан, и среди девиц полусвета пользовался даже более теплым приемом, чем Лев Михайлович. Ведь возможности его и финансовые, и властные были куда значительней. Вот замечательный документ — протокол обыска, проведенного с 28 марта по 5 апреля 1937 года на квартире Ягоды в Кремле, кладовой в Милютинском переулке (дом 9), на его даче в Озерках, а также в кладовой и в кабинете в здании Наркомата связи. Среди прочего найдено: денег советских — 22 997 рублей 59 копеек, в том числе 6180 рублей 59 копеек на сберегательной книжке; вин разных 1229 бутылок, в большинстве своем заграничных 1897, 1900 и 1902 года изготовления; коллекция порнографических снимков — 3904 штуки; 11 порнографических фильмов; сигарет египетских и турецких — 11 075 штук; табака заграничного — 9 коробок; мужских пальто, главным образом заграничных — 21; шуб и бекеш на беличьем меху — 4; пальто дамских, заграничных — 9; манто беличье — 1; дамских каракулевых пальто — 2; котиковых манто — 2; кожаных пальто — 4; кожаных и замшевых курток заграничных, — 11; костюмов мужских разных заграничных — 22; гимнастерок коверкотовых из заграничного материала — 32 штуки (долго же Генрих Григорьевич рассчитывал оставаться на посту НКВД! — Б. С.); шинелей драповых — 5; сапог шевровых, хромовых и других — 19 пар; обуви дамской заграничной — 31 пара; обуви мужской — 23 пары; беличьих шкурок — 50; каракулевых шкурок — 43; меха выдры — 5 шкурок; черно-бурых лис — 2 штуки; рубах заграничных «Егер» — 23; кальсон «Егер» — 26; патефонов заграничных — 2; радиол заграничных — 3; пластинок заграничных — 399; юбок — 13; женских платьев заграничных — 27; костюмов дамских заграничных — 11; трико дамских шелковых заграничных — 70; игрушек детских заграничных — 101 комплект; револьверов русских — 19; фотоаппаратов — 9; охотничьих ружей и мелкокалиберных винтовок — 12; винтовок боевых — 2; патронов разных — 360; кинжалов старинных — 10; шашек — 3; часов золотых — 5, часов разных — 9; автомобиль — 1; мотоцикл с коляской — 1; велосипедов — 3; коллекция трубок курительных и мундштуков (слоновая кость, янтарь и др.), большая часть из них порнографические, — 165; коллекция музейных монет; монет иностранных желтого и белого металла — 26; резиновый искусственный половой член — 1; фотообъективов — 7; чемодан кино «Цейс» — 1; фонарей для туманных картин — 2; киноаппарат — 1; складной заграничный экран — 1; пленок с кассетами — 120; посуды антикварной разной — 10 008 предметов; антикварных изделий ~ 270; коньков, лыж, ракеток — 28; изделий «Палех» — 21; заграничной парфюмерии — 95 предметов; лекарств, презервативов иностранных — 115; роялей, пианино — 3; пишущая машинка — 1; контрреволюционной, троцкистской и фашистской литературы — 542 единицы. И много еще разного другого добра. Если судить по описи, в жизни Ягоды и его жены Иды Леопольдовны Авербах, помощника прокурора Москвы, секс занимал одно из первых мест. Даже экзотический в то время фаллоимитатор выписал из-за границы всемогущий наркомвнудел. И домашний порнокинотеатр организовал. Однако ювелирных изделий в описи почти нет — представлены лишь пятью золотыми часами. Неужели Генрих Григорьевич, собравший неплохую коллекцию антиквариата, к золоту и бриллиантам был абсолютно равнодушен? Вряд ли, тем более что Ягода имел прямое отношение к нелегальной торговле бриллиантами из конфискованных частных церковных и царских коллекций, — торговле, благодаря которой Советское государство в 20-е и 30-е годы получало жизненно необходимую валюту. На первом допросе после ареста речь сначала зашла как раз об этой торговле. Следователь поинтересовался, почему инженерно-строительный отдел НКВД возглавлял Александр Яковлевич Лурье, еще в 1923 году исключенный из партии как «чуждый элемент», и почему Ягода закрывал глаза на сомнительные операции с драгоценностями, которые проделывал Лурье при помощи Френкеля и других зарубежных коммерсантов, подозреваемых в шпионаже. В ходе этих операций милейший Александр Яковлевич несколько раз задерживался германской полицией. Ягода пока еще надеялся, что против него будут выдвинуты обвинения только в уголовных преступлениях и можно будет отделаться тюрьмой, а не расстрелом. Поэтому заявил: «Пребывание иностранца (С. М. Френкеля, бывшего российского подданного и бывшего уполномоченного Чрезвычайной комиссии по экспорту при Совете труда и обороны, переквалифицировавшегося в представителя ряда иностранных ювелирных фирм. — Б. С.), только подозреваемого в шпионаже, на нашей территории, находящегося под наблюдением, не являлось опасным для государства. А быстрота и выгода реализации бриллиантов это оправдывало». На вопрос следователя, были ли операции с бриллиантами секретными, Генрих Григорьевич ответил утвердительно, но с очень любопытной оговоркой: «Для иностранного государства — да, если б они знали, что продает Советское государство. Атак как они знали, что Лурье является частным лицом и Френкель тоже частное лицо, то секретность отпадала». В обстановке секретности и бесконтрольности значительная часть казенных бриллиантов и валюты наверняка прилипала к рукам Лурье, Френкеля и Ягоды. Однако, как мы помним, в протоколе обыска у Генриха Григорьевича не значилось ни валюты, ни драгоценностей — только советские дензнаки. Это наводит на мысль, что Ягода где-то устроил тайник. Но где? Может быть, у секретаря НКВД и своего личного секретаря Павла Петровича Буланова, расстрелянного вместе с шефом по делу «правотроцкистского блока»? На допросе 13 мая 1937 года Генрих Григорьевич признался, что у Буланова хранился «нелегальный валютный фонд, который был мною создан в целях финансирования моей контрреволюционной деятельности, в целях «покупки» нужных мне людей». Вполне вероятно, что вместе с валютой у Буланова были спрятаны и бриллианты. Неизвестно, выдал ли он следователям ценности, но даже если выдал, это не спасло его от пули. Однако вряд ли все свои средства Генрих Григорьевич решил передать на хранение бывшему секретарю. Он мог спрятать клад на одной из тех дач, которые в апреле 1937-го не обыскивали, поскольку после ухода из НКВД Ягода там больше не жил. Например, на даче в Гильтищеве под Москвой, на Ленинградском шоссе, куда он любил ездить вместе с Тимошей. Личная повариха Ягоды Агафья Сергеевна Каменская показала: «Ягода приезжал в Гильтищево обычно днем, оставался часа на 2. С ним всегда бывала Надежда Алексеевна, молодая красивая женщина». А может быть, у нее-то Ягода и хранил свои сокровища? Или у какой-то другой, неизвестной нам любовницы? Выдавать чекистам валюту с драгоценностями Генриху Григорьевичу было не с руки — этот шаг наверняка расценили бы не как стремление внести свой вклад в строительство социализма в СССР, а как лишнее доказательство хищения государственного имущества в особо крупных размерах. Так что клад первого наркома внутренних дел,вполне возможно, еще ждет своего графа Монте-Кристо… Существует предание, что признаться в мнимых преступлениях Ягоду вынудили с помощью несколько необычного приема. Агнесса Ивановна, вдова видного чекиста С. Н. Миронова-Короля, процитировала рассказ Фриновского, заместителя Ежова: Ягода не соглашался дать нужные показания. Об этом доложили Сталину. Сталин спросил: «А кто его допрашивает?» Ему сказали. Сталин усмехнулся, погасил трубку, прищурил глаза: «А вы, — говорит, — поручите это Евдокимову» (тому самому Евдокимову, которого в 1934 году Генрих Григорьевич выжил с поста начальника секретно-политического отдела ОГПУ. — Б. С.). Евдокимов тогда уже никакого отношения к допросам не имел… Сталин его сделал членом ЦК, первым секретарем Ростовского обкома партии. Его разыскали, вызвали. Он выпил стакан водки, сел за стол, засучил рукава, растопырил локти — дядька здоровый, кулачища во! Ввели Ягоду — руки за спину, штаны сваливаются (пуговицы, разумеется, спороты). Когда Ягода вошел и увидел Евдокимова за столом, он отпрянул, понял все. А Евдокимов: «Ну, международный шпион, не признаешься?» — и в ухо ему… Сталин очень потешался, когда ему это рассказали, смехом так и залился…» Даже если это всего лишь легенда, она хорошо передает дух времени. Кстати сказать, Е. Г. Евдокимов был другом нового наркома Ежова, и идея использовать его против Ягоды могла принадлежать самому Николаю Ивановичу. Но пыточное усердие не спасло Ефима Георгиевича. Он был арестован накануне падения Ежова, а расстрелян всего на два года позже Ягоды. Но вернемся к вопросу о связях Ягоды с правыми. На первом допросе он заявил, что в начале 30-х годов, уже после разгрома группировки Бухарина, якобы сказал Рыкову: «Вы действуйте. Я вас тревожить не буду. Но если где-нибудь прорвется, если я вынужден буду пойти на репрессии, я буду стараться дела по правым сводить к локальным группам, не буду вскрывать организации в целом, тем более не буду трогать центр организации». Этот свой поступок Генрих Григорьевич объяснил следующим образом: «Мое положение в ОГПУ в то время до некоторой степени пошатнулось. Это было в период работы в ОГПУ Акулова. Я был обижен и искал помощи у правых». Летом 1931 года Ягода был приглашен на дачу Томского в Болшеве. Там будто бы присутствовал Александр Петрович Смирнов, член Президиума ВСНХ и один из ближайших сторонников Бухарина, который уверял в необходимости блока правых с троцкистами и зиновьевцами. Томский же, по словам Ягоды, «начал свой разговор с общей оценки положения в стране, говорил о политике ЦК, ведущей страну к гибели, говорил, что мы, правые, не имеем никакого права оставаться в роли простых наблюдателей, что момент требует от нас активных действий». Вот тут уже Ягода говорил под диктовку следователей. Ведь Иван Алексеевич Акулов работал в ОГПУ с конца июля 1931 по сентябрь 1932 года, когда стал первым зампредом, оттеснив Ягоду на положение второго. Подобное понижение Генриха Григорьевича, возможно, и огорчило, однако ему хватило бы здравого смысла не обращаться за помощью к Рыкову И другим сторонникам Бухарина, уже выведенным из Политбюро и смещенным со всех сколько-нибудь значительных постов. Тем более что вскоре выяснилось: Акулов оказался столь же декоративной фигурой, как и Менжинский, в делах ОГПУ не разбирался и оставил реальный контроль за деятельностью органов за Ягодой. Что же касается его готовности помогать подпольному «правотроцкистскому блоку», то это вообще из области чистой фантазии следователей. Не такой человек был Генрих Григорьевич, чтобы отдавать свою жизнь за идею. Он хотел просто хорошо жить, ни в чем себе не отказывая, и положения фактического руководителя ОГПУ для этого было вполне достаточно. Но Сталин собирался осудить Бухарина, Рыкова и других лидеров правых на открытом процессе, где наверняка всплыл бы вопрос об их связях с Ягодой в конце 20-х годов. Генриха Григорьевича пришлось бы смещать с поста шефа НКВД и переводить в какой-нибудь второстепенный наркомат. А знал он слишком много. Вот Сталин и решил избавиться от Ягоды самым элегантным образом, сделав его одним из фигурантов процесса «правотроцкистского блока». По ходу следствия Ягода довольно быстро признал участие в заговоре с целью государственного переворота. Сперва, в начале 30-х, будто бы готовился только «дворцовый переворот», без его непосредственного участия, так как «охрана Кремля тогда была не в моих руках». Позднее по заданию правых, через главу армейских чекистов Марка Исаевича Гая, он якобы установил связь с группой Тухачевского, чтобы организовать военный переворот. К тому времени охрана Кремля уже подчинялась Ягоде, но почему-то к планам «дворцового переворота» заговорщики возвращаться не стали. Признался Генрих Григорьевич и в убийствах Горького, его сына Максима, Менжинского и Куйбышева. Он также заявил, что знал о планах убийства Кирова, но отрицал свое участие в его организации. Ягоду заставили признаться еще и в том, что он хотел убить Ежова, причем довольно экзотическим способом — опрыскав ядом его кабинет, прилегающие к нему комнаты, дорожки, ковры и портьеры». Вот шпионаж Генрих Григорьевич отрицал, гордо заявив на суде: «Если бы я был шпионом, то десятки стран мира могли бы закрыть свои разведки». Но на приговор это никак не повлияло. За признания Ягоде обещали жизнь, однако в благополучный исход он в глубине души не верил. Внутрикамерной «наседкой» к Ягоде подсадили его и Авербаха близкого друга драматурга Владимира Михайловича Киршона. В январе 1938 года Киршон докладывал начальнику 9-го отделения 4-го (секретно-политического) отдела Главного управления государственной безопасности майору Александру Спиридоновичу Журбенко (его расстреляют 26 февраля 1940 года, уже при Берии): «Ягода встретил меня фразой: «О деле говорить с Вами не будем, я дал слово комкору (М. П. Фриновскому, курировавшему следствие по «правотроцкистскому блоку». — Б. С.) на эти темы с Вами не говорить». Он начал меня подробно расспрашивать о своей жене, о Надежде Алексеевне Пешковой, о том, что о нем писали и говорят в городе. Затем Ягода заявил мне: «Я знаю, что Вас ко мне подсадили, а иначе бы не посадили, не сомневаюсь, что все, что я Вам скажу или сказал бы, будет передано. А то, что Вы мне будете говорить, будет Вам подсказано. А, кроме того, наш разговор записывают в тетрадку у дверей те, кто Вас подослал» (как ни цеплялся за жизнь Владимир Михайлович, малопочтенная роль стукача его не спасла. 28 июля 1938 года Киршона расстреляли. — Б. С.). Поэтому он говорил со мной мало, преимущественно о личном. Я ругал его и говорил, что ведь он сам просил, чтобы меня посадили. «Я знаю, — говорит он, — что Вы отказываетесь. Я хотел просто расспросить Вас об Иде, Тимоше, ребенке (восьмилетием сыне Генрихе. — Б. С.), родных и посмотреть на знакомое лицо перед смертью». О смерти Ягода говорит постоянно. Все время тоскует, что ему один путь в подвал (значит, Агабеков не врал, когда описывал, как на Лубянке приводят в исполнение смертные приговоры. — Б. С.), что 25 января его расстреляют, и говорит, что никому не верит, что останется жив (на этот раз чекистское чутье не подвело Генриха Григорьевича. — Б. С.). «Если бы я был уверен, что останусь жив, я бы еще взял на себя бы всенародно заявить, что я убийца Макса и Горького». «Мне невыносимо тяжело заявить это перед всеми исторически и не менее тяжело перед Тимошей». «На процессе, — говорит Ягода, — я, наверное, буду рыдать, что еще хуже, чем если б я от всего отказался». Однажды, в полубредовом состоянии, он заявил: «Если все равно умирать, так лучше заявить на процессе, что не убивал, нет сил признаться в этом открыто». И потом добавил: «Но это значит объединить вокруг себя контрреволюцию — это невозможно». Говоря о Тимоше, Ягода упомянул однажды о том, что ей были переданы 15 тысяч долларов. Причем он до того изолгался, что стал уверять меня, что деньги эти без его ведома отправил на квартиру Пешковой Буланов, что, конечно, абсолютно абсурдно (здесь можно усмотреть косвенное доказательство того, что бриллианты и валюту Ягода хранил у Тимоши; ей одной из немногих героинь этого очерка посчастливилось прожить долгую жизнь и умереть своей смертью в 1971 году — Б. С.). Ягода все время говорит, что его обманывают, обещав свидание с женой, значит, обманывают и насчет расстрела. «А если б я увиделся с Идой, сказал бы несколько слов насчет сынка, я бы на процессе чувствовал иначе, все бы перенес легче». Ягода часто говорит о том, как хорошо было бы умереть до процесса. Речь идет не о самоубийстве, а о болезни. Ягода убежден, что он психически болен. Плачет он много раз в день, часто говорит, что задыхается, хочет кричать, вообще раскис и опустился позорно» (сам Владимир Михайлович еще надеялся на лучшее и потому держался). Как раз в «полубредовом состоянии» Ягода и говорил правду: он никого не убивал, но боялся сказать об этом открыто. Боялся, что, если заявит на суде о ложности выдвинутых против него обвинений, «сыграет на руку контрреволюции», тогда-то уж точно расстреляют. А может, еще и помучают перед смертью. Волю Генриха Григорьевича парализовал страх перед возможной будущей физической болью. Помните Маяковского:
ЕЖОВ

Темное прошлое
Оказывается, установление места и времени рождения Ежова — настоящая детективная задача, до конца вряд ли разрешимая. Будущий «железный нарком» родился, как он обычно писал в анкетах и автобиографиях после Октябрьской революции, 19 апреля (1 мая) 1895 года. Однако никаких метрик или церковных записей о появлении его на свет до сих пор не найдено. Возможно, повезет будущим исследователям. Имеющиеся же более или менее достоверные данные позволяют утверждать, что год своего рождения Николай Иванович сознательно исказил, а день — 1 мая — почти наверняка придумал. Очень ему хотелось связать это событие с известным пролетарским праздником. Местом рождения Ежов неизменно указывал Петербург, а национальность в 1921 году в анкете участника областной партконференции в Казани определил как «великоросс». При этом Николай Иванович писал, что в той или иной степени владеет польским и литовским языками. А в 1939 году, уже после ареста, когда его как следует допросили, поведал страшную тайну — мать, оказывается, была литовкой. Правда, литовского шпиона из Ежова тогда делать не стали. Нашли для бывшего главы советских карателей страну посолиднее. Скорее всего, Ежов родился в пределах Царства Польского. А тамошние архивы очень сильно пострадали в ходе двух мировых войн. К тому же, повторю, точное место да и год рождения Николая Ивановича мы не знаем, так что, скорее всего, никакие архивные поиски не принесут успеха и обстоятельства появления на свет «железного наркома» навсегда останутся тайной. Насчет батюшки Николай Иванович даже на следствии не раскололся, поэтому о нем мы тоже ничего достоверно не знаем. В автобиографии 1921 года Николай Иванович произвел его в питерские металлисты-литейщики, но больше никогда и нигде о профессии отца не упоминал. Можно заподозрить, что родитель будущего наркома внутренних дел был из обрусевших поляков, ведь Ежов — нетипичная русская фамилия. Она вполне может быть производной, например, от польской фамилии «Ежевский». По воспоминаниям одной из сестер Ежова, детские годы семья провела в имении в Сувалкской губернии недалеко от Мариамполя. Елена Скрябина, дочь депутата Государственной думы, после Второй мировой войны оказавшаяся на Западе, писала в своих мемуарах: «От одной знакомой, родители которой были домовладельцами в старом Петербурге, узнали, что одно время у них работал дворником отец Ежова. Сын, мальчишка-подросток в то время, отличался отвратительным характером, наводящим ужас на детей этого дома. Любимым занятием его было истязать животных и гоняться за малолетними детишками, чтобы причинить им какой-либо вред. Дети, и маленькие, и постарше, бросались врассыпную при его появлении. Та же знакомая уверяла меня, что он даже был подвергнут психиатрическому лечению». Вполне возможно, что перед нами всего лишь легенда-«ужастик», родившаяся уже после взлета и падения «железного наркома». Во всяком случае, дальше мы познакомимся со свидетельствами людей, пострадавших в «ежовщину», но все равно отзывавшихся о Николае Ивановиче как о милейшем человеке. А вот связь семейства Ежовых с одним из петербургских доходных домов вряд ли выдумана. Хотя отец Николая Ивановича совсем не обязательно работал именно дворником. Он мог быть и управляющим дома, и просто одним из жильцов или, например, владельцем располагавшегося в доме питейного заведения. В армию Ежов, если судить по анкете 1921 года, был призван в 1913 году. Однако новобранцами тогда становились по достижении 20–21 года, а это значит, что Николай Иванович родился, скорее всего, в 1892 или 1893 году. В той же анкете будущий нарком указал, что, служа в царской армии, он около года находился в Вышнем Волочке, около двух лет в Москве и около двух лет в Витебске. С учетом того, что демобилизовался Николай Иванович в начале 1918 года, получается, что призван он был в начале 1913 года (а на свет появился все-таки в 1892-м). В «Личной карте коммуниста», предназначавшейся для мобилизационной части Политуправления Красной Армии и заполненной Ежовым 25 марта 1921 года, он написал, что в царской армии служил только «два с половиной года в Тыловых Артиллерийских мастерских № 5 Северного фронта». В этом случае в Витебск Ежов, скорее всего, прибыл во второй половине 1915 года. В анкете 1919 года он называет свою должность (или звание?) в 5-х артмастерских — «старший мастеровой». В некоторых других анкетах Николай Иванович перечислил и другие места своей службы — 76-й пехотный запасной полк и 172-й пехотный Лидский полк (вероятно, эти части располагались в Вышнем Волочке и Москве), а также 3-й запасной пехотный полк, дислоцировавшийся в Новом Петергофе. Есть сведения, что в 1914 или 1915 году Ежов был ранен и получил шестимесячный отпуск. Не исключено, что это произошло в районе города Тильзит в Восточной Пруссии, который Ежов указал в анкете 1921 года как единственное место за пределами Российской империи, где ему довелось побывать. К Тильзиту русские войска подступали только на короткое время в августе — сентябре 1914 года, но сам город не занимали. Вероятно, тогда Ежов и был ранен. После госпиталя он, возможно, попал в запасной полк в Новом Петергофе, а уже оттуда — в 5-е артмастерские в Витебске. Зачем же понадобилось Ежову скрывать подлинный год рождения и уменьшать свой возраст на два-три года? Думаю, это связано с другим вопросом: почему он снизил свой образовательный ценз? Во всех анкетах Николай Иванович указывал, что образование у него низшее, не превышающее одного класса городского училища. Трудовую же деятельность он начал в 1906 году, когда будто бы поступил учеником в слесарно-механическую мастерскую в Петербурге. Если принять годом рождения 1895-й, то получается, что Ежов стал работать в 11 лет и мог окончить не больше одного класса городского училища. Но если исходить из 1892 года, то 14-летний подросток успел бы одолеть полный курс городского училища. А такой сравнительно высокий уровень образования заставлял подозревать, что родители у Ежова отнюдь не пролетарского происхождения, которым так любил козырять Николай Иванович. Ежов утверждал, что в слесарной мастерской не задержался и скоро стал учеником портного. В 1906 году будущий нарком в поисках работы отправился в Польшу и Литву. Чем он там занимался, неясно. В 1909 году Николай Иванович будто бы поступил на завод Тильманса в Ковно, а в 1914 году вернулся в Петербург, где работал сначала на кроватной фабрике, а потом на Путиловском заводе, откуда якобы и отправился в 1915 году в армию (по одной из версий). Николай Иванович утверждал, что на Путиловский завод пришел учеником еще в 1911 году. Но документами его работа на каких-либо заводах и фабриках не подтверждается. Наиболее правдоподобным кажется объяснение, что родители Ежова были людьми относительно состоятельными и обеспечили сыну достаточно высокий уровень образования — в объеме если не гимназии, то хотя бы полного курса городского или реального училища. Тогда Николай Иванович мог поступить в армию — страшно сказать! — вольноопределяющимся. А такой факт после 1917 года афишировать не стоило. Вольноопределяющиеся чаще всего были выходцами из состоятельных семей и не пользовались доверием со стороны большевиков. По всей вероятности, рабочим Ежов не был, а Путиловский завод выбрал из-за его славных революционных традиций и… огромного штата рабочих — уличить Николая Ивановича в том, что он в их рядах не состоял, было очень трудно. Кем же мог быть отец Николая Ивановича Ежова? В телефонном справочнике за 1895 год «Весь Петербург» значился только один Ежов по имени Иван. Это Иван Васильевич Ежов, владелец питейного заведения, который проживал в доме № 14 по улице Шестой Роты. Но далеко не факт, что именно этот человек являлся отцом будущего наркома внутренних дел, равно как и то, что Николай Иванович родился в столице Российской империи. Его отец вполне мог быть мелким чиновником, лесничим или управляющим имения в Сувалкской или других губерниях Привислинского края или в Литве. Мог быть и хозяином небольшой мастерской. Возможно, когда Николай Иванович говорил о том, что состоял учеником в слесарной мастерской или учеником портного, он в действительности имел в виду мастерскую отца. Не подлежит сомнению, что в момент революции родители Ежова жили уже в Петрограде — об этом сказал сам Николай Иванович в анкете 1919 года. Однако нельзя с уверенностью утверждать, что они жили там и перед Первой мировой войной. Ведь не исключено, что Ежовы эвакуировались в Петроград после того, как немецкие и австрийские войска заняли Литву и Польшу. В этом случае нужда действительно могла заставить Ежова-старшего пойти работать на Путиловский завод, не обязательно рабочим, а мастером или конторщиком.Ежов в революции
Вот как о революционной деятельности Ежова написал И. И. Минц в первом издании своей книги «Великая Октябрьская социалистическая революция в СССР» (1937): «В Витебске был создан Военно-Революционный Комитет. Крепостью большевиков в Витебске были 5-е артиллерийские мастерские Северного фронта. Здесь работал путиловский рабочий Н. И. Ежов, уволенный с завода в числе нескольких сот путиловцев за борьбу против империалистической войны: Ежов был послан в армию в запасной батальон. Путиловцы в батальоне устроили забастовку — не вышли на занятия и уговорили остальных солдат остаться в казарме. Батальон немедленно расформировали, а зачинщиков забастовки вместе с Ежовым бросили в военно-каторжные тюрьмы, штрафной батальон. Боясь отправки на фронт революционно настроенных солдат, офицеры перевели их в нестроевую команду. Среди переведенных оказалось человек 30 путиловцев. Они организовали выступление солдат против офицеров, едва не закончившееся убийством начальника команды. В 1916 году в команду приехал начальник артиллерийских мастерских. Ему нужны были токари и слесари. Вместе с другими рабочими взяли Ежова. Живой, порывистый, он с самого начала революции 1917 года с головой ушел в организаторскую работу. Ежов создал Красную гвардию, сам подбирал участников, сам обучал, доставал оружие. Витебский Военно-Революционный комитет после восстания в Петрограде не пропустил ни одного отряда на помощь Временному правительству». Разумеется, из последующих изданий своего труда Исаак Израилевич этот панегирик изъял. Интересно, что из сообщенного здесь правда? В архиве Ежова сохранилась запись воспоминаний витебского большевика Дризула, сделанная Минцем 28 сентября 1936 года. В тот момент Ежов был только-только назначен наркомом внутренних дел, об этом еще не успели объявить в газетах (но Минц уже знал и решил подсуетиться). В стране пока не возник культ Ежова, так что мемуарист сохранял относительную объективность, хотя, конечно, понимал: будущий академик хочет слышать о председателе Комиссии партийного контроля только хорошее. Дризул знал Ежова по Витебску, и вот что он рассказал: «Я жил в Витебске с 1915 года, работал в 5-х артиллерийских мастерских. Был мобилизован (в неправленой стенограмме: «как неблагонадежный». — Б. С.), отправлен в городок и из городка в 5-е артиллерийские мастерские в конце 1915 года. Я не помню, Николай Иванович приехал раньше меня или позже. В это время в мастерских было до 1000 человек высококвалифицированных рабочих. Одним из самых крупных цехов был слесарно-сборочный цех. Там работал юркий, живой парень — Коля (Н. И. Ежов), всеми любимый, острый в беседах с остальными мастеровыми. Я работал в колесном цехе. Во главе мастерских стоял Грамматчиков — полковник. Не он в этих мастерских был самым злейшим человеком. Там была такая собака поручик Турбин (однофамилец главных героев пьесы Михаила Булгакова. — Б. С.). Не помню фамилии одного капитана — ох был гад! Весь этот режим Николаевский так и давил, и под давлением этого режима уже к зиме 1916 года у нас в Витебске были интересные события… Николай Иванович не только с момента Февральской революции, но и еще до Февральской революции был такой живой, острый и не лишенный такой специфичности. Вот есть такие самородки, которые стоят всегда во главе. Вот беседа какая-нибудь на заводе бывает, он уже во главе. Мы сейчас это называем оперативностью… Живой, юркий такой. Мы иногда смотрим: черт его знает, через ноги он, что ли, проскочил, он уже впереди. Он тогда еще выступать не мог, скажет какое-нибудь слово, но с душой и со всей энергией. Думаешь, что у него все горит, вот-вот разорвется, но в то же время последовательно. Если мне память не изменяет, то, в то время как мы все, большевики, занялись организацией власти, он с места как-то сразу ушел в Красную гвардию. Он один из основоположников Красной гвардии. Он все — «даешь!». Маленького роста, обвешанный патронами, лентами, так и ходил. Одним из очагов Красной гвардии были наши мастерские. Я помню, когда стали в солдатском комитете работать, работали в секции юридической совдепа, как-то получилось, что все внимание обращено было на организацию власти, а он Красной гвардией занимался и был душой. Сама жизнь его выперла. Если он до Февраля не числился еще большевиком, так это была только формальная сторона, а по существу он был большевиком до Февральской революции. Он по характеру такой был. Он сам обучал красногвардейцев, был их душой». После Октябрьской революции красногвардейцы, по словам Дризула, задержали на станции Витебск эшелоны с войсками, которые А. Ф. Керенский пытался двинуть на Петроград. При этом он, правда, Ежова прямо не упоминает, зато еще раз повторяет, что и после победы большевиков Николай Иванович выдающимся оратором так и не стал: «Ежов мало выступал. Он два-три слова скажет… Он был кропотливым оратором, эта его черта до последнего дня осталась… Он не любил выступать». Самый яркий эпизод революционных событий в Витебске, по воспоминаниям Дризула, — разоружение частей польского корпуса генерала Довбур-Мусницкого в самом конце 1917 года: «Получили директиву из Питера. Есть такая станция Кринки, километров в 30 от Витебска. Там, говорят, польские легионеры; около 10 000 и разоружить их во что бы то ни стало; что они двигаются на Питер. Обсуждаем в революционном комитете, что делать, сколько у нас сил есть. Посчитали, что у нас тогда… было… около 3000. Как же быть? — 3 тысячи, а там 10 000 легионеров, и они очень квалифицированные вояки, вооруженные. В нашем распоряжении… была такая полька из левицы ППС (левой фракции Партии польских социалистов. — Б. С.). Она не порвала еще с ППС, но симпатизировала большевикам. Мы решили эту польку использовать, придумали хитрость. Я думаю, Николай Иванович Ежов участвовал в этом деле… Мы *нашли эту польку и с ней договорились. Она была предана делу революции, красивая, молодая, полная такая, исключительно красивого телосложения… Революционный комитет выделил делегацию, поставил во главе Крылова (коменданта Витебска. — Б. С.), эта полька и человек 5–6. Организовали так: когда делегация пойдет к Кринкам, то мы посылаем из Витебска эшелон за эшелоном, порожняком, но двери вагонов раскроем и поставим красноармейцев. Наша делегация подъехала к полякам, вышли. Полька держит в руках красное знамя. Решили, что нужно играть на человеческих чувствах. Поручили этой польке только приблизиться к полякам, заговорить по-польски и сказать: «Вот я полька, родная ваша сестра… Предложение большевистского революционного комитета вести с вами переговоры не увенчалось успехом, так вот я пришла, ваша сестра… Я от вас ничего не требую, только прошу допустить делегацию революционного комитета большевиков к переговорам. Если вы на это не согласны, стреляйте в меня». Она раскачивает знамя, открывает грудь, смело шагает с делегацией к полякам. Поляки начали переговоры. В это время подскакивает один вестовой верхом на лошади и докладывает: «Товарищ командир, прибыл эшелон пехоты, где прикажете расположиться?» К этому времени идет эшелон с красноармейцами в дверях. Крылов, такой суровый, говорит: «Расположиться там-то». Через минуту второй эшелон. Вестовой докладывает — прибыла кавалерия. Где расположиться? Через минуту третий — артиллерия. Затем пулеметчики. Когда поляки посчитали по эшелонам, что получился перевес, в это время делегация заявляет: «В вашем распоряжении 10 минут, или вы сдаетесь, или мы открываем огонь. До свидания». Как только делегация ушла, так наши красногвардейцы разоружили их, без единого выстрела они сдались…» Итак, слова Дризула о том, что он попал в артиллерийские мастерские как неблагонадежный, Минц перенес на Ежова и сделал из Николая Ивановича чуть ли не предводителя солдатского бунта. Дризул говорил о ненависти рабочих к их начальнику и некоторым другим офицерам. Историк же придумал мифическую попытку солдат, среди которых был и Ежов, расправиться с начальником некой «нестроевой команды». Между тем Николай Иванович действительно принимал активное участие в формировании витебской Красной гвардии. В одной из анкет 1919 года Ежов указал, что был помощником комиссара Орловской железной дороги на станции Витебск «во время Октябрьского переворота». В этой должности ему наверняка пришлось создавать красногвардейские отряды и останавливать прибывающие на станцию эшелоны с войсками. А как человек, знающий польский язык, Ежов, скорее всего, входил в делегацию, которая встречалась с польскими легионерами. Точную дату вступления в партию большевиков — 5/18 мая 1917 года — Ежов указал в другой анкете 1919 года. Рекомендовали его Рабкин и Шифрис.А. Л. Шиф-рис, которого Дризул упоминает как одного из студенческих вожаков в Витебске («очень интересный парень… горячий, полный энтузиазма студент, один из лучших наших ораторов»), был расстрелян в 1938 году, будучи армейским комиссаром 2-го ранга. Кем был Рабкин и отблагодарил ли его Николай Иванович должным образом за рекомендацию, не знаю. Из Витебска Ежов уехал в январе 1918 года. Позже он обнаруживается в Вышнем Волочке Тверской губернии, где в августе 1918 года становится членом завкома (коллегии) стекольного завода Болотина. В личной карте коммуниста за 1921 год Ежов указал также, что в 1918 году был председателем и секретарем профсоюза стекольщиков. Очевидно, это было в Вышнем Волочке и уже после того, как он стал членом завкома. Вероятно, еще во время военной службы в этом городе Николай Иванович завел какие-то знакомства и попросил направить его именно туда. В апреле 1919 года Ежов вступил в Красную Армию. Он служил в батальоне особого назначения в Зубцове, в мае 1919 года оказался в Саратове, где был депутатом местного совдепа и секретарем партячейки военного городка, а в августе поступил здесь же на 2-ю базу радиотелеграфных формирований, которая вскоре переместилась в Казань. Уже 1 сентября Николай Иванович стал переписчиком при комиссаре управления базы. На такую должность вряд ли назначили бы человека с начальным образованием (хотя Ежов скромно писал в анкетах: «грамотен (самоучка!)»). 18 октября последовало повышение — Николая Ивановича сделали комиссаром школы, действовавшей при базе радиотелеграфных формирований. В январе 1920 года с Ежовым случилась первая в советское время крупная неприятность. Его и начальника школы бывшего подпоручика С. Я. Магнушевского арестовали за то, что они принимали на учебу дезертиров из Красной Армии. На суде, однако, выяснилось, что руководство школы действовало без злого умысла, и, когда Ежов узнал, что курсанты являются дезертирами, он немедленно отослал их в губернский комитет по дезертирам. В результате Магнушевский получил два года тюрьмы с отсрочкой наказания на три года, а Ежов отделался строгим выговором с предупреждением. На карьере Николая Ивановича этот эпизод никак не отразился. В январе 1921 года последовало новое повышение: Ежова назначили комиссаром 2-й базы радиотелеграфных формирований. Но в этой должности он пробыл недолго — лишь до апреля. В Казани Николай Иванович не ограничивался военной работой. Он был депутатом Казанского Совета рабочих и солдатских депутатов трех созывов и заместителем заведующего агитационно-пропагандистским отделом Кремлевского района Казани. В апреле 1921 года, когда Ежова назначили заведующим этим отделом, он покинул военную службу. К тому времени наш герой женился на Антонине Алексеевне Титовой, дочери сельского портного. Она родилась в 1897 году в селе Кукмор Казанской губернии. В 1917 году Антонина была студенткой естественного отделения физико-математического факультета Казанского университета, но образование завершить не успела, окунулась в революцию и в 1918 году вступила в партию большевиков. Как и муж, она стала партаппаратчицей, но рангом пониже — работала техническим секретарем одного из райкомов Казани. Аппаратная работа — вот к чему Николай Иванович чувствовал настоящее призвание. Он был выдающимся бюрократом. Знавшие Ежова по Казани запомнили его исполнительность и безотказность в выполнении любых поручений начальства. Николая Ивановича заметили и начали быстро продвигать вверх по партийной вертикали. В июле 1921-го он стал заведующим агитпропом и заместителем ответственного секретаря Татарского обкома. Но в январе 1922 года Ежов заболел и уехал лечиться в Москву. Здесь в феврале его назначили ответственным секретарем Марийского обкома. Как видно, решили: человек уже работал в Поволжье, в национальном регионе, так что и в проблемах Марийской автономии разберется. А проблемы были — парторганизацию там сотрясали распри между русскими и марийцами. Ежову не удалось погасить конфликт. 15 марта он прибыл в Красно-Кокшайск (ныне Йошкар-Ола), а уже 14 сентября был отозван в отпуск и более в округ не вернулся. Однако неудачу в деле примирения русских и марийских коммунистов ему в вину не поставили. 1 марта 1923 года Оргбюро ЦК рекомендовало Николая Ивановича Ежова ответственным секретарем Семипалатинского губкома. А к октябрю 1925 года он дорос до заместителя ответственного секретаря Казахстанского крайкома. Маленького роста, всего полтора метра, с невыразительной внешностью, Николай Иванович оказался неплохим организатором. Главное же — он всегда держался генеральной сталинской линии и беспощадно боролся со всеми оппозициями. В 1927 году Ежова взяли на работу в Москву в организационно-распределительный отдел ЦК. Коммунисты Казахстана сохранили о нем самую добрую память. Писатель Юрий Домбровский, прошедший ГУЛАГ и ссылки, встречался в Казахстане с людьми, хорошо знавшими Ежова. Все они отзывались о Николае Ивановиче исключительно тепло. Юрий Иосифович вспоминал: «Три моих следствия из четырех проходили в Алма-Ате… Многие из моих современников, особенно партийцев, с Ежовым сталкивались по работе или лично. Так вот, не было ни одного, который сказал бы о нем плохо. Это был отзывчивый, гуманный, мягкий, тактичный человек… Любое неприятное личное дело он обязательно старался решить келейно, спустить на тормозах… Это общий отзыв. Так неужели все лгали? Ведь разговаривали мы уже после падения «кровавого карлика». Многие его так и называли — «кровавый карлик». А близко знавший Ежова ссыльный казахский учитель Ажгиреев говорил вдове Бухарина А. М. Лариной: «Что с ним случилось, Анна Михайловна? Говорят, он уже не человек, а зверь! Я дважды писал ему о своей невиновности — ответа нет. А когда-то он отзывался и на любую малозначительную просьбу, всегда чем мог помогал». Но меньше чем за десять лет «добрый человек» превратился в бездушного палача — исполнителя сталинских предначертаний.Усидчивый бюрократ
Кто из партийных руководителей двигал Ежова наверх, неясно до сих пор. Это мог быть Иван Михайлович Москвин, возглавлявший орграспредотдел ЦК (его помощником Ежов стал в июле 1927 года, а уже в ноябре — заместителем), Лазарь Моисеевич Каганович, секретарь ЦК, ведавший организационными вопросами, или даже сам Сталин. Боюсь, эту загадку мы не разгадаем никогда. Можно с уверенностью сказать лишь одно — заместителем заведующего орграспредотделом ЦК Ежова не назначили бы без прямого одобрения или по инициативе генерального секретаря. Своему новому начальнику Николай Иванович очень понравился. Москвин говорил о Ежове: «Я не знаю более идеального работника… Вернее, не работника, а исполнителя. Поручив ему что-нибудь, можно не проверять и быть уверенным: он все сделает. У Ежова есть только один, правда, существенный недостаток: не умеет останавливаться… И иногда приходилось следить за ним, чтобы вовремя остановился». Перечисленные качества Ежова Сталину особенно пригодились в эпоху Большого террора. Удалось и вовремя остановить Николая Ивановича — с помощью Берии. В 1929 году Ежов чуть было не вернулся в Казань. Секретарь Татарского обкома Мендель Маркович Хатаевич, уставший разбирать межнациональные и клановые дрязги, написал в ЦК: «Есть у вас в ЦК крепкий парень, Николай Ежов, он наведет порядок у татар, а я устал и прошу направить меня на другое место». Уже готовы были документы о назначении Ежова главой коммунистов Татарии, но тут подоспела пора сплошной коллективизации, и в декабре 1929-го Николая Ивановича бросили на укрепление Наркомата земледелия — заместителем наркома. Немного забегая вперед, скажу, что в Казани Ежов все-таки навел порядок, да еще какой! 28 сентября 1938 года, уже будучи наркомом внутренних дел, он издал приказ «О результатах проверки работы рабоче-крестьянской милиции Татарской АССР». Там отмечалось: «Хулиганы-поножовщики в Казани настолько распоясались, что передвижение по городу граждан с наступлением вечера становится опасным. Ряд мест общественного пользования, в частности Ленинский сад, улица Баумана и другие, находятся во власти хулиганов-бандитов… Вместо ареста хулиганов практиковалось наложение штрафов, но даже штрафы не взыскивались… Безнаказанность преступников порождала политический бандитизм (конечно, политический, раз во власти хулиганов оказались улицы и сады со столь революционными названиями! — Б. С.)… Руководство милиции создало в аппарате полную безответственность и безнаказанность… Важнейшие участки работы милиции находятся в состоянии развала». Судьба наркома внутренних дел Татарии капитана госбезопасности Василия Ивановича Михайлова была предрешена. Но арестовали его в январе 1939 года — уже при Берии. А расстреляли 2 февраля 1940-го — всего за два дня до казни Ежова. Не уцелели в кровавых чистках 1937–1938 годов ни Москвин, ни Хатаевич. Но наивно думать, что их вывели в расход по инициативе «крепкого парня Николая Ежова». Старые большевики, вроде Ивана Михайловича и Менделя Марковича, занимавшие номенклатурные посты такого уровня и не входившие в узкий круг ближайших сторонников Сталина, были обречены. И судьбу их решал, конечно, генеральный секретарь, а не нарком внутренних дел. С декабря 1929 по ноябрь 1930 года, в самый разгар раскулачивания, Ежов — заместитель наркома земледелия. В это время сотни тысяч крестьянских семей выселялись из родных мест. Сотни и тысячи крестьян, с оружием в руках защищавшие свою землю, объявлялись бандитами и расстреливались без суда и следствия. Николай Иванович получает хороший опыт, который очень пригодится ему на посту главы НКВД. Видно, Ежов снова проявил себя ревностным исполнителем, ибо после Наркомата земледелия Сталин сразу же сделал его заведующим распределительным отделом ЦК, через который проходили все ответственные назначения. В 1933 году Николая Ивановича ввели в Центральную комиссию по чистке партии. На XVII партсъезде в 1934-м он уже член Оргбюро ЦК, заместитель председателя КПК, заведующий промышленным отделом. Окружающим Ежов в те годы вовсе не казался чудовищем. Надежда Яковлевна Мандельштам описала в мемуарах, как они вместе с Осипом Эмильевичем встретились с ним на Кавказе: «Тот Ежов, с которым мы были в тридцатом году в Сухуме на правительственной даче, удивительно похож на Ежова портретов и фотографий 37-го, и особенно разительно это сходство на фото, где Сталин ему, сияющему, протягивает для пожатия руку и поздравляет с правительственной наградой (в другом месте своих воспоминаний Надежда Яковлевна приводит комментарий Осипа Мандельштама к этой фотографии: «Он сказал… «мы погибли», увидав на обложке какого-то иллюстрированного журнала, как Сталин протягивает руку Ежову. «Где это видано, — удивлялся О. М., чтобы глава государства снимался с министром тайной полиции… Посмотри, он способен на все ради Сталина». — Б. С.). Сухумский Ежов как будто тоже хромал, и мне помнится, как Подвойский, любивший морализировать на тему, что такое истинный большевик, ставил мне, лентяйке и бездельнице, в пример «нашего Ежова, который отплясывал русскую, несмотря на больную ногу и даже назло ей… Но Ежовых много, и мне не верится, что нам довелось видеть легендарного наркома на заре его короткой, но ослепительной карьеры. Нельзя же себе представить, что сидел за столом, ел и пил, перебрасывался случайными фразами и глядел на человека, продемонстрировавшего такую волю к убийству, развенчавшего не в теории, а на практике все посылки гуманизма. Сухумский Ежов был скромным и довольно приятным человеком. Он еще не свыкся с машиной и потому не считал ее своей исключительной привилегией, на которую не смеет претендовать обыкновенный человек. Мы иногда просили, чтобы он нас довез до города, и он никогда не отказывал… Дети отдыхающих работников ЦК отгоняли чумазую ребятню — детей служащих — от машин, которые принадлежали им по праву рождения от ответственных работников, и важно в них рассаживались. О. М. как-то показал Тоне, жене Ежова, и другой цекистской даме на сцену изгнания чумазых. Женщины приказали детям потесниться и пустить чумазых посидеть в машине. Они очень огорчились, что дети нарушают демократические традиции их отцов… По утрам Ежов вставал раньше всех, чтобы нарезать побольше роз для молодой литературоведки, приятельницы Багрицкого, за которой он ухаживал… Тоня Ежова… проводила дни в шезлонге на площадке против дачи. Если ее огорчало поведение мужа, она ничем этого не показывала — Сталин еще не начал укреплять семью. «Где ваш товарищ?» — спрашивала она, когда я бывала одна. В первый раз я не поняла, что она говорит об О. М. В их кругу еще сохранялись обычаи подпольных времен, и муж в первую очередь был товарищем (хотя ни Николай Иванович, ни Антонина Алексеевна в большевистском подполье никогда не участвовали, но обычаи старых большевиков, которых Ежову несколько лет спустя предстояло истребить, усвоили вполне успешно. — Б. С.). Тоня читала «Капитал» и сама себе его тихонько рассказывала… По вечерам приезжал Лакоба (вождь абхазских коммунистов, которому посчастливилось умереть своей смертью в декабре 36-го, в самом начале Большого террора; через несколько месяцев после кончины его все равно объявили «врагом народа». — Б. С.) поиграть на бильярде и поболтать с отдыхающими в столовой у рояля… Однажды Лакоба привез нам медвежонка, которого ему подарили горцы. Подвойский взял звереныша в свою комнату, а Ежов отвез его в Москву в Зоологический сад… В день смерти Маяковского мы гуляли по саду с надменным и изящным грузином… В столовой собрались отдыхающие, чтобы повеселиться. По вечерам они обычно пели песни и танцевали русскую, любимую пляску Ежова. Наш спутник сказал: «Грузинские наркомы не стали бы танцевать в день смерти грузинского национального поэта». О. М. кивнул мне: «Пойди, скажи Ежову»… Я вошла в столовую и передала слова грузина разгоряченному весельем Ежову. Танцы прекратились, но, кроме Ежова, по-моему, никто не понял почему…» Николай Иванович предстает перед нами прямо-таки душевным человеком, любившим детей и животных. А еще нравилось ему поплясать и попеть. Голос у Ежова действительно был знатный. Одна женщина, профессор консерватории, как-то сказала Николаю Ивановичу, что с его голосом, если получить вокальное образование, можно было бы петь в опере. Но вот препятствие — малый рост. Любая партнерша была бы на голову выше Николая Ивановича, поэтому профессор посоветовала будущему наркомвнуделу петь в хоре. Как знать, если бы Ежов предпочел карьеру вокалиста, появился бы у нас термин не «ежовщина», а какая-нибудь «ивановщина» или «петровщина». Другого исполнителя программы Великой чистки Сталин нашел бы без труда. Бывший секретарь одного из казахстанских обкомов, вернувшись из ГУЛАГа, вспоминал: «Хорошо пел Николай Иванович народные песни, задушевно. Особенно «Ты не вейся, черный ворон…» Любимая песня Ежова оказалась пророческой. Образ ворона задолго до прихода Николая Ивановича в НКВД ассоциировался в народе с карательным ведомством. Вспомним хотя бы журнал «Красный ворон» — орган ГПУ в булгаковской повести «Роковые яйца» или «воронок» — автомобиль для перевозки арестованных. А Маяковского, похоже, Николай Иванович действительно любил. И возможно, именно поэтому Сталин поручил Ежову заняться хлопотами по устройству музея поэта и изданию полного собрания его сочинений. Поводом послужило письмо возлюбленной Маяковского Лили Брик от 24 июля 1935 года, на котором вождь начертал историческую резолюцию: «Тов. Ежов, очень прошу вас обратить внимание на письмо Брик. Маяковский был и остается лучшим, талантливейшим поэтом нашей советской эпохи. Безразличное отношение к его памяти и произведениям — преступление. Жалобы Брик, по-моему, правильны. Свяжитесь с ней или вызовите ее в Москву Привлеките к делу Таль и Мехлиса и сделайте, пожалуйста, все, что упущено нами. Если моя помощь понадобится, я готов. Привет». Николай Иванович все исполнил как надо. Подруга Лили Брик Галина Катанян свидетельствует, что дело сдвинулось с мертвой точки после встречи Брик с Ежовым в декабре 1935-го: «По словам Лили, Ежов был сама любезность. Он предложил немедленно разработать план мероприятий, необходимых для скорейшего проведения в жизнь всего, что она считает нужным. Ей была открыта зеленая улица… Статьи и исследования, которые до того возвращались с кислыми улыбочками, лежавшие без движения годы, теперь печатались нарасхват… Так началось посмертное признание Маяковского». Конечно, главную роль в создании настоящего культа Маяковского в советской стране, когда, по словам Бориса Пастернака, «Маяковского стали вводить принудительно, как картофель при Екатерине», сыграла сталинская резолюция. Ежов же выступил вдохновенным исполнителем пожеланий вождя.Литературно-чекистский треугольник
В 1930 году, когда Надежда Мандельштам наблюдала чету Ежовых в Сухуми, первый брак Николая Ивановича уже трещал по швам. Возможно, Антонине /Алексеевне пришлась не по душе нестандартная сексуальная ориентация супруга. Позднее на следствии Ежов признался, что с 15-летнего возраста имел половые связи как с женщинами, так и с мужчинами. А в 1930 году он как раз был увлечен 26-летней Евгенией Соломоновной Хаютиной (урожденной Фигинберг), которая в ту пору была замужем вторым браком за дипломатом Александром Федоровичем Гладуном (позднее он стал директором Харьковского станко-инструментального завода). В 1931 году Ежов расстался с А. А. Титовой, чтобы соединиться с Евгенией Соломоновной. Развод спас первую жену от неизбежных в будущем репрессий. Она продолжала благополучно трудиться на ниве сельскохозяйственной науки, окончив к тому времени Тимирязевку. Скончалась Антонина Алексеевна в Москве в 1988 году персональным пенсионером в весьма почтенном возрасте — 91 год. Историю любви Николая Ивановича и его второй жены поведал на следствии Гладун, арестованный в 1939 году: «Ежов появился в нашем доме в ноябре 1927 года… С того времени Ежов стал бывать у нас почти ежедневно, иногда не только вечером, но и днем. Для лучшей конспирации наших сборищ Ионов (Ионов, Бернштейн Илья — один из руководителей Пролеткульта, позднее директор Госиздата; арестован в 1939-м, умер в лагерях в 1942 году — Б. С.), посоветовал их называть «литературными вечерами», благо нашу квартиру стал посещать писатель Бабель, который часто читал свои неопубликованные рассказы… Он негодовал на политику партии в литературе, заявляя: «Печатают всякую дрянь, а меня, Бабеля, не печатают»… Бывая на этих так называемых «литературных вечерах», Ежов принимал активное участие в политических разговорах… хвастливо заверял, что в ЦК ему полностью доверяют и продвигают по работе. Эти хвастливые разговоры очень действовали на Евгению Соломоновну и всех остальных, делали Ежова «героем дня». Вовлечение в шпионскую работу Ежова взяла на себя Евгения Соломоновна. Он был в нее безнадежно влюблен и не выезжал из ее комнаты… Ежов сошелся с моей женой, они стали открыто афишировать эту свою связь. На этой почве у меня с женой произошли раздоры. Она доказывала мне, что Ежов восходящая звезда и что ей выгодно быть с ним, а не со мной… В начале 1929 года я уехал на посевную кампанию в Тульскую губернию. Когда вернулся из командировки, Хаютина рассказала мне, что после ряда бесед с Ежовым ей удалось его завербовать для работы в английскую разведку, и для этого, чтобы его закрепить, она с ним вообще сошлась, и что в ближайшее время они поженятся. При этом она просила меня официального развода не устраивать, но близости ее с Ежовым не мешать…» Исаак Бабель, также арестованный, в 1939 году на допросе осветил обстоятельства и своей связи с Ежовой: «Я познакомился с ней в 1927 году — в Берлине, по дороге в Париж, на квартире Ионова, состоявшего тогда представителем «Международной книги» для Германии. Знакомство наше быстро перешло в интимную связь, продлившуюся очень недолго, так как я через несколько дней уехал в Париж… Через полтора года я снова встретил ее в Москве, и связь наша возобновилась. Служила она тогда, мне кажется, у Урицкого в «Крестьянской газете» и вращалась в обществе троцкистов — Лашевича (Лашевич Михаил Михайлович — видный троцкист, бывший заместитель председателя Реввоенсовета; умер в 1928 году — Б. С.), Серебрякова, Пятакова, Воронского (Воронский Александр Константинович — троцкист, литературный критик, бывший редактор журнала «Красная новь»; расстрелян в 1937 году. — Б. С.), наперебой ухаживавших за ней. Раза два или три я присутствовал на вечеринках с участием этих лиц и Е. С. Гладун. В смысле политическом она представляла, мне казалось, совершенный нуль и была типичной «душечкой», говорила с чужих слов и щеголяла всей троцкистской терминологией. В тридцатом году связь наша прекратилась… Она вышла замуж за ответственного работника Наркомзема Ежова. Жили они тогда в квартире на Страстном бульваре, там же я познакомился с Ежовым, но ходить туда часто избегал, так как замечал неприязненное к себе отношение со стороны Ежова. Она жаловалась мне на его пьянство, на то, что он проводит ночи в компании Конара (члена редколлегии журнала «СССР на стройке» и заместителя наркома земледелия; в 1933 году он был обвинен во «вредительстве в сельском хозяйстве» и расстрелян. — Б. С.) и Пятакова, по моим наблюдениям, супружеская жизнь Ежовых первого периода была полна трений и уладилась не скоро». Исаак Эммануилович объяснил следователям причину неприязненного отношения Ежова: «Мне казалось, что он знает о моей связи со своей женой и что моя излишняя навязчивость покажется ему подозрительной. Виделся я с Ежовым в моей жизни раз пять или шесть, а последний раз летом 1936 года у него на даче, куда я привез своего приятеля — артиста Утесова. Никаких разговоров на политические темы при встречах с Ежовым у меня не было, точно так же, как и с его женой, которая по мере продвижения своего мужа внешне усваивала манеры на все сто процентов выдержанной советской женщины». Подозрения Ежова насчет своей жены и Бабеля были основательны. Еще один «заговорщик», привлеченный к делу «железного наркома», бывший редактор «Крестьянской газеты» и директор Всесоюзной книжной палаты Семен Борисович Урицкий, как и Ежов, Бабель и Гладун, расстрелянный в 1940 году, утверждал на допросе: «С Евгенией Соломоновной я был в близких, интимных отношениях еще с 1924 года… В 1935-м от Евгении Соломоновны я узнал, что она также была в близких, интимных отношениях с Бабелем. Как-то при мне, приводя в порядок свою комнату, она натолкнулась на письма Бабеля к ней. Она сказала, что очень дорожит этими письмами. Позже она сказала, что Ежов рылся в ее шкафу, искал письма Бабеля, о которых он знал, но читать не читал». Обвинения в связях с английской разведкой, разумеется, были придуманы следователями. Поводом послужил тот факт, что чета Гладун в 1926 году короткое время по дипломатической линии находилась в Лондоне. Даже интимную связь Хаютиной с Ежовым люди Берии представили как прикрытие ее шпионской деятельности. При содействии Ежова и его друзей Ю. Л. Пятакова и Ф. М. Конара Евгения Соломоновна получила должность заместителя редактора журнала «СССР на стройке», но в действительности именно она вела это издание, выходившее на четырех европейских языках. Главные редакторы журнала — Пятаков, а затем Межлаук, обремененные массой других обязанностей, фактически передоверили его Ежовой. Родных детей у Евгении Соломоновны и Николая Ивановича не было, и они взяли девочку-сироту из приюта. С возвышением Ежова в середине 30-х его жена стала одной из дам советского высшего света. Она держала литературный салон. По этому поводу Бабель заметил: «Подумать только, наша одесская девчонка стала первой дамой королевства». В салоне Ежовой, где царила самая непринужденная обстановка, бывали писатели, люди искусства, журналисты. Шумное застолье, танцы под патефон. Об одной поездке к Ежовым на дачу летом 1936-го вместе с Бабелем вспоминал певец Леонид Утесов: «Дом отличный… Всюду ковры, прекрасная мебель, отдельная комната для бильярда… Вскоре появился хозяин — маленький человек… в полувоенной форме. Волосы стриженые, а глаза показались мне чуть раскосыми… Сели за стол. Все отменное: икра, балыки, водка. Поугощались мы, а после ужина пошли в бильярдную… Ну я же тогда сыпал анекдотами! — один за одним… Закончился вечер, мы уехали… Я спросил Бабеля: «Так у кого же мы были? Кто он, человек в форме?» Но Бабель молчал загадочно… Я говорю тогда о хозяине дачи: «Рыбников! Штабс-капитан Рыбников» (герой рассказа Куприна, японский шпион. — Б. С.). На что Бабель ответил мне со смехом: «Когда ваш штабс-капитан вызывает к себе членов ЦК, то у них от этого полные штаны».Звездный час
Он наступил для Ежова после выстрела в Смольном. Николай Иванович фактически руководил расследованием убийства Кирова, поскольку глава НКВД Ягода не слишком ревностно выполнял указание Сталина искать соучастников преступления среди сторонников Троцкого и Зиновьева. На февральско-мартовском Пленуме 1937 года Ежов рассказывал, как генсек убеждал Ягоду расследовать убийство Кирова в правильном направлении: «Т. Сталин, как сейчас помню, вызвал меня и Косарева и говорит: «Ищите убийц среди зиновьевцев»… В это не верили чекисты и на всякий случай страховали себя еще кое-где и по другой линии, по линии иностранной, возможно, там что-нибудь выскочит… Первое время довольно туго налаживались наши взаимоотношения с чекистами, взаимоотношения чекистов с нашим контролем. Следствие не очень хотели нам показывать, как это делается и вообще. Пришлось вмешаться в это дело т. Сталину. Товарищ Сталин позвонил Ягоде и сказал: «Смотрите, морду набьем»… Ведомственные соображения говорили: впервые в органы ЧК вдруг ЦК назначает контроль. Люди никак не могли переварить это…» Установление непосредственного контроля партии над НКВД понадобилось для начала террора. Органы НКВД получали ранее невиданную власть, и Сталин хотел знать наверняка, что отсюда ему никакой угрозы не будет. Ежов утверждал на Пленуме: «Тов. Сталин правильно тогда учуял в этом деле что-то неладное и дал указание продолжать его, и, в частности, для контроля следствия назначили от Центрального Комитета меня. Я имел возможность наблюдать все проведение следствия и должен сказать, что Молчанов все время старался свернуть это дело…» Однако под бдительным присмотром Николая Ивановича люди Ягоды вынуждены были довести дело до конца, доказывая версию о «троцкистско-зиновьевском заговоре». В награду за усердие Ежов становится в 1935 году секретарем ЦК, курирующим НКВД и административные органы, и председателем Комиссии партийного контроля. Он руководит проведением партийной чистки. Ежов докладывал, что на начало декабря 1935 года в связи с исключением из партии арестовано более 15 тысяч «врагов народа» и раскрыто «свыше ста вражеских организаций и групп». Он предупредил, что «среди исключенных из партии остались враги, все еще не привлеченные к судебной ответственности». С Ягодой отношения складываются напряженные. Генрих Григорьевич, как профессионал своего дела, был не в восторге от вмешательства дилетанта Николая Ивановича. Тем не менее они вместе готовят первый большой политический процесс в Москве, на котором в августе 1936-го судят Каменева и Зиновьева. 18 августа 1936 года Каганович и Ежов направили отдыхающему в Сочи Сталину предложения по освещению в прессе «контрреволюционно-троцкистской зиновьевской террористической группы»: «В «Правде» и «Известиях» печатаются ежедневно отчеты о процессе размером до половины полосы. Обвинительное заключение и речь прокурора печатаются полностью. Все отчеты рассылаются через ТАСС, имеющий для этого необходимый аппарат. Помимо этого в газетах печатаются статьи и отклики по ходу процесса (резолюции и т. п.). Весь материал проходит в печать с визой т. т. Стецкого (Стецкий Алексей Иванович — заведующий Агитпропом ЦК; в 1938 году расстрелян. — Б. С.), Таля (Таль Б. — заведующий отделом печати и издательств ЦК. — Б. С.), Мехлиса, Вышинского и Агранова. Общее наблюдение возлагается на тов. Ежова. Из представителей печати на процесс допускаются: а) редакторы крупнейших центральных газет, корреспонденты «Правды» и «Известий»; б) работники ИККИ (Исполкома Коминтерна. — Б. С.) и корреспонденты для обслуживания иностранных коммунистических работников печати; в) корреспонденты иностранной буржуазной печати. Просятся некоторые посольства. Считаем возможным выдать билеты лишь для послов — персонально». Вождь предложения одобрил. Это значило, что песенка Ягоды спета. Он еще занимал кабинет в Наркомате внутренних дел, но от контроля за ходом следствия и суда над Зиновьевым, Каменевым и их товарищами был отстранен. Фактически Ежов уже исполнял функции главы карательного ведомства. Он и Каганович ежедневно информировали Сталина о ходе процесса. Судя по черновикам шифрограмм, готовил тексты Ежов, а редактировал их Каганович. 19 августа Николай Иванович и Лазарь Моисеевич сообщали: на процессе все подсудимые признали себя виновными, что на иностранных корреспондентов произвело «ошеломляющее впечатление». Трое сделали оговорки. И. Н. Смирнов заявил, что «лично в подготовке террористических актов участия не принимал». То же повторил зиновьевец Гольдман и троцкист Тер-Ваганян, бывший редактор журнала «Под знаменем марксизма». Как с удовлетворением отмечали Ежов и Каганович, в ходе допроса бывший командующий рядом военных округов троцкист С. В. Мрачковский «совершенно угробил Смирнова. Смирнов вынужден под давлением показаний и прокурора подтвердить в основном показания Мрачковского. Даже хорошо, что он немного фрондирует. Попал благодаря этому в глупое положение. Все подсудимые набрасываются на Смирнова». Незапланированные отклонения от первоначального сценария процесса были Сталину только на руку. Наивные попытки Смирнова, Гольдмана и Тер-Ваганяна отрицать непосредственное участие в подготовке убийства Кирова еще больше убеждали публику, что идет самый настоящий суд, где преступники стараются, признавшись в меньших грехах, уйти от главного, самого тяжкого обвинения, которое безусловно грозит смертной казнью. Основная же масса подсудимых с готовностью заклевала «фрондеров», пытаясь «примерным поведением» купить себе жизнь. В тот же день Сталин получил письмо от Радека, чье имя уже прозвучало на процессе. Карл Бернгардович понимал, что следующей жертвой будет он, и спешил «отмежеваться» и предложить свои услуги по разоблачению вчерашних товарищей. Иосиф Виссарионович с удовлетворением писал Кагановичу и Ежову: «Читал письмо Радека на мое имя в связи с процессом троцкистов. Хотя письмо не очень убедительное, предлагаю все же снять пока вопрос об аресте Радека и дать ему напечатать в «Известиях» статью за своей подписью против Троцкого. Статью придется предварительно просмотреть». В ночь на 20-е Каганович и Ежов информировали Сталина о том, что происходило на суде в утреннем и вечернем заседаниях. В частности, Дрейцен «особенно нападал на Смирнова за попытку последнего замазать свою роль в организации террора. Рейнгольд целиком подтвердил… показания и уточнил их… Наиболее характерным в его показаниях является: подробное изложение двух вариантов плана захвата власти (двурушничество, террор, военный заговор); подробное сообщение о связи с правыми и о существовании у правых террористических групп (Слепков, Эйсмонт), о которых знали Рыков, Томский и Бухарин; сообщение о существовании запасного центра в составе Радека, Сокольникова, Серебрякова и Пятакова; сообщение о плане уничтожения следов преступления путем истребления как чекистов, знающих что-либо о преступлении, так и своих террористов; сообщение о воровстве государственных средств на нужды организации… Бакаев… очень подробно и убедительно рассказал об убийстве Кирова и подготовке убийства Сталина в Москве. Особо настаивал на прямой причастности к этому делу Троцкого, Зиновьева, Каменева, Евдокимова. Немного приуменьшал свою роль. Обижался, что они раньше ему не все говорили. Пикель (Никель Ричард Витальевич — литературный критик, бывший секретарь Зиновьева. — Б. С.) особое внимание уделял самоубийству Богдана, заявив, что фактически они убили Богдана, что покончил самоубийством по настоянию Бакаева. Накануне самоубийства Богдана Бакаев просидел у него всю ночь и заявил ему, что надо либо утром покончить самоубийством самому, либо они его уничтожат сами. Богдан избрал первое предложение Бакаева… Каменев при передопросах прокурора о правильности фактов, излагаемых подсудимыми, подавляющее большинство их подтверждает. В сравнении с Зиновьевым держится более вызывающе. Пытается рисоваться. Некоторые подсудимые, и в особенности Рейнгольд, говорили о связях с правыми, называя фамилии Рыкова, Томского, Бухарина, Угланова. Рейнгольд, в частности, показал, что Рыков, Томский, Бухарин знали о существовании террористической группы правых. Это произвело особое впечатление на инкоров. Все инкоры в своих телеграммах специально на этом останавливались, называя это особенно сенсационным показанием». Ежов предлагал подробнее сказать о реакции зарубежных журналистов на процесс и сообщить, что инкоры не сомневаются в виновности всех подсудимых и, в частности, Троцкого, Зиновьева, Каменева». Но процесс в первую очередь предназначался для «внутреннего потребления», и уделять иностранцам слишком много внимания, по мнению Лазаря Моисеевича, не стоило. Хотя в Европе по замыслу Сталина процесс тоже должен был вызвать резонанс, но главным образом в местных компартиях, где следовало окончательно разгромить сторонников Троцкого. Насчет корреспондентов Николай Иванович, как выяснилось позже, слегка преувеличил. Большинство «буржуазных газет» после процесса выражало сильные сомнения в том, что «террористический» заговор Троцкого, Каменева и Зиновьева существовал в действительности. А на последовавшее вскоре требование Советов к правительству Норвегии лишить Троцкого права убежища Осло ответило решительным отказом. В защиту подсудимых, хотя и очень осторожно, выступил Второй Интернационал. Его руководители Фридрих Адлер и Де Брукер вместе с лидерами Международной федерации профсоюзов Ситрином и Лилиенвельсом 22 августа прислали телеграмму председателю Совнаркома В. М. Молотову: «Мы сожалеем, что в момент, когда мировой рабочий класс объединен в своих чувствах солидарности с испанскими рабочими в их защите демократической республики, в Москве начался крупный политический процесс. Несмотря на то что обвиняемые в этом процессе — Зиновьев и его товарищи — всегда были заклятыми врагами Социалистического Рабочего Интернационала и Международной Федерации Профсоюзов, мы не можем воздержаться от просьбы, чтобы обвиняемым были обеспечены все судебные гарантии, чтобы им было разрешено иметь защитников, совершенно независимых от правительства, чтобы им не были вынесены смертные приговоры и чтобы, во всяком случае, не применялись какие-либо процедуры, исключающие возможность апелляции». Европейские социалисты были большими чудаками. Их воображение не могло угнаться за темпами развития «реального социализма» в Советском Союзе. Лидеры Второго Интернационала не знали, что независимых от государства адвокатов здесь не осталось. А чтобы не мешать Вышинскому вести главную роль, подсудимые от адвокатов дружно отказались. Да и приговор был предрешен не то что задолго до начала процесса — еще до ареста. Хотя послание было адресовано Молотову, Вячеслав Михайлович прочел его уже с резолюцией Иосифа Виссарионовича: «Думаю, что надо опубликовать телеграмму Второго Интернационала, сказав в печати, что СНК не считает нужным отвечать, так как приговор — дело Верховного Суда, и там же высмеять и заклеймить в печати подписавших телеграмму мерзавцев, как защитников банды убийц, агентов Гестапо — Троцкого, Зиновьева, Каменева, заклятых врагов рабочего класса». Приговор по делу «троцкистско-зиновьевской организации», предусматривающий расстрел всех 16 подсудимых, был отправлен на предварительное одобрение Сталина. 23 августа вечером вождь прислал ответ: «Проект приговора по существу правилен, но нуждается в стилистической отшлифовке… Нужно упомянуть в приговоре в отдельном абзаце, что Троцкий и Седов подлежат привлечению к суду, или находятся под судом, или что-либо другое в этом роде. Это имеет большое значение для Европы, как для буржуа, так и для рабочих. Умолчать о Троцком и Седове в приговоре никак нельзя, ибо такое умолчание будет понято таким образом, что прокурор хочет привлечь этих господ, и суд будто бы не согласен с прокурором… Надо бы вычеркнуть заключительные слова «приговор окончательный и обжалованью не подлежит». Эти слова лишние и производят плохое впечатление. Допускать обжалование не следует, но писать об этом в приговоре не умно… Звание Ульриха и членов (Военной коллегии Верховного Суда. — Б. С.) нужно воспроизвести полностью, а насчет Ульриха надо сказать, что он председательствующий не какого-либо неизвестного учреждения, а Военколлегии Верхсуда». И вопрос об отклонении просьбы о помиловании (а о снисхождении просили все подсудимые, кроме Гольдмана) также решал Сталин. Поздно вечером 24 августа он одобрил предложение Кагановича, Орджоникидзе, Ворошилова и Ежова «отклонить ходатайство и приговор привести в исполнение сегодня ночью». Сразу после процесса по делу Каменева и Зиновьева, 30 августа, была принята директива ЦК: «В связи с тем, что за последнее время в ряде партийных организаций имели место факты снятия с работы и исключения из партии без ведома и согласия ЦК ВКП(б) назначенных решением ЦК ответственных работников и в особенности директоров предприятий, ЦК разъясняет, что такие действия местных партийных организаций являются неправильными. ЦК обязывает обкомы, крайкомы и ЦК нацкомпартий прекратить подобную практику и во всех случаях, когда местные партийные организации располагают материалом, ставящим под сомнение возможность оставления в партии назначенного решением ЦК работника, передавать эти материалы на рассмотрение ЦК ВКП(б)». Так перед началом Большого террора усыплялась бдительность будущих жертв. Покаявшихся троцкистов и бухаринцев убеждали в том, что раз ЦК их простило и доверило новую ответственную работу, то без серьезных оснований и без ведома ЦК их теперь не тронут. Заодно постановление должно было предостеречь органы НКВД и местные партийные организации от излишней самодеятельности: лица, входящие в номенклатуру ЦК, будут репрессироваться лишь с согласия последнего, а фактически только по инициативе Сталина. Аналогичная директива была повторена 13 февраля 1937 года, перед началом Пленума, давшего зеленый свет террору. Сталин предупредил секретарей обкомов и начальников местных управлений НКВД, что «руководители, директора, технические директора, инженеры, техники и конструкторы могут арестовываться лишь с согласия соответствующего наркома, причем в случае несогласия сторон насчет ареста или неареста того или иного лица стороны могут обращаться в ЦК ВКП(б) за разрешением вопроса». Тем самым соучастниками террора делались практически все высокопоставленные правительственные чиновники, а заодно рекрутировались и новые жертвы. Ведь в случае несогласия сторон ЦК почти всегда поддерживало НКВД и строптивый нарком или его заместитель становился следующим «заговорщиком» и кандидатом на отстрел. Общественным обвинителем по делу «контрреволюционно-троцкистской зиновьевской террористической группы» должен был выступать Ю. Л. Пятаков, бывший сторонник Троцкого. Однако в конце июля 1936 года была арестована его жена, и будущие фигуранты процесса по делу Каменева и Зиновьева назвали Пятакова руководителем оппозиционного центра на Украине. 11 августа по поручению Сталина с Пятаковым встретился Ежов. В тот момент судьба Пятакова была предрешена, и вождю хотелось проверить будущего «железного наркома»: не дрогнет ли при свидании с другом, не даст ли слабину. Но Николай Иванович испытание выдержал блестяще, сделал все, чтобы успокоить несчастного Юрия Леонидовича. Так могли бы успокаивать баранов, ведомых на бойню. Во всяком случае, после разговора с Ежовым Пятаков не стал ни стреляться, ни бежать. Надеялся: а вдруг все еще обойдется. В тот же день Николай Иванович докладывал генсеку: «Пятакова вызвал. Сообщил ему мотивы, по которым отменено решение ЦК о назначении его обвинителем на процессе троцкистско-зиновьевского террористического центра. Зачитал показания Рейнгольда и Голубенко. Предложил выехать на работу начальником Чирчикстроя. Пятаков на это реагировал следующим образом: 1. Он понимает, что доверие ЦК к нему подорвано. Противопоставить показаниям Рейнгольда и Голубенко, кроме голых опровержений на словах, ничего не может. Заявил, что троцкисты из ненависти к нему клевещут, Рейнгольд и Голубенко — врут. 2. Виновным себя считает в том, что не обратил внимания на контрреволюционную работу своей бывшей жены, безразлично относился к встречам с ее знакомыми. Поэтому решение ЦК о снятии с поста замнаркома и назначении начальником Чирчикстроя считает абсолютно правильным. Заявил, что надо было наказать строже (это пожелание Юрия Леонидовича Сталин и Ежов очень скоро исполнили. — Б. С.). 3. Назначение его обвинителем рассматривал как акт огромного доверия ЦК и шел на это от души. Считал, что после процесса, на котором он выступит в качестве обвинителя, доверие ЦК к нему укрепится, несмотря на арест бывшей жены. 4. Просит предоставить ему любую форму (по указанию ЦК) реабилитации. В частности, от себя вносит предложение разрешить ему лично расстрелять всех приговоренных к расстрелу по процессу, в том числе и свою бывшую жену. Опубликовать это в печати. Несмотря на то, что я ему указал на абсурдность его предложения, он все же настойчиво просил сообщить об этом в ЦК…» Работа Ежова по организации открытых политических процессов и проведении кампании террора сильно облегчалась тем, что приходилось иметь дело, в сущности, с морально сломленными людьми, физическая ликвидация которых становилась лишь чисто технической проблемой. Пятаков и Радек, Каменев и Зиновьев, Бухарин и Рыков, равно как сотни и тысячи других оппозиционеров, сломались не на процессах или послеареста в 1936–1938 годах, а еще тогда, когда публично покаялись в конце 20-х — начале 30-х и заявили о верности генеральной линии партии и лично ее вождю товарищу Сталину. С тех пор у них была одна задача: уцелеть, но генсек вовсе не собирался оставлять троцкистов и бухаринцев в живых. Непроизнесенную обвинительную речь Пятаков обратил в статью, появившуюся в «Правде» в дни процесса. Он пытался изобразить искренний восторг: «Хорошо, что органы НКВД разоблачили эту банду. Хорошо, что ее можно уничтожить — честь и слава работникам НКВД!» Но у самого Юрия Леонидовича в жизни ничего хорошего больше не было. 11 сентября 1936 года его арестовали, в январе 1937-го осудили на процессе «параллельного антисоветского троцкистского центра» и расстреляли. Хотя надо сказать, что статья Пятакова, равно как и статьи других кающихся по второму разу троцкистов, Сталину понравилась. Она вполне отвечала сценарию дальнейшего хода Великой чистки. Вечером 23 августа Иосиф Виссарионович телеграфировал Кагановичу: «Статьи у Раковского, Радека и Пятакова получились неплохие. Судя по корреспондентским сводкам И НО (иностранного отдела ТАСС. — Б. С.), корреспонденты замалчивают эти статьи, имеющие большое значение. Необходимо перепечатать их в газетах в Норвегии, Швеции, Франции, Америке, хотя бы в коммунистических газетах. Значение их состоит, между прочим, в том, что они лишают возможности наших врагов изобразить судебный процесс как инсценировку и как фракционную расправу ЦК с фракцией Зиновьева — Троцкого». И тут же вождь давал указания, какие сюжеты должны получить развитие на новых процессах: «Из показаний Рейнгольда видно, что Каменев через свою жену Глебову зондировал французского посла Альфана насчет возможного отношения францпра (так в тексте. — Б. С.) к будущему «правительству» троцкистско-зиновьевского блока. Я думаю, что Каменев зондировал также английского, германского и американского послов. Это значит, что Каменев должен был раскрыть этим иностранцам планы заговора и убийств вождей ВКП(б); это значит также, что Каменев уже раскрыл им эти планы, ибо иначе иностранцы не стали бы разговаривать с ним о будущем зиновьевско-троцкистском «правительстве». Это — попытка Каменева и его друзей заключить прямой блок с буржуазными правительствами против сов-пра (так в тексте. — Б. С.). Здесь же кроется секрет известных авансовых некрологов американских корреспондентов (иностранные журналисты не сомневались, что подсудимым будет вынесен смертный приговор, и писали о них так, как принято писать об усопшем, — или хорошо, или ничего. — Б. С.). Очевидно, Глебова хорошо осведомлена во всей этой грязной области. Нужно привезти Глебову в Москву и подвергнуть ее ряду тщательных допросов. Она может открыть много интересного». На процессе «параллельного троцкистского центра» на первый план как раз и вышли мнимые связи троцкистов с иностранными правительствами и разведками. Прокурор Вышинский говорил о соглашениях, которые Троцкий будто бы заключил с Гитлером и японским императором. А Пятакова, согласно сценарию процесса, заставили признаться в том, что в декабре 1935-го он будто бы слетал на самолете из Берлина в Норвегию для получения инструкций от Троцкого. Но тут люди Ежова допустили прокол. Норвежское правительство, по требованию Троцкого, провело расследование и выяснило, что в том месяце ни один самолет из Берлина в аэропорту Осло не приземлялся, — вышел конфуз. Но Юрия Леонидовича, как и большинство других подсудимых, все равно приговорили к смерти. Из авторов покаянных статей в «Правде» казнили только Пятакова. Может быть, потому, что с ним оказался связан скандальный эпизод с мнимым перелетом. Радека и Раковского отправили в лагерь, где первого убили под видом драки с уголовниками в мае 1939-го, а второго расстреляли в сентябре 1941-го, когда в суровое военное время избавлялись от политически неблагонадежных заключенных. Сталина не удовлетворило освещение процесса по делу Зиновьева и Каменева в советской прессе. 6 сентября 1936 года он писал Кагановичу и вернувшемуся из отпуска Молотову: «Правда» в своих статьях о процессе зиновьевцев и троцкистов провалилась с треском. Ни одной статьи, марксистски объясняющей процесс падения этих мерзавцев, их социально-политическое лицо, их подлинную платформу, — не дала «Правда». Она все свела к личному моменту, к тому, что есть люди злые, желающие захватить власть, и люди добрые, стоящие у власти, и этой мелкотравчатой мешаниной кормила публику. Надо было сказать в статьях, что борьба против Сталина, Ворошилова, Молотова, Жданова, Косиора и других есть борьба против Советов, борьба против коллективизации, против индустриализации, борьба, стало быть, за восстановление капитализма в городах и деревнях СССР. Ибо Сталин и другие руководители не есть изолированные лица, — а олицетворение всех побед социализма в СССР, олицетворение коллективизации, индустриализации, подъема культуры в СССР, стало быть, олицетворение усилий рабочих, крестьян и трудовой интеллигенции за разгром капитализма и торжество социализма… Надо было сказать, что разговоры об отсутствии платформы у зиновьевцев и троцкистов — есть обман со стороны этих мерзавцев и самообман наших товарищей. Платформа была у этих мерзавцев. Суть их платформы — разгром социализма в СССР и восстановление капитализма. Говорить этим мерзавцам о такой платформе было невозможно. Отсюда их версия об отсутствии платформы, принятая нашими головотяпами на веру. Надо было, наконец, сказать, что падение этих мерзавцев до положения белогвардейцев и фашистов логически вытекает из их грехопадения, как оппозиционеров в прошлом. Ленин еще на X съезде партии говорил, что фракция или фракции, если они в своей борьбе против партии будут настаивать на своих ошибках, обязательно должны докатиться при советском строе до белогвардейщи-ны, до защиты капитализма, до борьбы против Советов, обязательно должны слиться с врагами Советской власти. Это положение Ленина получило теперь блестящее подтверждение. Но оно, к сожалению, не использовано «Правдой». Вот в каком духе и в каком направлении надо было вести агитацию в печати. Все это, к сожалению, упущено». На самом деле под «головотяпами» подразумевалась не столько редакция «Правды», сколько Ягода, которого Сталин решил в самое ближайшее время заменить на Ежова. Теперь на политических процессах стало непременным правилом обвинять бывших оппозиционеров в связях с фашистами и намерениях реставрировать капитализм в СССР. Сами же процессы цеплялись друг за друга как звенья одной цепи. На процессе по делу «троцкистско-зиновьевского террористического центра» были названы участники «параллельного троцкистского центра» — Радек, Пятаков, Сокольников, Серебряков и др. А заодно и фамилии правых помянули. В январе 1937-го на процессе по делу «параллельного центра» подсудимые опять назвали Рыкова и Бухарина, заодно и Тухачевского, равно как и планы военного переворота. Вот уже готов материал и для дела о «военно-фашистском заговоре». В свою очередь, Тухачевскому, Уборевичу, Якиру и их товарищам, прежде чем расстрелять в июне 1937-го, следователи диктуют показания на группу Бухарина. В результате появляются материалы для самой яркой постановки — процесса по делу «правотроцкистского блока», настоящего драматического шедевра, написанного Сталиным и исполненного Ежовым, Вышинским и следователями НКВД. Дальше — пустота. Ни одного видного оппозиционного лидера на свободе в СССР не осталось. Открытые процессы не нужны, как не нужен больше и их главный исполнитель — Ежов. Но Николай Иванович, занимая кабинет Ягоды, вовсе не предвидел трагического финала.«Достиг я высшей власти…»
После того как Ягоду обвинили в попустительстве троцкистам, Ежов 26 сентября 1936 года занял пост наркома внутренних дел. Многие старые большевики наивно полагали, что с его приходом начнется восстановление контроля партии над НКВД и прекращение репрессий против коммунистов. А. М. Ларина свидетельствует, что Бухарин относился к Ежову «очень хорошо»: «Он понимал, что Ежов прирос к аппарату ЦК, что он заискивает перед Сталиным, но знал и то, что он вовсе не оригинален в этом. Он считал его человеком честным и преданным партии искренне… Бухарину… представлялось тогда… что Ежов, хотя человек малоинтеллигентный, но доброй души и чистой совести. Н. И. был не одинок в своем мнении; мне пришлось слышать такую же оценку нравственных качеств Ежова от многих лиц, его знавших. Назначению Ежова на место Ягоды Н. И. был искренне рад. «Он не пойдет на фальсификацию», — наивно верил Бухарин…» Ошибались не только старые большевики, но и аккредитованные в Москве дипломаты. Английский посол сообщал в Лондон: «Ежов очень сильная фигура и, что очень важно, партийный деятель, а не чекист. Скорее всего, он станет преемником Сталина, у него большие перспективы… Сталин дал Ежову НКВД, чтобы уменьшить власть этой кошмарной организации. Поэтому назначение Ежова следует приветствовать». Но Иосиф Виссарионович имел совсем иное мнение о свойствах характера и будущем Ежова, чей жизненный путь вскоре должен был завершиться. Сталин, безусловно, не считал Николая Ивановича сильной личностью, потому и доверил ему «карающий меч партии» в тот момент, когда на расправу чекистам начали конвейером поступать сперва прежние, а потом и действующие большевистские вожди. Тут генсеку требовался абсолютно преданный исполнитель, лишенный амбиций и не подверженный политическим влияниям как со стороны бывших оппозиционеров, так и со стороны людей, близких к Сталину. Великую чистку следовало завершить быстро, а затем, чтобы успокоить уцелевшую старую и выдвинутую во власть новую номенклатуру, тихо избавиться от исполнителя, свалить на него, хотя бы на уровне слухов, ответственность за «перегибы». Некоторые проницательные соотечественники, в отличие от иностранных дипломатов, понимали, что не Ежов инициатор кровавых чисток. Исаак Бабель говорил Илье Эренбургу: «Дело не в Ежове. Конечно, Ежов старается, но дело не в нем…» Дружившая с женой Ежова супруга Орджоникидзе Зинаида Гавриловна тоже не считала Николая Ивановича самостоятельной фигурой: «Он был игрушка. Им вертели, как хотели. А когда он стал много знать — его решили убрать». Своим заместителем Ежов попросил назначить М. П. Фриновского, ранее возглавлявшего войска НКВД. Это назначение было немедленно санкционировано Сталиным и Политбюро. В апреле 1937-го Михаил Петрович стал первым замом, сменив на этом посту ягодинца Агранова. Его выдвижение было неслучайным. Как вспоминала Агнесса Ивановна Миронова-Король, Ежов и Фриновский были давними знакомыми, дружили семьями. Но на оперативной работе Ежову приходилось оставлять тех, кто служил при Ягоде, преданных людей среди кадровых чекистов он почти не имел. Это позволило Сталину без труда сместить Николая Ивановича в тот момент, когда его миссия по истреблению «врагов народа» была завершена. При Ежове пышным цветом расцвели внесудебные органы — Особое совещание, всевозможные «двойки» и «тройки», приговаривавшие арестованных к высшей мере наказания заочно, списком. Только в один июньский день 1937 года нарком внутренних дел представил список из 3170 политических заключенных, предназначенных к расстрелу. И список тут же был утвержден Сталиным, Молотовым и Кагановичем. 2 июля 1937 года Политбюро направило обкомам, крайкомам и ЦК национальных компартий шифрограмму, требовавшую взять на учет «всех возвратившихся на родину кулаков и уголовников с тем, чтобы наиболее враждебные из них были немедленно арестованы и были расстреляны в порядке административного проведения их дел через тройки, а остальные менее активные, но все же враждебные элементы были бы переписаны и высланы в районы по указанию НКВД». Дальше — больше. Устанавливались разнарядки: сколько «врагов народа» за данный период времени должно разоблачить то или иное территориальное управление НКВД. Например, 30 июля 1937-го Политбюро утвердило оперативный приказ НКВД «Об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов». Под «другими» понимали прежде всего троцкистов и прочих участников внутрипартийных оппозиций. По этому приказу предписывалось арестовать до конца года 259 450 «антисоветских элементов» и 72 950 из них расстрелять. При этом местные руководители могли и сами запрашивать из центра дополнительные лимиты на репрессии. А с февраля по август 1938-го Политбюро утвердило разнарядки на аресты еще 90 тысяч «политических». В состав «троек» входили глава местного НКВД, секретарь парторганизации и прокурор, что символизировало единство партийных и карательных органов, которые вместе вершили одно преступное дело. Чтобы легче было добиваться от «врагов народа» признательных показаний, людям Ежова официально разрешили применять физические пытки. 10 января 1939 года Сталин разослал в обкомы шифрограмму, где объяснил, что «применение физического воздействия в практике НКВД было допущено с 1937 года с разрешения ЦК ВКП(б)… ЦК ВКП(б) считает, что метод физического воздействия должен обязательно применяться и впредь, в виде исключения, в отношении явных и не-разоружившихся врагов народа, как совершенно правильный и целесообразный метод». Строго говоря, пытки применяли и до 1937 года. Чем, как не пыткой, было лишение сна в ходе конвейерных допросов, длившихся порой по нескольку суток. Следователи через 10–12 часов сменялись, а подсудимый оставался в кабинете и был лишен возможности вздремнуть хотя бы пару минут. Часто подследственных заставляли часами стоять в полной неподвижности, помещали в холодный карцер на хлеб и воду Но прямого рукоприкладства, по крайней мере формально, не допускалось. Теперь же официально дозволили бить подследственных. И били, да еще как. Кулаками и ногами, ремнями и резиновыми дубинками. Вот пытка электрошоком как-то не прижилась. Может быть, из-за того, что электричество и электротехника были дефицитом? Зато по части избиений людям с Лубянки не было равных. Правда, резиновых дубинок, которые закупались за границей, не хватало. Они оставались привилегией столичных чекистов, тогда как в провинции больше полагались на кулак, в крайнем случае — на ремень. И еще изобрели оригинальный метод — «пятый угол». По углам комнаты стоят четыре сотрудника в кованых сапогах и избивают находящегося в центре подследственного или заключенного. Несчастный пытается спрятаться — ищет пятый угол, которого нет. Результаты чекистского искусства испытал на себе, в частности, маршал В. К. Блюхер, которого забили до смерти буквально в последние дни пребывания Ежова на посту наркома внутренних дел. По свидетельству одного из бывших следователей НКВД, когда 5 или 6 ноября 1938 года он впервые увидел маршала, то «сразу же обратил внимание на то, что Блюхер накануне был сильно избит, ибо все лицо у него представляло собой сплошной синяк и было распухшим». Проводя чистку, особой ненависти к ее жертвам Ежов не испытывал и иной раз мог облегчить положение членов семей репрессированных. Как вспоминала одна из прошедших ГУЛАГ женщин, знавшая Ежова еще по Казани, «сына Ягоды после ареста матери и бабушки из местечка Акбулак, что на границе Оренбургской области и Казахстана, послали в детдом, где его избивали и «воспитатели», и сверстники. Ежов приказал изменить фамилию, перевести Гарика в другое место и не трогать». Может быть, Николай Иванович, вопреки распространенному мнению, не превратился в кровавое чудовище? Просто работа у него была такая — людей на смерть отправлять. Если б перебросили его из НКВД, скажем, курортами заведовать, Николай Иванович истово заботился бы об отдыхе трудящихся и никого убивать бы не помышлял. И все-таки… Всего в 1937–1938 годах были приговорены к расстрелу по политическим обвинениям 681 692 человека, из них 631 897 — внесудебными «тройками». Даже некоторых соратников Ежова брала оторопь от масштаба репрессий. Фриновский рассказывал супругам Мироновым-Король о примечательной беседе со Сталиным: «Как-то вызвал он меня. «Ну, — говорит, — как дела?» А я набрался смелости и отвечаю: «Все хорошо, Иосиф Виссарионович, только не слишком ли много крови?» Сталин усмехнулся, подошел ко мне, двумя пальцами толкнул в плечо: «Ничего, партия все возьмет на себя…» Но ни генсек, ни партия, разумеется, никакой ответственности на себя не взяли, предпочтя свалить ее на Ягоду и Ежова, Абакумова и Берию. В январе 1937-го Ежову присваивают звание генерального комиссара государственной безопасности, а 16 июля город Сулимов Орджоникидзевского края переименовывают в Ежово-Черкесск. На следующий день Ежова награждают орденом Ленина «за выдающиеся успехи в деле руководства органами НКВД по выполнению правительственных заданий». Эта стандартная формулировка подразумевает заслуги Николая Ивановича в развертывании массовых репрессий, подготовке фальсифицированных следственных дел и политических процессов. В 30-е годы и особенно в эпоху Большого террора в стране небывалого размаха достиг культ работников НКВД. Театры один за другим ставили пьесы о том, как героические чекисты «перековывают» в лагерях и на стройках пятилеток вчерашних уголовников, кулаков, «вредителей». Одну из них, «Аристократов» Николая Погодина, современники прямо называли «гимном ГПУ». О другой, «Чекистах» Михаила Козакова, написанной по материалам процесса «правотроцкистского блока», писатель Андрей Платонов отозвался с иронией: «У автора должна быть не только личная уверенность в своих литературных способностях, не только творческая смелость, но и фактическое, доказанное в работе наличие этих качеств…» На том же уровне были и другие произведения, восхваляющие «людей в синих фуражках». Вся страна распевала песню войск НКВД:Падение
После окончания последнего открытого политического процесса — над «правотроцкистским блоком» — крупных деятелей оппозиции на воле не осталось. Еще несколько месяцев должно было уйти на завершение изъятия на местах последних «антисоветских элементов», а потом чистку следовало постепенно сворачивать. Ежов стал для Сталина ненужной игрушкой. Мавру предстояло уйти. В мае 1938-го представители трудовых коллективов еще выдвигали его в Верховный Совет РСФСР, утверждая при этом: «Всех революционных подвигов тов. Ежова невозможно перечислить. Самый замечательный подвиг… — это разгром японско-немецких троцкистско-бухаринских шпионов, диверсантов, убийц, которые хотели потопить в крови советский народ…» А Сталин уже готовил «преданному другу» путь в небытие. 8 апреля 1938 года Ежова по совместительству назначили наркомом водного транспорта. В этот наркомат вскоре были перемещены его люди из числа высокопоставленных чинов НКВД, а одним из заместителей сделали попавшего в опалу Евдокимова. Для очередного политического процесса готовилась связка «заговорщиков» — Николай Иванович и Ефим Георгиевич. Николай Иванович пока оставался машинистом наркомвнудельского поезда, но из этого поезда уже вовсю выбрасывали пассажиров. По указанию партийных органов чекисты арестовывали своих руководителей. 14 апреля 1938 года взяли начальника Главного управления пограничной и внутренней охраны Э. Э. Крафта, а 26 апреля — начальника 3-го (секретно-политического) управления НКВД И. М. Леплевского — одного из архитекторов московских открытых процессов и дела о «военно-фашистском заговоре». Через два дня настал черед заместителя наркома Л. М. Ваковского. В июне сбежал к японцам начальник Дальневосточного управления внутренних дел Г. С. Люшков, не без оснований опасавшийся ареста. Ежов понял, что скоро настанет его черед. В письме-исповеди Сталину уже после смещения Николай Иванович писал: «Решающим был момент бегства Люшкова. Я буквально сходил с ума. Вызвал Фриновского и предложил вместе поехать докладывать Вам. Один был не в силах. Тогда же Фриновскому я сказал: «Ну, теперь нас крепко накажут…» Я понимал, что у Вас должно создаться настороженное отношение к работе НКВД. Оно так и было. Я это чувствовал все время». Случай с Люшковым послужил предлогом для назначения в августе Берии первым заместителем наркома внутренних дел. В том же письме Сталину Ежов признавался: «Переживал и назначение т. Берия. Видел в этом элемент недоверия к себе, однако думал, все пройдет. Искренне считал и считаю его крупным работником, я полагал, что он может занять пост наркома. Думал, что его назначение — подготовка моего освобождения». 14 ноября 1938 года перешел на нелегальное положение, инсценировав самоубийство, нарком внутренних дел Украины А. И. Успенский. Сталин подозревал, что Ежов предупредил его о предстоящем аресте. Разыскали Александра Ивановича уже при Берии, в апреле 1939-го, а расстреляли на неделю раньше, чем Ежова. Выдвиженцы Ежова из рядов партийных работников тоже чувствовали, как вокруг них сжимается кольцо. 12 ноября 1938 года застрелился М. И. Литвин, сменивший Ваковского на посту начальника Управления НКВД по Ленинградской области. Михаил Иосифович был замечен Ежовым еще в Казахстане, где руководил местными профсоюзами, а затем взят Николаем Ивановичем в орграспредотдел ЦК ВКП(б). С приходом Ежова Литвин возглавил отдел кадров НКВД, затем, в мае 1937-го, — секретно-политический отдел. Но уже в январе 1938-го его перемещают из центрального аппарата в Ленинград. Это был первый, еще очень неявный, признак грядущей опалы Ежова. Его людей убирали с ключевых позиций в центре. Выпал из обоймы и другой выдвиженец Ежова, С. Б. Жуковский, взятый на чекистскую работу из Комиссии партийного контроля. Он возглавлял Административно-хозяйственное управление НКВД, а в начале 1938 года стал заместителем наркома. 3 октября Семена Борисовича внезапно сняли с высокого поста и назначили начальником Риддерского полиметаллического комбината. Но выехать к новому месту работы он так и не успел — 23 октября его арестовали. 8 сентября 1939 года Фриновский был назначен наркомом Военно-морского флота, а 29 сентября в ведение Берии перешло Главное управление государственной безопасности. К началу октября Ежов практически утратил контроль над основными структурами Наркомата внутренних дел. 17 ноября 1938 года появилось постановление Совнаркома и ЦК «Об арестах, прокурорском надзоре и ведении следствия». Оно признавало успехи НКВД под руководством партии по разгрому «врагов народа и шпионско-диверсионной агентуры иностранных разведок», но подвергало органы серьезной критике: «Массовые операции по разгрому и выкорчевыванию вражеских элементов, проведенные органами НКВД в 1937–1938 годах, при упрощенном ведении следствия и суда, не могли не привести к ряду крупнейших недостатков и извращений в работе органов НКВД и Прокуратуры… Работники НКВД настолько отвыкли от кропотливой, систематической агентурно-осведомительской работы и так вошли во вкус упрощенного порядка производства дел, что до самого последнего времени возбуждают вопросы о предоставлении им так называемых «лимитов» для производства массовых арестов… Следователь ограничивается получением от обвиняемого признания своей вины и совершенно не заботится о подкреплении этого признания необходимыми документальными данными», а «показания арестованного записываются следователями в виде заметок, а затем, спустя продолжительное время… составляется общий протокол, причем совершенно не выполняется требование… о дословной, по возможности, фиксации показаний арестованного. Очень часто протокол допроса не составляется до тех пор, пока арестованный не признается в совершенных им преступлениях». Теперь арестовывать можно было только по постановлению суда или с санкции прокурора. Ликвидировались внесудебные органы — «тройки» и «двойки», а дела, находившиеся у них в производстве, передавались судам или Особому совещанию при НКВД СССР. Постановление от 17 ноября означало сигнал к прекращению чистки и предрешало замену Ежова Берией. 19 ноября Политбюро обсудило донос на Ежова главы Управления НКВД по Ивановской области В. П. Журавлева, обвинившего Николая Ивановича в «смазывании» дел по шпионажу среди сотрудников НКВД. 23 ноября вечером Николай Иванович подал Сталину заявление об отставке, где признавал все допущенные ошибки. На следующий день он был уволен из НКВД с щадящей формулировкой — «по состоянию здоровья», но с оставлением во главе Наркомвода и КПК, а также секретарем ЦК. Сообщения о смещении Ежова появились в газетах только 8 декабря. Возможно, Сталин опасался, что некоторые из ежовских ставленников в провинции могут последовать примеру Люшкова и Успенского, и поэтому выжидал, пока Берия установит контроль над аппаратом в областях. Предчувствуя близкий конец, Ежов начал особенно сильно пить. Уже в годы войны, объясняя в узком кругу причины снятия Ежова, Сталин, по воспоминаниям авиаконструктора А. С. Яковлева, говорил: «Ежов мерзавец! Разложившийся человек. Звонишь к нему в наркомат — говорят: уехал в ЦК. Звонишь в ЦК — говорят: уехал на работу. Посылаешь к нему на дом — оказывается, лежит на кровати мертвецки пьяный. Многих невинных погубил. Мы его за это расстреляли». Но причина уничтожения Ежова тут явно перепутана со следствием. Недаром тот же Яковлев справедливо заметил: «После таких слов создавалось впечатление, что беззакония творятся за спиной Сталина… Но могли, скажем, Сталин не знать о том, что творил Берия?» Неурядицы преследовали Ежова и в личной жизни. По утверждению Н. С. Хрущева, к концу жизни Николай Иванович стал законченным наркоманом. Похоже, врагов он видел уже повсюду. Его жена, в мае 1938 года уволенная из редакции журнала «СССР на стройке», впала в депрессию. 21 ноября 1938 года Евгения Соломоновна умерла в подмосковном санатории, отравившись люминалом. По официальной версии, это было самоубийство. Но после падения через три дня «железного наркома» распространялись упорные слухи, что Ежов сам отравил жену, опасаясь разоблачения своих преступлений. На следствии Николая Ивановича даже заставили в этом признаться. Однако верится в подобное с трудом. Особенно если прочесть одно из последних писем Евгении Соломоновны, сохранившееся в деле Ежова: «Коленька! Очень прошу, настаиваю проверить всю мою жизнь, всю меня… Я не хочу примириться с мыслью, что меня подозревают в двурушничестве, в каких-то несодеянных преступлениях». С такими настроениями совсем недалеко до самоубийства. Ежов же, мучимый то ли ревностью, к которой жена давала немало поводов, то ли допившись до белой горячки, заподозрил ее в шпионаже, заговоре и в последние месяцы приказал следить за Евгенией Соломоновной. В середине августа 1938 года с помощью подслушивающей аппаратуры в московской гостинице «Националь» была зафиксирована интимная связь Ежовой с писателем Михаилом Шолоховым. Николай Иванович ограничился тем, что крепко поколотил ветреную супругу. А вот когда его арестовали, следователи встали перед выбором: кого делать третьим подозреваемым (кроме Ежова и Евгении Соломоновны) в покушении на жизнь Сталина — Шолохова или Бабеля. Но автор «Тихого Дона» и «Поднятой целины» был тогда в фаворе, и «красноречиво молчащий», как он сам говорил на следствии, автор «Конармии» и «Одесских рассказов» оказался гораздо более подходящим кандидатом на роль заговорщика. После отставки «товарищи, с которыми дружил и которые, казалось мне, неплохо ко мне относятся, вдруг все отвернулись, словно от чумного. Даже поговорить не хотят», — сетовал Ежов в письме Сталину. Мучиться от одиночества ему пришлось недолго. 10 января 1939 года Николай Иванович заработал выговор за манкирование (по причине запоев) своими обязанностями в Наркомводе. 21 января фотография Ежова последний раз появилась в печати: он вместе со Сталиным сидел в президиуме торжественного собрания по случаю 15-й годовщины смерти Ленина. В марте 1939-го на XVIII съезде партии его уже не избрали в ЦК. Бывший нарком ВМФ адмирал Н. Г. Кузнецов вспоминал, как при обсуждении кандидатур «выступал Сталин против Ежова и, указав на плохую работу, больше акцентировал внимание на его пьянстве, чем на превышении власти и необоснованных арестах. Потом выступил Ежов и, признавая свои ошибки, просил назначить его на менее самостоятельную работу, с которой он может справиться». Этому предшествовало письменное заявление Фри-новского 11 марта, на второй день работы съезда. Михаил Петрович сообщал Сталину о беззакониях, творившихся в НКВД под его и Ежова руководством. Фриновский писал: «Следственный аппарат в отделах НКВД был разделен на «следователей-колольщиков» и рядовых следователей. Что из себя представляли эти группы и кто они? «Следователи-колольщики» были в основном подобраны из заговорщиков или скомпрометированных лиц, бесконтрольно применяющих избиения арестованных, в кратчайший срок добивались «показаний» и умели грамотно, красочно составлять протоколы… «Корректировку» и «редактирование» протоколов допросов в большинстве случаев проводил, не видя в глаза арестованных, а если и видел, то при мимолетных обходах… следственных кабинетов. При таких методах следствия подсказывались фамилии… Очень часто «показания» давали следователи, а не подследственные. Знало ли об этом руководство наркомата, т. е. я и Ежов? Знали. Как реагировали? Честно — никак, а Ежов даже это поощрял. Никто не разбирался, к кому применяется физическое воздействие». Здесь все верно, за исключением того, будто «следователи-колольщики» были участниками заговора. Несомненно, это заявление было сделано под диктовку либо Берии, либо самого Сталина. Вероятно, Фриновскому пообещали: если напишет, что требуют, то не расстреляют. И обманули. 12 марта Фриновский попросил освободить его от должности наркома ВМФ из-за полного незнания морского дела, а уже 6 апреля он был арестован. Ежова арестовали 10 апреля 1939 года. Этому предшествовало постановление СНК от 27 марта «О неудовлетворительной работе водного транспорта», а 9 апреля Наркомвод был разделен на наркоматы морского и речного флота, в руководстве которых Николаю Ивановичу места не нашлось.Перед лицом вечности
На квартире Ежова в Кремле было найдено немало интересного. Капитан госбезопасности Шепилов записал в протоколе: «При обыске в письменном столе в кабинете Ежова, в одном из ящиков, мною обнаружен незакрытый пакет с бланком «Секретариат НКВД», адресованный в ЦК ВКП(б) Н. И. Ежову, в пакете находились четыре пули (три от патронов к револьверу «Наган» и один, по-видимому, от патрона к револьверу «Кольт»). Пули сплющены после выстрела. Каждая пуля была завернута в бумажку с надписью карандашом на каждой «Зиновьев», «Каменев», «Смирнов», причем в бумажке с надписью «Смирнов» было две пули. По-видимому, эти пули присланы Ежову после приведения в исполнение приговора над Зиновьевым, Каменевым и др. Указанный пакет мной изъят». Еще на квартире, даче и в служебном кабинете обнаружено шесть пистолетов систем «вальтер», «браунинг» и «маузер» и пять винтовок и охотничьих ружей. Оружия у Ежова оказалось даже больше, чем у его предшественника Ягоды. У Николая Ивановича нашли 115 книг и брошюр «контрреволюционных авторов, врагов народа, а также книг заграничных, белоэмигрантских, на русском и иностранных языках». Выходит, он был не таким уж необразованным. В разных местах в кабинете отыскались три полных, одна выпитая до половины и две пустые бутылки из-под водки. Из вещей — мужское пальто, несколько плащей, пар сапог, гимнастерок, фуражек, женских пальто, платьев, кофточек, фигур из мрамора, фарфора и бронзы, а также картин под стеклом. Улов оказался гораздо скромнее, чем при обысках у Ягоды. Ежова заключили в Сухановскую следственную тюрьму НКВД под Москвой с очень строгим режимом. Через две недели после ареста Ежов направил записку Берии: «Лаврентий! Несмотря на суровость выводов, которые заслужил и принимаю по партийному долгу, заверяю тебя по совести в том, что преданным партии, т. Сталину останусь до конца. Твой Ежов». И июня 1939 года начальник Следственной части НКВД комиссар госбезопасности 3-го ранга Б. 3. Кобу-лов утвердил составленное следователем старшим лейтенантом госбезопасности В. Т. Сергиенко постановление о привлечении бывшего наркома внутренних дел к уголовной ответственности. Ежова обвиняли в том, что он вместе с Фриновским, Евдокимовым, начальником 1-го отдела ГУГБ, ведавшего охраной членов правительства, Израилем Яковлевичем Дагиным и другими «заговорщиками» установил «изменнические, шпионские связи» с «кругами Польши, Германии, Англии и Японии». Получалось, что Николаю Ивановичу удалось объединить усилия государств, которые всего через пять месяцев после его ареста вступили в войну друг с другом. «Запутавшись в своих многолетних связях с иностранными разведками, — утверждал Сергиенко, — и начав с чисто шпионских функций передачи им сведений, представляющих специально охраняемую государственную тайну СССР, Ежов затем по поручению правительственных и военных кругов Польши перешел к более широкой изменнической работе, возглавив в 1936 году антисоветский заговор в НКВД (подхватив эстафетную палочку из слабеющих рук Ягоды! — Б. С.) и установив контакт с нелегальной военно-заговорщической организацией в РККА (получается, что, фабрикуя дело Тухачевского, Николай Иванович ловко сдавал сообщников; остается загадкой, почему же они его не разоблачили! — Б. С.). Конкретные планы государственного переворота и свержения Советского правительства Ежов и его сообщники строили в расчете на военную мощь Германии, Польши и Японии, взамен чего обещали правительствам этих стран территориальные и экономические уступки за счет СССР. Для практического осуществления этих предательских замыслов Ежов систематически передавал германской и польской разведкам совершенно секретные военные и экономические сведения, характеризующие внутреннее положение и военную мощь СССР (после 23 августа 1939 года, когда был заключен пакт Молотова — Риббентропа и СССР с Германией на время стали союзниками, немецкая разведка из обвинительного заключения выпала. — Б. С.). В этих антисоветских целях Ежов сохранил и насадил шпионские и заговорщические кадры в различных партийных, советских и прочих организациях СССР. Подготовляя государственный переворот, Ежов готовил через своих единомышленников по заговору террористические кадры, предполагая пустить их в действие при первом удобном случае. Ежов и его сообщники Фриновский, Евдокимов, Дагин практически подготовили на 7 ноября 1938 года путч, который по замыслу его вдохновителей должен был выразиться в совершении террористических акций против руководителей демонстрации на Красной площади в Москве. Через внедрение заговорщиков в аппарат Наркомин-дела и дипломатические посты за границей Ежов и его сообщники стремились обострить отношения СССР с окружающими странами в надежде вызвать военный конфликт. В частности, через группу заговорщиков в Китае Ежов проводил вражескую работу в том направлении, чтобы ускорить разгром китайских националистов, облегчить захват Китая японскими империалистами и тем самым подготовил условия для нападения Японии на советский Дальний Восток. Действуя в антисоветских и корыстных целях, Ежов организовал убийства неугодных ему людей, а также имел половые сношения с мужчинами (мужеложество)». Выходит, даже гомосексуализмом Николай Иванович занимался «в антисоветских целях»! Вообще же в постановлении рисовалась картина широкого заговора, в точности повторявшая сценарии процессов 1936–1938 годов. На возможность нового процесса намекали слова о том, что заговорщики действовали не только в НКВД, но и в других советских и партийных учреждениях. Поэтому у Ежова, когда он познакомился с постановлением, могла возникнуть надежда, что он тоже удостоится открытого суда. И Николай Иванович решил подтвердить на следствии все обвинения, несмотря на нелепость и абсурдность многих из них. Среди обвинений были и оригинальные. Например, Ежов якобы умышленно размещал лагеря с заключенными вблизи границ, чтобы подкрепить интервенцию Японии восстанием узников ГУЛАГа. Некоторые из обвинений, скорее всего, соответствовали действительности. Вряд ли был выдумкой гомосексуализм Ежова — уголовно наказуемое деяние по тогдашним законам. Для открытого процесса этот сюжет не очень подходил, так как тема однополой любви для советской прессы в те времена была табу. Для закрытого же разбирательства придумывать обвинение в гомосексуализме не стоило, ведь к заговору с целью захвата власти оно никакого отношения не имело. Очевидно, здесь действовал принцип, по которому к фантастическим политическим обвинениям добавлялось несколько реальных бытовых. Точно так же после Второй мировой войны ряд генералов и маршалов судили по надуманным обвинениям в заговорах и антисоветской деятельности, заодно плюсуя и вполне справедливые обвинения в присвоении трофейного имущества. Вряд ли был вымышлен и тот пункт обвинительного заключения, где утверждалось, что Ежов «в авантюристически-карьерных целях» создал дело о своем мнимом «ртутном отравлении». Реабилитировать Ягоду никто не собирался, так что приписывать Ежову фальсификацию не имело никакого смысла. Любовный треугольник Ежов — Хаютина — Бабель чудесным образом трансформировался в террористический заговор с целью убийства Сталина и других руководителей партии и государства. Ежов на следствии утверждал (или повторял то, что диктовали следователи): «Близость Ежовой к этим людям (Бабелю, Гладуну и Урицкому — Б. С.) была подозрительной… Особая дружба у Ежовой была с Бабелем… Я подозреваю, правда, на основании моих личных наблюдений, что дело не обошлось без шпионской связи моей жены… Я знаю со слов моей жены, что с Бабелем она знакома примерно с 1925 года. Всегда она уверяла, что никаких интимных связей с Бабелем не имела. Связь ограничивалась ее желанием поддерживать знакомство с талантливым и своеобразным писателем… Во взаимоотношениях с моей женой Бабель проявлял требовательность и грубость. Я видел, что жена его просто побаивается. Я понимал, что дело не в литературном интересе моей жены, а в чем-то более серьезном. Интимную их связь я исключал по той причине, что вряд ли Бабель стал бы проявлять к моей жене такую грубость, зная о том, какое общественное положение я занимал. На мои вопросы жене, нет ли у нее с Бабелем такого же рода отношений, как с Кольцовым (М. Е. Кольцов был арестован 14 декабря 1938 года, и Ежов знал о его аресте. — Б. С.), она отмалчивалась либо слабо отрицала. Я всегда предполагал, что этим неопределенным ответом она просто хотела от меня скрыть свою шпионскую связь с Бабелем…» Николаю Ивановичу не хотелось выглядеть рогоносцем, поэтому он с готовностью представил связь Бабеля и Евгении Соломоновны не интимной, а заговорщической. Заодно можно было погубить и любовника жены, к которому Ежов ее сильно ревновал. Посмертно Евгению Соломоновну Ежову объявили шпионкой, организовавшей вместе с мужем, Бабелем и другими заговор с целью покушения на Сталина. А Бабеля расстреляли на восемь дней раньше, чем его соперника-чекиста, — 27 января 1940 года. Судила Ежова 2 февраля 1940 года Военная коллегия Верховного Суда в составе председателя — армвоенюриста В. В. Ульриха и членов суда — бригвоенюристов Ф. А. Клипина и А. Г. Суслина. Ни прокурора, ни адвоката, ни публики в зале суда не было. Только конвойные и секретарь суда — военный юрист 2-го ранга Н. В. Козлов. Возможные надежды Николая Ивановича на проведение открытого процесса не оправдались. Своих выдвиженцев Сталин открытым судом не судил. Тихо, без какой-либо огласки, даже без информации в газетах о приведении приговора в исполнение ушли в небытие члены и кандидаты в члены Политбюро Постышев, Косиор, Рудзутак и Эйхе… Речь Николая Ивановича на закрытом судебном заседании Военной коллегии предназначалась не для оправдания (ибо в смертном приговоре он нисколько не сомневался), а для истории. Ежов хотел остаться в глазах современников и потомков не жалким заговорщиком, «бытовым разложенцем», алкоголиком, гомосексуалистом и наркоманом, а «железным наркомом», «крепко погромившим врагов». Поэтому он заявил: «В тех преступлениях, которые мне сформированы в обвинительном заключении, я признать себя виновным не могу. Признание было бы против моей совести и обманом против партии. Я могу признать себя виновным в не менее тяжких преступлениях, но не тех, которые мнесформированы в обвинительном заключении. От данных на предварительном следствии показаний я отказываюсь. Они мной вымышлены и не соответствуют действительности». Истина же, как пытался уверить Николай Иванович, заключалась в следующем: «Я долго думал, как я пойду на суд, как я должен буду вести себя на суде, и пришел к убеждению, что единственная возможность и зацепка за жизнь — это рассказать все правдиво и по-честному… На предварительном следствии я говорил, что я не шпион, что я не террорист, но мне не верили и применяли ко мне избиения… Тех преступлений, которые мне вменили обвинительным заключением по моему делу, я не совершал и в них не повинен… Косиор у меня в кабинете никогда не был и с ним также по шпионажу я связи не имел. Эту версию я также выдумал. На доктора Тайца я дал показания просто потому, что тот уже покойник и ничего нельзя будет проверить (действительно, Николай Иванович по возможности называл в числе участников мифического заговора умерших людей, которым репрессии, естественно, не грозили. — Б. С.). Тайца я знал просто потому, что, обращаясь иногда в Санупр, к телефону подходил доктор Тайц, называя свою фамилию. Эту фамилию я на предварительном следствии вспомнил и просто надумал о нем показания. На предварительном следствии следователь (вели дело Ежова следователи старший лейтенант госбезопасности А. А. Эсаулов, которому посчастливилось уцелеть, и капитан госбезопасности Б. В. Родос, расстрелянный в 1956 году. — Б. С.) предложил мне дать показания о якобы моем сочувствии в свое время «рабочей оппозиции». Да, в свое время я «рабочей оппозиции» сочувствовал (что не помешало Ежову в 1937-м отправить на смерть А. Г. Шляпникова и других ее членов. — Б. С.), но в самой организации я участия не принимал и к ним не примыкал… С Пятаковым я познакомился у Марьясина (главы Госбанка, расстрелянного 22 августа 1938 года. — Б. С.). Обычно Пятаков, подвыпив, любил издеваться над своими соучастниками. Был случай, когда Пятаков, будучи выпивши, два раза меня кольнул булавкой, я вскипел и ударил Пятакова по лицу и рассек ему губу. После этого случая мы поругались и не разговаривали. В 1931 году Марьясин пытался нас примирить, но я от этого отказался. В 1933–1934 годах, когда Пятаков ездил за границу, он передал там Седову (сыну Троцкого. — Б. С.) статью для напечатания в «Соцвестнике». В этой статье было очень много вылито грязи на меня и других лиц. О том, что эта статья была передана именно Пятаковым, установил я сам. С Марьясиным у меня была личная, бытовая связь очень долго… Марьясина я знал как делового человека, и его мне рекомендовал Каганович Л. М. (это признание можно счесть также косвенным указанием на то, что именно Лазарь Моисеевич был покровителем Ежова и настоял на его переходе в Москву. — Б. С.), но потом я с ним порвал отношения. Будучи арестованным, Марьясин долго не давал показаний о своем шпионаже и провокациях по отношению к членам Политбюро, поэтому я дал распоряжение «побить» Марьясина (а потом точно так же Берия приказал «побить» Ежова! — Б. С.). Никакой связи с группами и организациями троцкистов, правых и «рабочей оппозиции», а также ни с Пятаковым, ни Марьясиным и другими я не имел. Никакого заговора против партии и правительства я не организовывал, а, наоборот, все зависящее от меня я принимал к раскрытию заговора… Будучи в Ленинграде в момент расследования дела об убийстве Кирова, я видел, как чекисты хотели замять дело. По приезде в Москву я написал обстоятельный доклад по этому вопросу на имя Сталина, который немедленно после этого собрал совещание. При проверке партдокументов по линии КПК и ЦК ВКП(б) мы много выявили врагов и шпионов разных мастей и разведок. Об этом мы сообщили в ЧК, но там почему-то не производили арестов. Тогда я доложил Сталину, который вызвал к себе Ягоду, приказал ему немедленно заняться этими делами. Ягода этим был очень недоволен, но вынужден был производить аресты лиц, на которых мы дали материал. Спрашивается, для чего бы я ставил неоднократно вопрос перед Сталиным о плохой работе ЧК, если бы я был участником антисоветского заговора? Мне теперь говорят, что все это ты делал с карьеристической целью, с целью пролезть в органы ЧК. Я считаю, что это ничем не обоснованное обвинение; ведь я начал вскрывать плохую работу органов ЧК. Сразу же после этого я перешел к разоблачению конкретных лиц. Первого я разоблчил Сосновского — польского шпиона. Ягода же и Менжинский подняли по этому поводу хай, и вместо того, чтобы арестовать его, послали работать в провинцию. При первой возможности Сосновского я арестовал. Я тогда же разоблачил Миронова и других, но мне в этом мешал Ягода. Вот так было до моего прихода в органы ЧК. Придя в органы НКВД, я первоначально был один. Помощника у меня не было. Вначале присматривался к работе, а затем уже начал свою работу с разгрома польских шпионов, которые пролезли во все отделы органов ЧК. После разгрома польского шпионажа я сразу же взялся за чистку контингента перебежчиков. Вот так я начал работу в органах НКВД. Мною лично разоблачен Молчанов, а вместе с ним и другие враги народа, пролезшие в органы НКВД и занимавшие ответственные посты. Люшкова я имел в виду арестовать, но упустил его, и он бежал за границу. Я почистил 14 тысяч чекистов (в действительности в 1937–1938 годах было арестовано 11 407 чекистов. — Б. С.). Но огромная моя вина заключается в том, что я мало их почистил. У меня было такое положение. Я давал задание тому или иному начальнику отдела произвести допрос арестованного и в то же время сам думал: «Ты сегодня допрашивал его, а завтра я арестую тебя» (интересно, а задумывался ли Николай Иванович, что послезавтра Сталин арестует его самого? — Б. С.). Кругом меня были враги народа, мои враги. Везде я чистил чекистов. Не чистил их только лишь в Москве, Ленинграде и на Северном Кавказе. Я считал их честными, а на деле же получилось, что я под своим крылышком укрывал диверсантов, вредителей, шпионов и других мастей врагов народа». Ежов особо остановился на своем заместителе Фриновском, с которым, как мы помним, они дружили семьями: «Я все время считал его: «рубаха-парень». По службе я имел с ним столкновения, ругая его, и в глаза называл дураком, потому что он, как только арестуют кого-нибудь из сотрудников НКВД, сразу же бежал ко мне и кричал, что все это липа, арестован неправильно и т. д. И вот почему на предварительном следствии в своих показаниях я связал Фриновского с арестованными сотрудниками НКВД, которых он защищал. Окончательно мои глаза открылись по отношению Фриновского после того, как проявилось одно кремлевское недоверие Фриновскому, о чем сразу же доложил Сталину. Показания Фриновского, данные им на предварительном следствии, от начала и до конца являются вражескими. И в том, что он является ягодинским отродьем, я не сомневаюсь, как не сомневаюсь и в его участии в антисоветском заговоре, что видно из следующего: Ягода и его приспешники каждое троцкистское дело называли «липой», и под видом этой «липы» они кричали о благополучии, о притуплении классовой борьбы. Став во главе НКВД СССР, я сразу обратил внимание на это благополучие и свой огонь направил на ликвидацию такого положения. И вот в свете этой «липы» Фриновский всплыл как ягодинец, в связи с чем я выразил ему политическое недоверие». Не пощадил Николай Иванович и Евдокимова, постаравшегося в буквальном смысле выбить у Ягоды признание: «Евдокимова я знаю, мне кажется, с 1934 года. Я считал его партийным человеком, проверенным. Бывал у него на квартире, они у меня — на даче. Если бы я был участником заговора, то, естественно, должен быть заинтересован в его сохранении, как участника заговора. Но есть же документы, которые говорят о том, что я по силе возможности принимал участие в его разоблачении. По моим же донесениям в ЦК ВКП(б) он был снят с работы… «Если взять мои показания, данные на предварительном следствии, два главных заговорщика, Фриновский и Евдокимов, более реально выглядели моими соучастниками, чем остальные лица, которые мною же лично были разоблачены. Но среди них есть и такие лица, которым я верил и считал их честными, как Шапиро, которого я и теперь считаю честным, Цесарский, Пассов, Журбенко и Федоров. К остальным же лицам я всегда относился с недоверием, в частности, о Николаеве я докладывал в ЦК, что он продажная шкура и его надо понукать… Участником антисоветского заговора я никогда не был. Если внимательно прочесть все показания участников заговора, будет видно, что они клевещут не только на меня, а и на ЦК и на правительство. На предварительном следствии я вынужденно подтвердил показания Фриновского о том, что якобы по моему поручению было сфальсифицировано ртутное отравление. Вскоре после моего перевода на работу в НКВД СССР я почувствовал себя плохо. Через некоторое время у меня начали выпадать зубы, я ощущал какое-то недомогание. Врачи, осматривающие меня, признали грипп. Однажды ко мне зашел в кабинет Благонравов, который в разговоре со мной, между прочим, сказал, чтобы я в наркомате кушал с опасением, так как здесь может быть отравлено. Я тогда не придал этому никакого значения. Через некоторое время ко мне зашел Ваковский, который, увидев меня, сказал: «Тебя, наверное, отравили, у тебя очень паршивый вид». По этому вопросу я поделился впечатлением с Фри-новским, и последний поручил Николаеву провести обследование воздуха в помещении, где я занимался. После обследования было выяснено, что в воздухе были обнаружены пары ртути, которыми я и отравился. Спрашивается, кто же пойдет на то, чтобы в карьеристических целях за счет своего здоровья станет поднимать свой авторитет. Все это ложь. Меня обвиняют в морально-бытовом разложении. Где же факты? Я двадцать пять лет на виду в партии. В течение этих 25 лет все меня видели, любили за скромность, за честность. Я не отрицаю, что я пьянствовал, но работал как вол. Где же мое разложение?.. Когда на предварительном следствии я показал якобы о своей террористической деятельности, у меня сердце обливалось кровью. Я утверждаю, что я не был террористом. Кроме того, если бы я захотел произвести террористический акт над кем-нибудь из членов правительства, я для этой цели никого бы не вербовал, а, используя технику, совершил бы в любой момент это гнусное дело. Все то, что я говорил и сам писал о терроре на предварительном следствии, — «липа». Я кончаю свое последнее слово, я прошу Военную Коллегию удовлетворить следующие мои просьбы: 1. Судьба моя; жизнь мне, конечно, не сохранят, так как я и сам способствовал этому на предварительном следствии. Прошу одно: расстреляйте меня спокойно, без мучений. 2. Ни суд, ни ЦК мне не поверят о том, что я не виновен. Я прошу, если жива моя мать, обеспечить ей старость и воспитать мою дочь. 3. Прошу не репрессировать моих родственников и земляков, так как они совершенно ни в чем не виноваты. 4. Прошу суд тщательно разобраться с делом Журбенко, которого я считал и считаю честным человеком и преданным делу Ленина — Сталина. 5. Я прошу передать Сталину, что никогда в жизни политически не обманывал партию, о чем знают тысячи лиц, знающих мою честность и скромность. Прошу передать Сталину, что все, что случилось, является просто стечением обстоятельств, и не исключена возможность, что и враги приложили свои руки, которые я проглядел. Передайте Сталину, что умирать я буду с его именем на устах». Надо отдать Николаю Ивановичу должное: он старался облегчить участь близких ему людей и даже просил не расстреливать А. С. Журбенко, бывшего начальника Управления НКВД по Московской области. Похоже, Ежов уже не понимал: чем больше он будет хвалить арестованных чекистов и называть их честными людьми, тем вернее их расстреляют. В последнем слове Николай Иванович прямо заявил, что признания были добыты с помощью избиений, и как бы предлагал генсеку спасительную для себя схему: пусть будет заговор, но его руководители — Фриновский и Евдокимов, а он, Ежов, виноват только в том, что не успел вырубить под корень всех чекистов-заговорщиков и не разглядел главного из них в лице своего первого заместителя. Фриновскому «железный нарком» не мог простить рокового доноса. Но Сталина трудно было разжалобить обещанием умереть с его именем на устах. Расстреляли Ежова 4 февраля 1940 года. Трудно сказать, чем была вызвана задержка на сутки с исполнением приговора. Скорее всего, стенограмму последнего слова Николая Ивановича доставили Сталину, и именно генсек должен был дать «добро» на казнь. В ночь на 4 февраля Берия был у Сталина. Не исключено, что тогда Иосиф Виссарионович и санкционировал расстрел Ежова. Возможно и другое объяснение. Чтобы не гонять лишний раз палачей, ждали, когда осудят еще нескольких видных подсудимых. Тот же Фриновский был приговорен к высшей мере наказания как раз 4 февраля, равно как и Николаев. Существует легенда, будто перед расстрелом Ежова подвергли долгим мучениям. Вот как описывают их историки Б. Б. Брюханов и Е. Н. Шошков: «Едва его вывели из камеры, чтобы препроводить в специальное подвальное помещение — место расстрелов, как он оказался в окружении надзирателей и следователей, прервавших допросы ради такого случая. Раздались оскорбительные выкрики, злобная ругань. Он не встретил ни одного сочувственного взгляда. На него смотрели с издевкой и злорадством. В тюремном коридоре ему приказали раздеться догола и повели голым сквозь строй бывших подчиненных. Кто-то из них первым ударил его. Потом удары посыпались градом. Били кулаками, ногами, конвойные били в спину прикладами. Он визгливо кричал, падал на каменный пол, его поднимали и волокли дальше, не переставая избивать. Что посеешь, то и пожнешь». Брюханов и Шошков цитируют документы о приведении приговора в исполнение, до недавнего времени хранившиеся под грифом «совершенно секретно». Неужели мыслимо было утаить обстоятельства смерти Ежова, если на казнь его вели сквозь строй десятков, если не сотен надзирателей и следователей? Нет, конечно же красочные сцены предсмертных мук Ежова не имеют ничего общего с действительностью. На самом деле приведение в исполнение смертных приговоров, да еще таким высокопоставленным осужденным, как Ежов, было заданием сугубо секретным, с хорошо отработанным механизмом. И расстреливал Николая Ивановича только один человек. Скорее всего, комендант НКВД Василий Михайлович Блохин или кто-либо из его подчиненных. Есть еще один рассказ о том, как умирал бывший нарком. Будто бы в расстрельной камере низкорослый Ежов долго метался и приседал, уворачиваясь от пуль, пока одна все же не настигла его. Может быть, в этой легенде и есть доля истины. Если верно утверждение Хрущева, что Ежов страдал не только алкогольной, но и наркотической зависимостью, то следователи могли добиться от него признательных показаний без помощи кулаков или резиновых дубинок. Достаточно было пообещать ему марафет — наркотик, и Николай Иванович подписал бы все, что от него потребовали. А в наказание за фортель, выкинутый на суде, Николая Ивановича наверняка лишили наркотиков. Поэтому в последние два дня перед казнью он должен был испытывать дикую ломку и в момент расстрела вряд ли себя контролировал. Вплоть до конца 80-х о судьбе Ежова ничего достоверно не было известно. Только город Ежово-Черкесск вдруг стал просто Черкесском, а пароход Дальстроя «Николай Ежов» в одночасье превратился в «Феликса Дзержинского». По стране ходили самые разнообразные слухи. Говорили, что бывший нарком допился до потери рассудка и помещен в психиатрическую лечебницу в Казани. Рассказывали, будто Николай Иванович еще много лет благополучно заведовал баней где-то на Колыме. Вероятно, в глазах рассказчиков это и была та «менее самостоятельная работа», о которой просил Ежов на XVIII съезде. Просьбу Ежова не репрессировать его родственников Сталин также не уважил. Отец и мать умерли еще до ареста «зоркоглазого наркома». Брат Иван Иванович был арестован 28 апреля 1939 года, а расстрелян 21 января 1940-го, о чем Николай Иванович так и не узнал. Вот сестре Евдокии Ивановне повезло больше — она умерла своей смертью в Москве в 1958 году. Приемная дочь Ежовых Надя была отправлена в Пензенский детский дом, где жила под чужой фамилией. Ее судьбе посвятил один из лучших своих рассказов — «Мама» — Василий Гроссман. А ведь останься Николай Иванович во главе промышленного отдела ЦК или Комиссии партийного контроля, мог бы и уцелеть и повторить успешную карьеру таких сталинских функционеров, как А. А. Андреев или Н. М. Шверник. Но Ежова погубила его совершенно невероятная исполнительность и аккуратность, равно как и искренняя преданность вождю. Лучшего исполнителя программы Великой чистки Сталину было не найти. Отказаться от назначения Николай Иванович не мог — за несогласие выполнить ответственное партийное поручение Сталин бы крепко наказал, так же как Ягоду. Да Ежов и не думал отказываться. Наоборот, с энтузиазмом выводил на чистую воду «врагов народа». Так что грех Николаю Ивановичу было обижаться на судьбу.
БЕРИЯ

Юноша бледный со взором горящим
29 (а по старому стилю 17) марта 1899 года в горном селении Мерхеули в Абхазии, недалеко от Сухуми, в семье Павле Берии и Марты Джакели родился сын Лаврентий. хоть и находилось село в Абхазии, но жили там одни мингрелы. Это особая этническая группа грузин, к которой собственно грузины относятся свысока. Марта тоже была мингрелка, но из дворян — приходилась дальней родственницей князьям Дадиани, прежним феодальным властителям Мингрелии. Однако род Джакели давно разорился, и Марта была столь же бедна, как и ее муж. Павле Берия крестьянствовал, но так и не выбился из нужды. Жена подрабатывала шитьем, и это постепенно стало главным средством существования для семьи. Внуку Серго Марта потом рассказывала, что покорил ее, рано овдовевшую, Павле храбростью и красотой. К дочери и сыну от первого брака вскоре прибавилось трое детей. Но судьба всех троих сложилась несчастливо. Старший сын в два года умер от оспы. Дочь Анна после перенесенной болезни навсегда осталась глухонемой. Все надежды родители связывали со вторым сыном, Лаврентием. Чтобы дать ему образование, отец даже продал половину своего дома. Будущего шефа НКВД определили в Сухумское реальное училище. В 15 лет Лаврентий окончил его с отличием. Чтобы он смог поступить в Бакинское механико-строительное техническое училище, отцу пришлось продать вторую половину дома и переселиться в убогую хибару. Мальчик был талантлив, и Павле надеялся, что сын далеко пойдет — Лаврентий очень рано обнаружил способности к рисованию и интерес к архитектуре. Но стать зодчим ему не довелось. Еще в октябре 1915 года, как отмечал Берия в автобиографии, написанной 27 октября 1923 года, он с группой студентов училища организовал нелегальный марксистский кружок, просуществовавший до Февральской революции. В марте 1917-го Берия с несколькими товарищами создал в том же училище большевистскую ячейку. В июне его в качестве техника-практиканта армейской гидротехнической школы направляют на Румынский фронт. После развала фронта осенью Лаврентий вернулся в Баку, где в 1919 году закончил техническое училище. В 1919 году по заданию подпольной Коммунистической партии Азербайджана Берия поступает на службу в контрразведку мусаватистского правительства. Позднее, на процессе 1953 года, этот факт расценили как предательство. Однако в архиве сохранилась объяснительная записка старого большевика И. П. Павлуновского, в 1919–1920 годах заместителя начальника Особого отдела ВЧК. В 1926–1928 годах Иван Петрович руководил Закавказским ГПУ, а в 1932 году стал заместителем наркома тяжелой промышленности Серго Орджоникидзе. Его записка датирована 25 июня 1937 года и адресована лично Сталину. Павлуновский писал: перед назначением на работу в Закавказье «т. Дзержинский сообщил мне, что один из моих помощников по Закавказью т. Берия при мусаватистах работал в мусаватистской контрразведке. Пусть это обстоятельство меня ни в какой мере не смущает и не настораживает против т. Берия, так как т. Берия работал в контрразведке с ведома ответственных т. т. закавказцев и что об этом знает он, Дзержинский, и т. Серго Орджоникидзе». В Тифлисе Орджоникидзе подтвердил Павлуновскому, что Берия работал в мусаватистской контрразведке по поручению партии, и об этом известно не только ему, но и Кирову, Микояну и тогдашнему секретарю Кавказского бюро партии А. М. Назаретяну. Говорил он об этом и Сталину. Судя по записке Павлуновского, Орджоникидзе очень высоко ценил Берию, утверждал, что из него вырастет крупный работник. Сталин с характеристикой деловых качеств Берии согласился и через два месяца после подачи записки Павлуновского назначил его заместителем Ежова… Сам Берия никогда не утаивал факт своей службы в мусаватистской контрразведке. В автобиографии 1923 года можно прочесть: «Осенью того же 1919 года от партии Гуммет (пробольшевистская партия Азербайджана. — Б. С.) поступаю на службу в контрразведку, где работаю вместе с товарищем Муссеви. Приблизительно в марте 1920 года, после убийства товарища Муссеви, я оставляю работу в контрразведке и непродолжительное время работаю в Бакинской таможне». Из контекста этого сообщения становится ясно, что в контрразведке Берия служил как тайный большевистский агент и спешно покинул ее после разоблачения и гибели своего сообщника. В 1920 году Лаврентия Павловича направили на нелегальную работу в Грузию, где у власти находилось меньшевистское правительство. Берия выехал туда по фальшивым документам на имя Лакербайя. Арестованный после Второй мировой войны грузинский эмигрант Ш. Беришвили, живший в Париже, на следствии в 1953 году показал: «Когда однажды, в 1928 или 1929 году, я и мой дядя Ной Рамишвили — бывший министр внутренних дел при меньшевиках — прочитали в тбилисской газете «Коммунист» (а газету мы выписывали) о назначении Берии на какую-то должность, то Рамишвили вспомнил в моем присутствии об аресте Берии в 1920 году меньшевистским правительством. Рамишвили сказал, что Берия был арестован начальником особого отряда Меки Кедия в 1920 году, когда Берия из Баку приехал в Грузию по какому-то заданию от большевиков. Рамишвили тогда же сказал мне, что Берия после ареста все рассказал ему о своих заданиях и связях. Я удивился, а Рамишвили велел мне напомнить об этом, когда к нему придет Кедия Меки. Последний к нам вообще приходил часто. Когда к нам пришел Меки Кедия, то мы спросили его об аресте Берии в 1920 году и о том, как Берия вел себя на допросах. Кедия подтвердил, что Берия после ареста плакал и всех выдал, после чего был освобожден». Показания Беришвили как будто подтверждает и двоюродный брат самого Лаврентия Павловича — Герасим Берия. На его квартире Лаврентий останавливался в 1920 году, когда приехал в Тифлис. Герасим сообщил следователям, что нашел брата в тюрьме под его настоящей фамилией, а не под вымышленной Лакербайя. Он также сказал, что на его квартире после ареста Лаврентия особым отрядом был произведен обыск. Интересно, а что писал об этом эпизоде сам Лаврентий Павлович? В автобиографии 1923 года о пребывании в Грузии в 1920 году рассказано так: «С первых же дней после Апрельского переворота в Азербайджане (так коммунисты именовали занятие Баку частями 11-й советской армии. — Б. С.) краевым комитетом компартии большевиков от регистрода (регистрационного, то есть разведывательного отдела. — Б. С.) Кавказского фронта при РВС 11-й армии командируюсь в Грузию для подпольной зарубежной работы в качестве уполномоченного. В Тифлисе связываюсь с краевым комитетом в лице тов. Амаяка Назаретяна, раскидываю сеть резидентов в Грузии и Армении, устанавливаю связь со штабами грузинской армии и гвардии, регулярно посылаю курьеров в регистрод г. Баку. В Тифлисе меня арестовывают вместе с Центральным Комитетом Грузии, но согласно переговорам Г. Стуруа с Ноем Жордания (главой грузинского правительства. — Б. С.) освобождают всех с предложением в 3-дневный срок покинуть Грузию». Далее Берия сообщил, что ему тогда удалось остаться в Грузии и под вымышленной фамилией Лакербайя поступить на службу в представительство РСФСР, которое возглавлял Киров. В мае 1920-го Берия выехал в Баку за директивами в связи с заключением мирного договора между Россией и Грузией (большевики соблюдали его всего несколько месяцев), но на обратном пути его арестовали. Кирову не удалось вызволить Берию, и Лаврентия Павловича отправили в кутаисскую тюрьму, отличавшуюся суровым режимом. Он провел там больше двух месяцев. В августе в результате голодовки политзаключенных Берия и другие большевики были освобождены и высланы в Баку. Там Лаврентий Павлович сразу же был назначен управляющим делами ЦК Компартии Азербайджана. Вряд ли ему доверили бы столь ответственный пост, если бы появились сведения о его недостойном поведении в тюрьме. Замечу, что Герасим Берия наверняка имел в виду первый арест брата, когда тот действительно содержался в тифлисской тюрьме под своей настоящей фамилией. В кутаисской же тюрьме Лаврентий Павлович находился под именем Лакербайя и так и не был опознан грузинскими властями. Насчет участия самого Лаврентия Павловича в знаменитой голодовке сохранилось не слишком лестное для него свидетельство. В характеристике, данной Берии в 20-е годы комиссией ЦК Компартии Грузии, отмечалось: «В тюрьме не подчинялся постановлениям парторганизации и проявлял трусость. К примеру: не принимал участия во время объявления голодовки коммунистов». Но безоговорочно верить этому утверждению нельзя. Мы не знаем, следствием каких интриг в недрах грузинского ГПУ стала приведенная характеристика, где Берия обвинялся также в уклонах к левизне, бюрократизму и карьеризму. В этом же документе признавалось невозможным использовать его на более ответственной работе. Ранее же Лаврентий Павлович получил в Баку в высшей степени превосходную характеристику. Этому предшествовали события, изложенные в автобиографии: «На этой должности (управляющего делами ЦК Компартии Азербайджана. — Б. С.) я остаюсь до октября 1920 года, после чего Центральным Комитетом назначен был ответственным секретарем Чрезвычайной Комиссии по экспроприации буржуазии и улучшению быта рабочих. Эту работу я и т. Саркис (председатель комиссии) проводили в ударном порядке вплоть до ликвидации Комиссии (февраль 1921 года). С окончанием работы в Комиссии мне удается упросить Центральный Комитет дать возможность продолжить образование в институте, где к тому времени я числился студентом (со дня его открытия в 1920 году). Согласно моим просьбам ЦК меня посылает в институт, дав стипендию через БакСовет. Однако не проходит и двух недель, как ЦК посылает требование в Кавбюро откомандировать меня на работу в Тифлис, своим постановлением назначает меня в АзЧека заместителем начальника секретно-оперативного отдела (апрель 1921 г.) и вскоре уже — начальником секретно-оперативного отдела — заместителем председателя АзЧека». В 1923 году секретарь ЦК Азербайджанской компартии Рухулла Ахундов выдал Берии удостоверение-характеристику: «Удостоверение дано сие ответственному партийному работнику тов. Берии Л. П. в том, что он обладает выдающимися способностями, проявленными в разных аппаратах государственного механизма… Работая управделами ЦК Азербайджанской компартии, чрезвычайным уполномоченным регистрода Кавказского фронта при реввоенсовете 11-й армии и ответственным секретарем Чрезвычайной комиссии по экспроприации буржуазии и улучшению быта рабочих, он с присущей ему энергией, настойчивостью выполнял все задания, возложенные партией, дав блестящие результаты своей разносторонней деятельности, что следует отметить как лучшего, ценного, неутомимого работника, столь необходимого в настоящий момент в советском строительстве…» Автор характеристики был арестован и расстрелян в 1938 году, в бытность Берии во главе коммунистов Грузии. Лаврентий Павлович не смог или не захотел чем-либо помочь несчастному. Столь же лестную характеристику дал Берии в 1924 году первый секретарь Закавказского крайкома партии А. Ф. Мясников: «Берия — интеллигент… Заявил себя в Баку как способный чекист на посту заместителя председателя ЧК Азербайджана и начальника секретно-оперативной части. Ныне начсот (начальник секретно-оперативной части. — Б. С.) Грузинской ЧК». В Азербайджанской ЧК Берия сделал немало: активно участвовал в разгроме мусульманской организации «Иттихад» и ликвидации Закавказской организации правых эсеров. За последнюю операцию Лаврентий Павлович был награжден именным «браунингом». В Грузии, где с осени 1922-го Лаврентий Павлович возглавлял секретно-оперативную часть и являлся заместителем начальника местного ЧК, он тоже неплохо показал себя. Как сказано в автобиографии, за сравнительно короткий срок ему удалось ликвидировать бандитизм, принявший было грандиозные размеры в Грузии, разгромить меньшевистскую организацию и вообще антисоветскую партию, несмотря на ее чрезвычайную законспирированность. «Результаты достигнутой работы отмечены Центральным Комитетом и ЦИКом Грузии в виде награждения меня орденом Красного Знамени…» Особенно ярко проявился сыскной талант Берии при подавлении меньшевистского восстания в августе 1924 года. Вот что рассказывает об этом со слов Лаврентия Павловича его сын Серго: «В 1924 году отец, заместитель начальника Грузинской ЧК, узнает, причем заблаговременно, о том, что готовится меньшевистское восстание. Учитывая масштаб будущих выступлений, отец предлагает любыми политическими мерами предотвратить кровопролитие. Орджоникидзе (в честь которого и был назван Серго Лаврентьевич. — Б. С.) в свою очередь передает его информацию в Москву. Ситуация тревожная: разведке достоверно известно, что разработан полный план восстания, готовятся отряды, создаются арсеналы. Выступления вспыхнут по всей республике, и пусть они в действительности не будут носить характера всенародного восстания, но выглядеть это будет именно так. Отец понимал, что эта авантюра изначально обречена на провал, на большие человеческие жертвы. Необходимы были энергичные меры, которые бы позволили предотвратить кровопролитие. И тогда он предложил пойти на такой шаг — допустить утечку полученной информации. Его предложение сводилось к тому, чтобы сами меньшевистские руководители узнали из достоверных источников: Грузинская ЧК располагает полной информацией о готовящемся восстании, а следовательно, надеяться на успех бессмысленно. Орджоникидзе, видимо получив согласие Москвы, не возражал: в той непростой обстановке это было единственно верным решением. Но меньшевики этой информации не поверили и расценили ее всего лишь как провокацию… В Грузию был направлен один из лидеров меньшевистского движения, руководитель национальной гвардии Джугели. О его переброске отец узнал заблаговременно от своих разведчиков и, разумеется, принял меры: Валико Джугели был взят под наблюдение с момента перехода границы. Но всего лишь под наблюдение — арестовывать одного из влиятельных лидеров меньшевиков не спешили. Само пребывание Джугели в Грузии решено было использовать для дела. По своим каналам отец предупредил Джугели, что для Грузинской ЧК его переход границы не секрет и ему предоставлена возможность самому убедиться, что восстание обречено на провал. К сожалению, и эта информация была расценена как провокация чекистов. Джугели решил, что ГрузЧК просто боится массовых выступлений в республике и неспособна их предотвратить, поэтому пытается любыми средствами убедить меньшевистское руководство в обратном. Джугели все же был арестован, но из-за досадной случайности — его опознал на улице кто-то из старых знакомых, и его официально задержали. Уже в тюрьме Джугели ознакомился с материалами, которыми располагала разведка ГрузЧК, и он написал письмо, в котором убеждал соратников отказаться от выступления. Ни за границей, ни в самой Грузии к нему не прислушались. Восстание меньшевики все же организовали, но, как и следовало ожидать, армия его подавила, а народ понес бессмысленные жертвы, которые вполне можно было избежать. Если бы Орджоникидзе вмешался, кровопролития еще можно было не допустить, потому что в первые же часы все руководители восстания были арестованы, склады с оружием захвачены. По сути, армия громила неуправляемых и безоружных людей…» Вполне возможно, что в данном случае Серго Лаврентьевич идеализирует отца. Скорее всего, Джугели, равно как и бывший мэр Тифлиса Баня Чикашвили и бывший член Конституционной ассамблеи Грузии Ной Хомерики, были арестованы превентивно, с целью обезглавить готовящееся восстание. И само восстание было подавлено только через две недели. Причем сначала повстанцам сопутствовал успех и они овладели рядом городов Западной Грузии, в том числе Батуми, Сухуми и Кутаиси. Однако потом сказалось подавляющее превосходство Красной Армии в вооружении, и сторонники независимости Грузии вынуждены были отступить. В начале сентября часть из них через Батумский порт эвакуировалась в Турцию. Многие раненые повстанцы попали в плен. Некоторых из них, в том числе Джугели, Чикашвили и Хомерики, расстреляли, других отправили в концлагеря. Казалось бы, сын стремится представить отца в выгодном свете. Вот и придумал красивую сказку про Лаврентия Павловича — гуманиста, всеми силами стремившегося не допустить напрасного кровопролития. Тем более что существуют слухи (только слухи; документы на сей счет до сих пор не опубликованы), будто как раз своей жестокостью при подавлении грузинского восстания Берия заслужил внимание и благосклонность Сталина. Однако сохранился документ, который заставляет с большим доверием отнестись к сообщению Сергея Лаврентьевича. В конце уже цитировавшейся автобиографии 1923 года, написанной накануне восстания, Берия просит ЦК предоставить ему возможность продолжить образование в техническом институте, поскольку видит свое призвание именно в этой отрасли знаний, а партия сможет после завершения учебы использовать его там, где сочтет нужным. Дело в том, что к моменту отъезда из Баку в Тифлис в 1922 году Лаврентий Павлович успел закончить два курса Бакинского технического института, в который было преобразовано прежнее техническое училище. В 1921 году Берию даже собирались командировать в Бельгию для изучения технологии нефтедобычи, но потом передумали и направили на оперативно-чекистскую работу, где он к концу 1923-го достиг немалых успехов. И вдруг чекиста охватывает тяга к техническим знаниям. Он готов оставить так успешно начавшуюся чекистскую карьеру. Не странно ли? Думаю, Лаврентий Павлович осенью 1923-го знал о готовящемся восстании и не сомневался, что оно будет потоплено в крови. Ему не хотелось участвовать в бессмысленном уничтожении соотечественников-грузин, и он попробовал вернуться в Баку. Не получилось. Если бы старшие товарищи удовлетворили тогда просьбу Лаврентия Павловича, его судьба, возможно, сложилась бы гораздо счастливее. Со временем стал бы Берия видным руководителем нефтяной промышленности, дорос бы до заместителя или даже первого заместителя главы правительства, а в правление Брежнева тихо ушел бы на покой персональным пенсионером союзного значения. Рискну высказать и совсем крамольную мысль. Лаврентии Павлович понимал, что чекистская служба — дело грязное, и у молодого студента в ту пору не очень лежала к ней душа. Вот и попытался перейти на работу более чистую, к которой имел склонность еще до революции. Но стать инженером-нефтяником не удалось. А потом власть развратила Берию, да и выйти из системы он уже не мог. А когда попытался в 1953-м эту систему реформировать, оказалось, что плата за выход — жизнь.Руководитель грузинских чекистов
С несостоявшейся поездкой в Бельгию связана женитьба Берии. Вот что рассказала об этом в годы перестройки его вдова Нина Теймуразовна Гегечкори: «Я родилась в семье бедняка. Особенно трудно стало матери после смерти отца… Росла я в семье родственника — Александра Гегечкори, который взял меня к себе, чтобы помочь моей маме. Жили мы тогда в Кутаиси, где я училась в начальной женской школе. За участие в революционной деятельности Саша часто сидел в тюрьме, и его жена Вера ходила встречаться с ним. Я была еще маленькая, мне все было интересно, и я всегда бегала с Верой в тюрьму на эти свидания. Между прочим, тогда с заключенными обращались хорошо (это свидетельство противоречит утверждению самого Берии в автобиографии 1923 года, будто в кутаисской тюрьме были невыносимые условия. — Б. С.). Мой будущий муж сидел в одной камере с Сашей. Я не обратила на него внимания, а он меня, оказывается, запомнил. После установления Советской власти в Грузии Сашу, активного участника революции, перевели в Тбилиси, избрали председателем Тбилисского ревкома. Я переехала вместе с ними. К тому времени я была уже взрослой женщиной, отношения с матерью (имеется в виду приемная мать, жена Саши Вера. — Б. С.) у меня не сложились. Помню, у меня была единственная пара хороших туфель, но Вера не разрешала мне их надевать каждый день, чтобы они подольше носились. Так что в школу я ходила в старых обносках, старалась не ходить по людным улицам — так было стыдно своей бедной одежды… В первые дни установления Советской власти в Грузии студенты организовали демонстрацию протеста против новой власти. Участвовала в этой демонстрации и я. Студентов разогнали водой из пожарного брандспойта, попало и мне — вымокла с головы до ног. Мокрая, я прибежала домой, а жена Саши Вера спрашивает: «Что случилось?» Я рассказала, как дело было. Вера схватила ремень и хорошенько меня отлупила, приговаривая: «Ты живешь в семье Саши Гегечкори, а участвуешь в демонстрациях против него?» Однажды по дороге в школу меня встретил Лаврентий. После установления Советской власти в Грузии он часто ходил к Саше, и я его уже неплохо знала. Он начал приставать ко мне с разговором и сказал: «Хочешь не хочешь, но мы обязательно должны встретиться и поговорить». Я согласилась, и позже мы встретились в тбилисском парке Недзаладеви. В том районе жили моя сестра и зять, и я хорошо знала парк. Сели мы на скамеечку. На Лаврентии было черное пальто и студенческая фуражка. Он сказал, что уже давно наблюдает за мной и что я ему очень нравлюсь. А потом сказал, что любит меня и хочет, чтобы я вышла за него замуж. Тогда мне было шестнадцать с половиной лет. Лаврентию же исполнилось двадцать два года. Он объяснил, что новая власть посылает его в Бельгию изучать опыт переработки нефти. Однако было выдвинуто… требование — Лаврентий должен жениться. Я подумала и согласилась — чем жить в чужом доме, пусть даже с родственниками, лучше выйти замуж, создать собственную семью. Так, никому ничего не сказав, я вышла замуж за Лаврентия. И сразу же поползли слухи, будто Лаврентий похитил меня. Нет, ничего подобного не было. Я вышла за него по собственному желанию». Для Нины Теймуразовны это, несомненно, был брак по расчету. Хоть она и из дворянского рода, но бедность давно уже заставила позабыть аристократические предрассудки. К тому же после революции дворянское происхождение требовалось скрывать, а не афишировать, и брак с партийцем помогал обрести определенное положение в обществе. Да и Лаврентий Павлович, похоже, женился не только под влиянием романтического чувства — для поездки за границу срочно требовалось обзавестись супругой… В Тифлисе в августе 1924 года Берия возглавил секретно-оперативную часть полномочного представительства ОГПУ в Закавказской Федерации, в 1927 году стал председателем ГПУ Грузии и заместителем председателя ГПУ Закавказья, а в 1931 году — начальником, наряду с грузинскими, и всех закавказских чекистов, сделавшись одновременно полномочным представителем ОГПУ по Закавказью. Лаврентий Павлович трудился не покладая рук, подавляя восстания, выявляя и репрессируя недовольных советской властью. В марте 1929 года в Аджарии произошло одно из крупных выступлений, поводом к которому послужили попытки закрыть медресе и обязать всех местных мусульманских женщин снять чадру. Берия был категорически против столь радикальных мер по борьбе с религией, но руководство Аджарии его не послушало, и восстание предотвратить не удалось. Главе грузинских чекистов пришлось непосредственно руководить его подавлением. Уже 6 апреля 1929 года Берия представил главе Закавказского ГПУ свояку Сталина С. Ф. Реденсу доклад Грузинского ГПУ о событиях в Аджарии. Станислав Францевич оставил на документе красноречивую резолюцию: «Настоящий доклад, объясняющий с точки зрения ГПУ Грузии причину событий в Аджаристане, а также и выводы, настолько исчерпывающие, что специального доклада по этому вопросу ЗакГПУ давать не будет, вполне солидаризуясь с этим докладом». Прежде чем перейти к самому докладу, замечу, что эта резолюция, на мой взгляд, опровергает расхожее мнение о будто бы конфликтных отношениях между Берией и Реденсом. Единственный серьезный аргумент в пользу этой версии — арест Реденса 22 ноября 1938 года по ордеру, подписанному Берией. Сын Станислава Францевича Владимир Аллилуев утверждает: «Сильному, хитрому и прожженному интригану Берия, рвущемуся к большой власти, Редене — человек дзержинской закалки — был совершенно не нужен в качестве начальника, он был ему опасен. Причем опасен вдвойне, ибо мой отец, породненный семьями со Сталиным, имел к нему прямой доступ. Свалить Реденса по деловым качествам Берия было не под силу, и тогда он обращается к приему, которым он мастерски пользовался всю свою жизнь, — нужно человека скомпрометировать. В этом Берия был непревзойденный профессионал. Мать (Анна Сергеевна Аллилуева. — Б. С.) мне потом рассказывала, что отцу было непросто работать в Грузии… Особенно ему досаждали частые застолья и обильные возлияния. Пить он не любил и всячески старался этих застолий избегать. Но в один прекрасный день, где-то под Новый год, Берия со своими людьми хорошенько напоили отца, раздели его и в таком виде пустили пешком домой. «Шуточка» удалась. После этой «шалости» работать в Закавказье на посту полномочного представителя ОГПУ и председателя ГПУ отец уже не мог. В начале 1931 года Реденса переводят в Харьков и назначают председателем ГПУ Украины». Не знаю, действительно ли Редене допился до того, что вернулся домой вкостюме Адама, и была ли это на самом деле «шутка», организованная Берией. Что-то не верится, чтобы Лаврентий Павлович рискнул так пошутить со сталинским свояком. Иосиф Виссарионович, наверное, наказал бы осрамившегося руководителя закавказских чекистов, но расценил бы «шалость» прежде всего как оскорбление, нанесенное ему самому. А уж он-то нашел бы возможность поквитаться с зачинщиком скандала. По свидетельству же Хрущева, Редене сильно злоупотреблял спиртным, так что вполне мог напиться без помощи Лаврентия Павловича. Если даже инцидент с голым Реденсом на тифлисских улицах действительно имел место, то на карьере чекиста он никак не сказался. Украинское ГПУ в табели о рангах стояло гораздо выше, чем Закавказское. А в 1933 году «человек дзержинской закалки» возглавил чекистов Москвы и в разгар «ежовщины» отправил на смерть более 10 тысяч абсолютно безвинных человек. Но, в отличие от Берии, Реденса в 1961 году полностью реабилитировали. Владимир Аллилуев признает тем не менее, что «отец ценил деловые и организаторские способности Берия и даже полагал, что он может возглавить ГПУ Закавказья. Об этом говорится даже в его письме к Г. К. Орджоникидзе». Думаю, здесь передан подлинный характер взаимоотношений Станислава Францевича и Лаврентия Павловича — скорее всего, очень хороших, если не дружеских. Сталин устроил кандидату на место Ежова последнее дьявольское испытание: подпиши ордер на арест друга — и станешь наркомом. Берия испытание выдержал. 20 ноября 1938 года он подписал ордер на арест Реденса, а 25 ноября получил назначение наркомом внутренних дел СССР… Но вернемся к докладу Берии о положении в Аджарии, и в частности в Хулинском уезде, где развернулись основные события. Лаврентий Павлович подчеркивал: «Корни развернувшихся событий кроются не только и не столько в антисоветской работе элементов, издавна враждебных существу Советской власти, сколько, главным образом, в извращении линии партии при проведении советских мероприятий и в ряде объективных причин». Он дал весьма квалифицированный анализ социально-экономической ситуации, показав, что «главным бичом аджарца является малоземелье». Осложняет его положение также плата за пользование пастбищами и вырубку лесов: «Во всех требованиях повстанцев мы находим пункт о бесплатном отпуске леса». Лаврентий Павлович указал на кричащую нищету аджарцев, подчеркнул, что каждое стихийное бедствие или недород обрекает крестьянство на голод: «8 декабря в селении Цхемвени бедняк Хуршуд Эминович Ма-харадзе, 47 лет, в группе крестьян 4–5 человек, высказался: «Кончились у меня и деньги, и кукуруза, что будет с нами зимой, все мы сдохнем с голода, если будет так продолжаться, то Аджария восстанет против коммунистов»… Естественно, что в связи с этой нуждой появляется недовольство властью, усиленно муссируемое кулацкими элементами… Бедственное положение аджарского крестьянства является одной из причин высокого распространения в Аджаристане контрабандного промысла. Имея глубокие экономические корни, контрабанда здесь не уничтожается, несмотря на применение репрессивных мер». Большое недовольство вызвало также введение обязательного государственного страхования скота. Помощь пострадавшему от наводнения населению оказалась расхищена (в 1926/27 году из выделенных 194 тысяч рублей было истрачено по прямому назначению всего лишь 50 тысяч рублей), что также не способствовало популярности коммунистической власти. Вину за вспыхнувшее восстание Берия возлагал на местное партийное руководство: «Поведение довольно значительной части партийцев и комсомольцев во время важнейшей кампании по перевыборам Советов и борьбе с религиозно-бытовой косностью… послужило одной из причин для возникновения выступления… Кратковременные аресты, угрозы и насилия часто сопровождали кампанию по снятию чадры и закрытию медресе. Все это естественно вызывает открытое и явное недовольство широких крестьянских масс, еще больше усугубленное тем, что сами партийцы и комсомольцы не выполняли того, что проводили. В селении Самеба 15.1.29 г. было назначено общее собрание для проведения подготовительной предвыборной кампании. Собрание было собрано жителем села Самеба кандидатом ВКП(б) Коболадзе Хасаном Маму-довичем, который в тот день устраивал свадьбу сестры с подарками и, чтобы не провалить свадьбу, уговорил крестьян вместо собрания прийти на свадьбу. Было приглашено до 200 человек. Среди крестьян на этой почве наблюдались разговоры: наше правительство запрещает нам устраивать свадьбы, однако сами коммунисты делают это, чтобы заработать деньги, назначают свадьбу с подарками, а Коболадзе не задумался даже перед тем, чтобы сорвать собрание крестьян. В селе Тхилвани Схалтинского теми (сельсовета. — Б. С.) ячейка ЛКСМ, секретарем которой состоит Иса Микеладзе, на 100 процентов религиозна. Все члены ячейки до собрания идут молиться… Микеладзе совместно с красноармейцем Патарадзе был на рыбной ловле. Когда настало время молитвы, он бросил все, встал на колени и начал молиться. Во время кампании… по снятию чадры коммунисты, комсомольцы и их семьи не только не давали должного примера массе, но, наоборот, сплошь и рядом способствовали срыву кампании и росту недовольства тем, что, не снимая чадры со своих жен, заставляли это делать других… Слабость партийной и комсомольской организации, отсутствие политического чутья у руководящей верхушки, отрыв их от всей остальной массы крестьянства и резкое пренебрежительное отношение к ним явились важнейшими причинами той ненависти, которую стали питать крестьяне к компартии вообще. «Коммунисты — как волки для нас», — говорили повстанцы в своих речах… Часть партийцев, чтобы избежать побоев и сохранить свою жизнь, примкнула к повстанцам, даже возглавила их небольшие отряды, другая, оставшаяся более или менее верной партии, подверглась гонениям и арестам среди повстанцев». Берия остановился на роли мусульманского духовенства в организации восстания: «Сельское население Аджаристана обслуживается 150 мечетями и двумя сотнями мулл. Таким образом, на каждые 300 крестьян аджарцев приходится один мулла, на каждые 400 — одна мечеть. Материальное положение муллы — выше середняцкого крестьянского хозяйства. В большинстве случаев аджарские муллы могут быть причислены по своему экономическому положению к кулакам… Исключительно духовной деятельностью занимается лишь меньшая половина мулл. Остальные же располагают, кроме того, собственным хозяйством или состоят на советской службе (преподают в советских школах). Средний годовой заработок муллы от мечети 400–500 рублей… Этот заработок уже значительно превосходит среднюю доходность аджарского крестьянского хозяйства… Крестьяне оказывают муллам так называемую «трудовую помощь»… Духовная карьера зачастую привлекает молодое крестьянство, и теперь мы имеем целый ряд групп общей численностью до 100 человек, которые проходят спецкурс в особого рода семинариях и готовятся стать муллами… Аджарский мулла занимает острую антисоветскую позицию не только по мотивам религиозного порядка, но также потому, что хозяйство его — кулацкое хозяйство. Аджарское духовенство сохранило свои права почти в полной неприкосновенности и после советизации. Бывший председатель СНК Химшиашвили организовал духовенство, объединив его в лице муфтиата, и предоставил этому духовенству также льготы и привилегии, которыми оно в Аджаристане никогда не пользовалось». Берия указал и на связь повстанцев с аджарской эмиграцией: «Химшинский уезд являет собою сферу влияния беков из фамилии Химшиевых. Советизация Аджаристана заставила Химшиевых бежать в Турцию и расселиться в пограничной полосе (Ардаган, Поцхов). В Турции Химшиевы чувствовали себя как бы гостями и продолжали себя считать хозяевами Верхней Аджарии. Аджарские крестьяне не порывали связи с беками, общаясь с ними во время летних кочевок. Это позволяло бекам влиять на аджарских крестьян в отрицательную сторону. Всякий провал Советской власти беки раздували, внедряя в сознание аджарца недовольство сов-властью и предвещая близкий ее конец. Постоянное общение с политическими эмигрантами Грузии, Азербайджана и проч, позволяло бекам осведомляться относительно антисоветских планов кавказской эмиграции, что в свою очередь передавалось аджарскому крестьянину. Точно установлено, что до 1927 года аджарцы Хулинского уезда регулярно платили подать своим бекам-эмигрантам». Берия пытался урегулировать конфликт без применения силы: «Полоса мирных переговоров с повстанцами продолжалась до утра 24 марта, и упорное желание наше закончить конфликт без применения репрессий, к сожалению, не дало желаемых результатов». Требования повстанцев включали «свободу религии», «свободные перевыборы Советов»; «открытие медресе»; «отмену запрещения носить чадру»; «изгнание всех грузин и коммунистов»; «смену уездной власти и удаление некоторых наркомов Аджарского правительства»; «амнистию всем участникам восстания и арестованным»; «отмену платы за лес и госстрахования»; «запрещение обучения девочек». Берия докладывал, как удалось подавить восстание: «При первом же появлении воинских частей участники выступления, за небольшим исключением, разошлись по домам почти без всякого сопротивления, и дело обошлось самыми незначительными жертвами. Повстанцы боя не принимали и при первых выстрелах разбегались в разные стороны. Часть из них (около 200 человек) во главе с вожаком Али Султан Болквадзе ушла в Турцию. Уже на другой день, 25.III, все движение было ликвидировано. Общее количество убитых у нас 8, у повстанцев около 30 человек, раненых — 10 у нас и около 30 у повстанцев». Цифры потерь выглядят правдоподобными, поскольку войска, в отличие от восставших, имели в своем распоряжении пулеметы и не испытывали недостатка в боеприпасах. Для оздоровления ситуации Лаврентий Павлович предлагал послать в Хулинский уезд авторитетную комиссию, снять ряд проштрафившихся работников и «особо обследовать вопрос о предоставлении крестьянам леса, госстрахования и о кредите». Чтобы предотвратить аналогичные волнения, Берия хотел провести проверку и в других уездах Аджаристана, и во всех мусульманских районах Грузии. Он понимал, что восстание легче предотвратить экономическими и политическими мерами, чем потом пускать в ход войска. Без нужды Лаврентий Павлович людей никогда не губил. Но и мягкотелостью не страдал. Через несколько недель были сменены основные руководители Аджарии (никто из них не пережил 1937 года), а ряд повстанческих вожаков арестованы и расстреляны. Однако восстание вынудило власти пойти на уступки — разрешить ношение чадры, открыть медресе и не принуждать женщин и девушек посещать школы. Восстание в Хулинском уезде вызвало резонанс в Батуми и других городах Аджарии. Берия с тревогой отмечал, что в разговорах аджарцев «повторялись… требования о свободе чадры и духовного преподавания, закрытия грузинских школ, присоединения к Москве и т. д.». Наряду с этой «московской ориентацией» отношения между грузинами и аджарцами резко обострились. Рабочие-аджарцы нередко вели себя вызывающе (невыход на работу, нанесение побоев), грузины в свою очередь резко и презрительно отзывались о «неблагодарных свиньях — аджарцах» и т. д. С острыми конфликтами между грузинами и армянами, армянами и азербайджанцами, абхазами и грузинами, между различными этнографическими группами внутри закавказских народов Берия был хорошо знаком. В последние годы жизни и после смерти Лаврентия Павловича часто обвиняли в «мингрельском национализме». Но в действительности он с этим национализмом, как, впрочем, и с другими его разновидностями, неустанно боролся в полном соответствии с линией партии. За национальными и политическими требованиями Берия всегда усматривал экономическую основу. С борьбой с «мингрельским сепаратизмом» связана и одна романтическая история, в которой Лаврентий Павлович показал себя неутомимым блюстителем нравственности. 27 октября 1930 года он докладывал руководству Закавказской Федерации: «Председатель Пахуланского колхоза (Цаленджихский район) Леонтий Гогохия около двух месяцев тому назад был арестован по обвинению во вполне доказанном похищении комсомолки Козуа с целью принудить ее ко вступлению с ним в брак. Кроме того, Гогохия имеет за собой ряд затрат, причем только по линии Цекавшири он растратил 13–14 000 рублей… Когда работник Зугдидского отделения Грузинского ГПУ нашел похищенную комсомолку Козуа, вместе с похитителем Гогохия доставил в отделение, туда прибыл секретарь укома т. Жвания и в присутствии начальника отделения т. Закария стал уговаривать Козуа: «Что особенного случилось, Гогохия тебя любит, и ты бы вышла замуж за него…» Т. Жвания говорил комсомолке, что на нее «падет ответственность за гибель Пахуланского колхоза, который неминуемо развалится». Козуа возражала: «Я не только не люблю Гогохия, но даже не уважаю его. Я знала его только как председателя колхоза и, в качестве единственной комсомолки, выполняла всю ложившуюся на меня общественную работу». Параллельно с этим Козуа рассказала, что Гогохия приставал к ней с объяснениями в любви, с письмами и т. д. Она жаловалась в уком и Наробраз (очевидно, Козуа работала учительницей. — Б. С.), но никто не оградил ее от домогательств Гогохия. Вскоре начались различные послабления тюремного режима для Гогохия. Его посещали различные, часто неблагонадежные лица. Через них он проводил кампанию за то, чтобы «крестьянство коллективно потребовало его освобождения». Гогохия послал в Цаленджихский РК КП Г телеграмму с угрозой, что «коллективизации угрожает развал, если его не освободят». Правление колхоза, под влиянием Гогохия, потребовало вызова Гогохия «для выяснения некоторых вопросов». И действительно, Гогохия препроводили в Пахулани под конвоем. Он воспользовался случаем для ведения агитации в пользу «автономной Мингрелии», так как Гогохия примыкал к группировке «автономистов». В расчеты этой группы входит перенесение районного центра из Цаленджихи в Зугдиди, поскольку это должно ослабить остальные районы бывшего Зугдидского уезда за счет одного, главного Зугдидского района. Наконец, недавно Гогохия вовсе освобождается на поруки и руки у него совершенно развязаны, как для сведения личных счетов со своими врагами, так и для «автономистской» деятельности. Необходимо принять меры к тому, чтобы в деле Гогохия не примешивались посторонние впечатления и чтобы следствию была обеспечена беспристрастность». Здесь растратчик и похититель девушки-комсомолки (прямо как в «Кавказской пленнице» — «студентка, комсомолка, красавица») предстает еще и зловредным «мингрельским автономистом», а сам Берия — борцом за девичью честь. Правда, любвеобильность самого Лаврентия Павловича уже тогда была притчей во языцех. Позднее, в 1953-м на следствии, ему это припомнили.Троцкий во главе… турок и дашнаков
Чтобы сберечь средства для начавшейся индустриализации, государство пыталось закупать хлеб у крестьян по низким ценам. Крестьяне стали придерживать зерно, и в результате образовался значительный дефицит хлеба в городах. В январе 1928 года правительство ввело принудительные заготовки определенной части урожая по фиксированным низким ценам. В ответ крестьяне начали уменьшать площадь посевов и забивать скот, лишь бы их хозяйства перевели в разряд середняцких и даже бедняцких и уменьшили тем самым норму налогообложения. Хлебный кризис еще больше усугубился неурожаем на Украине, Северном Кавказе и в Крыму. Бухарин и его сторонники предлагали закупить хлеб за границей, однако Сталин, опираясь на большинство в Политбюро и ЦК, решил перейти к насильственной коллективизации крестьянства. К ней приступили в 1929 году, вошедшем в историю как «год великого перелома». В этом же году фракция «правых», возглавлявшаяся Бухариным, была осуждена Объединенным Пленумом ЦК и ЦКК и XVI партконференцией и утратила всякое влияние на политику государства. Надежды на избавление от тягот хлебного кризиса 1928–1929 годов и сплошной коллективизации крестьяне видели в лидерах антисталинской оппозиции. Так, 5 мая 1930 года Берия докладывал руководству Закавказья о настроениях жителей Эриванского и Ленинакан-ского округов в связи с продовольственными трудностями: «В селении Гейгумбет местными троцкистами ведется провокация о том, что «Красная Армия больше не в состоянии противостоять бандам и в Нахкрае (Нахичевани? — Б. С.) она сдалась бандитам… Троцкий собрал 6000 аскеров из Турции и перешел на сторону дашнаков, и скоро дашнаки во главе с Троцким будут в Армении». Вдохновителем последней провокации (о Троцком) явился бывший руководитель группы троцкистов Акуппорян». Лев Давидович Троцкий, во главе 6 тысяч турецких солдат и дашнаков идущий освобождать Армению от большевиков, — такое способен вообразить только какой-нибудь автор анекдота от армянского радио. Но так уж достал крестьян Сталин, что они могли поверить в примирение двух злейших врагов — турок и дашнаков — и готовность последних подчиниться человеку, который руководил ликвидацией независимой Армении. Участники вспыхнувшего в Азербайджане осенью 1930 года восстания возлагали надежды на лидеров правой оппозиции Сталину. Побывавший у них в плену член партии Рахманов свидетельствовал в ГПУ: «Они называют себя не бандитами, а просто людьми, спасающими свои жизни от произвола местных властей, доведших их до необходимости взяться за оружие. Крестьяне жалуются на свою тяжелую жизнь и безвыходное положение. С одной стороны, они обязаны снабжать хлебом правительство, а с другой стороны — снабжают требующих хлеба бандитов». В общем, красные придут — грабят, белые (точнее, зеленые — ведь восстание шло под зеленым знаменем ислама) придут — опять грабят… В начале декабря 1930 года Закавказское ГПУ докладывало о борьбе с повстанцами в Гянджском уезде Азербайджана, численность которых превышала тысячу человек: «Во главе банддвижения стал бывший член мусаватистского парламента, бывший мулла иттихадист (член исламской партии Азербайджана, с которой в начале 20-х успешно боролся Берия. — Б. С.) Гаджи Ахунд. Объединение бандгрупп под его руководством ставило задачей организацию массового выступления. С этой целью Гаджи Ахунд широко развернул а/с агитацию. Усиленно распространялись слухи «о скором падении Соввласти, приходе англичан, турецких войск» и т. д. Крестьяне призывались к борьбе с колхозами, к вооруженному выступлению «против русских захватчиков, за религию, за освобождение от нищеты» и т. д… Для подтверждения слухов о приходе турецких войск один из бандитов (по распоряжению Гаджи Ахунда) был переодет в турецкого офицера и командирован по селам в сопровождении бандгруппы, которая публично величала его «паша». Бандагитаторы при этом уверяли крестьян в том, что «правые уклонисты солидарны с Гаджи Ахундом» и т. п.». Да, Бухарин, Рыков и Томский впереди, на лихих конях, во главе воинов ислама — это примерно то же самое, что Троцкий, объединяющий под своей командой дашнаков и турецких солдат. Но народы бывшей Российской империи все надеялись, что кто-то придет спасти их от Сталина и большевиков, будь то Троцкий, Бухарин, англичане, турки, черт, дьявол… Хотя Турция в то время вообще была союзником Москвы и турецкие власти препятствовали антисоветской деятельности кавказской эмиграции в приграничных районах. Англия же тогда не имела никаких планов интервенции в СССР. Восстание Гаджи Ахунда поначалу казалось серьезной угрозой. Повстанцам даже удалось больше чем на сутки прервать движение по железной дороге Баку — Тифлис. Однако быстро выяснилось, что разжиться продовольствием в стране, где крестьяне едва сводят концы с концами, нет никакой возможности. Люди Гаджи Ахунда вынуждены были реквизировать продукты у населения, тем самым восстанавливая его против себя. Очень скоро Гаджи Ахунду пришлось раздробить свою армию на мелкие отряды, и большинство повстанцев разошлось по домам. Войска под командованием главы Азербайджанского ГПУ М. П. Фриновского загнали группу Гаджи Ахунда и девять его ближайших сторонников в Дивардинские зимовники, где почти все они, включая лидера, были убиты в бою 9 декабря 1930 года. Поднятое Гаджи Ахундом восстание было подавлено с помощью суровых репрессий. В селах брали заложников, заставляя крестьян выдавать скрывающихся повстанцев. Захваченные в плен участники мятежа и заподозренные в пособничестве им расстреливались на месте. Некоторые добровольно сложившие оружие временно оставлялись на свободе в расчете, что они сагитируют своих товарищей прекратить борьбу. Потом их тихо «изымали» и либо расстреливали, либо отправляли в концлагеря. Сталин читал сводки ГПУ. И боялся, что, если кризис углубится, бывшие вожди оппозиции станут знаменем народного недовольства, а их сторонники на местах, равно как и уцелевшие меньшевики, дашнаки, эсеры и члены других запрещенных партий придадут выступлениям крестьян и рабочих организованность. Поэтому сразу, как только появился подходящий предлог — убийство Кирова, началась широкая кампания превентивных репрессий, достигшая кульминации в 1937–1938 годах. В фабрично-заводском районе Баку осенью 1930 года расклеивали листовки, где утверждалось: «Товарищи! Только Рыков даст нам жизнь, но не Сталин-националист. Да здравствует свободная жизнь. Граждане товарищи, с вас три шкуры дерут. Долой коммунистов-паразитов». Берия с тревогой отмечал, что во время демонстрации 7 ноября 1930 года в столице Азербайджана, хотя «отдельные рабочие выступали против правых уклонистов и призывали вести борьбу с ними… часть выступающих поддерживала правооппортунистические лозунги, отрицая необходимость борьбы с Бухариным, Рыковым и др. «Мы с начала 5-тилетки обвиняли Бухарина за его неправильный подход к вопросам хозяйственного строительства, а на деле вышло, что он прав. Нас морят голодом, зарплаты своевременно не выдают» (рабочий 6-го промышленного Ленрайона беспартийный Ахмед Таги). «Крестьян грабят, не дают им развивать своего хозяйства, народ голодает. Если на сторону Рыкова и других перейдут еще несколько вождей, то тогда разобьют Сталина» (Курдюков, Азнефть, беспартийный)». Продовольственные трудности заставляли людей тосковать по той поре, когда у власти в Закавказье были антисоветские правительства. Так, 30 апреля 1929 года в связи с введением карточек на хлеб — 800 граммов для работающих и 400 для иждивенцев в день — Берия фиксировал в сводке нелестные высказывания рабочих о советской власти: «Не нужно верить брехне нашего правительства. Все, что оно обещало, это ложь. Разве при меньшевиках жизнь не была лучше? Меньшевики были правы, когда боролись с большевиками. Если бы меньшевики остались, то нам не жилось бы так плохо», — сокрушался тифлисский грузчик Лука Богвирадзе. В Баку рабочие тоже поносили советскую власть. Хронометрист отдела турбинного бурения местных нефтепромыслов говорил своим товарищам в ноябре 1930 года: «Ни в одном государстве нет такого хаоса, как у нас. А главковерхи везде и всюду кричат о том, что мы выполняем пятилетку и догоняем Америку. Таких порядков нет даже в самой отсталой стране, к примеру в Индии. Рабочий кушает как свинья, а если станет говорить правду, то его считают антисоветским элементом. Все отправляют за границу, нас морят. А теперь там не принимают, так давай нас давить очередями. На собраниях кругом кричат — у нас есть, у нас много. А мы хлопаем. Дураками нас считают. Мы же все хлопаем и прохлопали все хорошее». Рабочий же трубокотельных мастерских Илья Чернов вспомнил добрым словом царские времена: «Раньше Николай плохой был, а жили как люди. Теперь, говорят, хорошо, а нигде ничего не добьешься». В Армении крестьяне с тоской вспоминали о высланных кулаках и прочих «эксплуататорах». Сводки ГПУ фиксировали, как в апреле 1930 года «в селе Авдибек Аламлинского района на бедняцком собрании выступил батрак Седрак со следующим заявлением: «Что мне дала Советская власть, меня кормил священник, и ему я должен помогать». А в селении Амамлы батрак Пализян говорил совсем уж крамольные вещи: «Наши кулаки такие же батраки, как и я. Я лично работал у кулаков Баграмянов, и они больше меня работали. У нас в селе кто бедняк, тот лодырь. Кого мы называем кулаками — это те люди, которые день и ночь мучаются, работают». Раз такие настроения проявляются даже среди «классово близких» людей, значит, дело плохо. Раскулачивание и раздел добра высланных между остальными крестьянами стало совершенно необходимым для выживания советской власти. Теперь крестьяне были связаны круговой порукой — общим владением чужим имуществом, отделены навсегда от тех, кто работал день и ночь и не боялся отстаивать перед властью свои и общественные интересы. А неуправляемое крестьянское стадо уже можно было загнать в колхоз, когда посулами, а чаще грубой силой. Недовольство сохранялось и в колхозах, но там его гораздо легче было контролировать тому же ГПУ совместно с колхозным руководством. Среди крестьян нарастали настроения безысходности. Берия докладывал: «В селении Карабулаге Абиран-ского района середняк Арутюнян, во время разъяснения статьи т. Сталина «Ответ товарищам колхозникам», заявлял среди крестьян следующее: «Произносят речи ради своего кармана, говорят, что власть рабоче-крестьянская, не верьте. Они врут, имя крестьянина коммунисты используют для того, чтобы мы молчали бы. Нигде правды нет и не будет». Лаврентий Павлович цитировал и образец пропаганды, распространяемой среди крестьян троцкистами: «Партия разлагается, власть потеряла голову и теперь не имеет возможности поставить работу должным образом. Если до сих пор правительство работало сносно, то этим было обязано Ленину и Троцкому, которые руководили работой. А теперь за работу взялся княжеский сын — Сталин (намек на распространенную в Грузии легенду, что настоящим отцом Сталина был князь Эгнаташвили. — Б. С.), который ни одной минуты о крестьянах не думает, старается всячески наши хозяйства уничтожить. Для этой цели он выдвинул коллективизацию, и все, что делается, сами видите своими глазами». Недовольны были и рабочие. В Ереване рабочие маслобойного завода Армхлопка кандидат в члены партии Алике и Саркисян говорили своим товарищам, что «с раскулачиванием кулаков и ликвидацией спекулянтов положение рабочих не улучшилось. В кооперативах, за исключением черного хлеба, ничего нет. Неправильно, что у нас рабочее правительство. Кто получает жирные оклады, тот живет хорошо, а рабочие постоянно нуждаются и питаются черным хлебом. В случае войны в первую очередь отправят нас, а в то время как за рабочими нету ухода». Берия подчеркнул, что «все присутствующие при этом рабочие (17 человек) согласились с этим». Несчастные как в воду глядели: рабочие и крестьяне нужны были как пушечное мясо для грядущей войны. Берия постоянно воевал с партийным руководством Грузии по поводу «перегибов» в проведении антирелигиозной кампании, причем не только по отношению к мусульманам. 3 мая 1929 года в специальной докладной записке «О грузинской церкви» он рекомендовал «несколько ослабить налоговый нажим на духовенство и ни в коем случае не производить арестов представителей последнего без соответствующей санкции со стороны ГПУ. Предложить прокуратуре расследовать все случаи ограбления и поджогов церквей и виновных привлечь к ответственности. Считать абсолютно необходимым вопросы отобрания и закрытия церквей согласовывать с местными органами ГПУ в целях избежания возможных ошибок и систематического разложения грузинского духовенства… Грузинская церковь, несмотря на свое лояльное отношение к власти, влачит жалкое существование. Массовые ограбления церквей, поджоги и разгромы их, насилия местных властей, нередко с участием партийных и комсомольских организаций, приводят церкви к совершенному разрушению, а непосильное налоговое обложение заставляет грузинское духовенство отречься от церкви и искать новые пути заработка. Лишение духовенства самых элементарных прав, как то: свободы передвижения, без арестов и административных высылок, поставило грузинскую церковь перед фактом невозможности существования… Грузинская церковь стирается с лица земли… Творимые безобразия невероятны в правовом государстве… Мы имеем весьма достоверные факты и случаи использования меньшевистской нелегальной организацией творимых безобразий вокруг грузинской церкви для демонстраций против Соввласти и дискредитации местных партийных и комсомольских организаций». Лаврентий Павлович разъяснял, как он сумел «приручить» грузинскую церковь, несмотря на то что католикос открыто выступал против советской власти и поддерживал меньшевиков: «Длительной нашей работой нам удалось создать оппозицию католикосу Амвросию и тогдашней руководящей группе грузинской церкви, и лишь только в 1927 году в январе месяце удалось полностью вырвать из рук Амвросия бразды правления грузинской церковью… В апреле месяце — после смерти католикоса Амвросия — католикосом был избран митрополит Христофор, вполне лояльно относящийся к Соввласти, и уже Собор, избравший Христофора, декларировал свое лояльное отношение к власти и осудил политику и деятельность Амвросия, в частности и грузинскую эмиграцию». Лаврентий Павлович пытался внушить своим партийным товарищам: раньше, при строптивом католикосе Амвросии, церковь прижимали правильно. Зачем же продолжать сводить ее на нет теперь, когда грузинской церковью руководят свои люди? Думаю, в 1943 году Сталин именно по совету Берии ослабил гонения на Русскую православную церковь, пойдя на опробованный в Грузии вариант и поставив во главе ее карманного патриарха, Синод и утверждаемых органами госбезопасности епископов.Борьба с «вредителями» в Закавказье
Несмотря на некоторый либерализм, Лаврентий Павлович послушно выполнял директивы из центра. По образцу московских процессов над «вредителями» он создал дело местной, закавказской «Промпартии». Весной 1930 года была арестована группа инженеров и служащих «Азнефти», занимавшихся строительством нефтепровода Баку — Батум. Выявившиеся при проектировании и постройке нефтепровода ошибки и финансовые злоупотребления объявили вредительством — умышленным разбазариванием народных средств, однако этим деятельность «вредителей» не ограничивалась. 4 мая 1930 года Берия писал председателю Закавказского ЦИКа Михе Цхакая: «Деятели контрреволюционной вредительской нефтяной организации, а также бывшие владельцы нефтяных предприятий, находившиеся за границей, ясно понимали, что одна вредительская деятельность не будет в состоянии вызвать падение Советской власти и что главную надежду надо возлагать на интервенцию. В случае же возникновения такой интервенции контрреволюционная организация должна была оказать ей помощь. В конце 1925 года из-за границы через секретаря Английского посольства Уайта было получено письмо на английском языке за подписью Э. Л. Нобеля и Детеринга (бывших владельцев бакинских нефтепромыслов. — Б. С.) с директивами о подготовке к интервенции. После прочтения письмо было уничтожено. В этом письме, которое, очевидно, было написано по желанию и по указаниям английского военного штаба, предлагалось контрреволюционной вредительской нефтяной организации выделить специальную военную группу и выполнить ряд мероприятий по подготовке к предполагавшемуся на Кавказском берегу Черного моря десанту (Лаврентий Павлович трактовал как подготовку к десанту и намеченное в связи со строительством нефтепровода расширение Батумского порта. — Б. С.)… В конце 1927 года в Москве через Норвежскую миссию и через А. В. Иванова (инженера, «главаря вредителей». — Б. С.) было получено от Э. Л. Нобеля письмо на английском языке… Сообщалось, что военная интервенция, предполагавшаяся на 1928 год, была по политическим соображениям отложена на год, на два». Рабочие встречали сообщения об осуждении инженеров-«вредителей» с энтузиазмом. 17 декабря 1930 года Берия сообщал об откликах на процесс по делу «Промпартии». Рабочие «Тифтрамвая» искренне радовались: «Так им и надо. Пусть знают оставшиеся в живых вредители, что Советская власть жестоко карает тех, кто поднимает против нее свою изменническую руку!» И выражали сожаление, что Рамзину и остальным приговоренным к расстрелу вышло помилование. В Баку настаивали: «Таких подлецов не стрелять надо, а на куски резать». Особенно возмущало пролетариев, что вот инженеры выучились на народные деньги, а теперь гадят, да еще при этом люди гибнут. О том, насколько обоснованны выдвинутые против «спецов» обвинения, рабочая масса не задумывалась. Правда, в конце обзора Лаврентий Павлович привел и критическое мнение о процессе, оговорившись, что высказавшие его лица давно уже разрабатываются ГПУ как «антисоветский элемент»: «В заключение интересно будет привести разговор сотрудников на постройке Дома связи на проспекте Руставели… Чертежник конторы Ястребов сказал: «Осадчий и Шеин, которые на Шахтинском процессе были общественными обвинителями и сидели рядом с государственным обвинителем Крыленко по левую сторону, теперь сами являются подсудимыми». Счетовод Петров ему на это ответил: «Остался только один Крыленко на левой стороне». А бухгалтер Блажиевский закончил разговор следующими словами: «Ничего, на следующем процессе и Крыленко будет сидеть на правой стороне суда». И ведь как в воду глядел тифлисский бухгалтер Блажиевский! В 1938 году прокурор, а с 1936-го и нарком юстиции СССР Н. В. Крыленко был арестован и расстрелян. Правда, судила Николая Васильевича Военная коллегия Верховного Суда в ускоренном порядке, без участия обвинения и защиты, так что на скамье подсудимых несчастному пришлось томиться очень недолго — от силы пару часов. Сталин тоже прочел подготовленную ГПУ сводку высказываний о процессах над «вредителями». Может быть, даже заимствовал оттуда идею насчет Крыленко. Главное же — Иосиф Виссарионович убедился: народ жаждет крови своих врагов и, пожалуй, с особым удовлетворением воспримет казнь бывших членов компартии. Большевиков рабочие и крестьяне не шибко жалуют. А тут появится возможность все тяготы «сплошной коллективизации» и «ускоренной индустриализации» свалить на «плохих большевиков», отведя критику от главного большевика и немногочисленной группы «твердых сталинцев». Это изверги Троцкий и Бухарин, Зиновьев и Рыков, Каменев и Сокольников и прочие устраивали диверсии, уничтожали хлеб, чтобы спровоцировать голод, организовывали саботаж заданий пятилетки. А им помогали десятки, сотни тысяч троцкистов и бухаринцев по всей стране. Вот на кого можно было списать ошибки и произвол районной и областной номенклатуры.Пламенный вождь закавказских коммунистов
На высоких чекистских постах Лаврентий Павлович оставался до ноября 1931 года, когда его сделали первым секретарем Компартии Грузии и вторым секретарем Закавказского крайкома ВКП(б). Тогда же по случаю десятилетия Грузинской ЧК председатель ОГПУ В. М. Менжинский издал специальный приказ, где с большим удовлетворением отметил, что «огромная напряженная работа в основном проделана своими национальными кадрами, выращенными, воспитанными и закаленными в огне боевой работы под бессменным руководством тов. Берии, сумевшего с исключительным чутьем всегда отчетливо ориентироваться и в сложнейшей обстановке, политически правильно разрешая поставленные задачи, и в то же время личным примером заражать сотрудников, передавая им свой организационный опыт и оперативные навыки, воспитывая их в безоговорочной преданности Коммунистической партии и ее Центральному Комитету». А в октябре 1932 года Лаврентий Павлович стал един в трех лицах, возглавив парторганизации Закавказья, Грузии и Тбилиси. К ордену Красного Знамени Грузинской ССР на груди Берии добавились такие же ордена РСФСР, Армянской ССР и Азербайджанской ССР. В 1934 году на XVII съезде партии его сразу же избирают полноправным членом ЦК. 13 июля 1932 года Берия написал секретарю ЦК Л. М. Кагановичу достаточно традиционное для местных руководителей письмо, где просил снизить план сельхоззаготовок и помочь техникой: «Дорогой Лазарь Моисеевич!.. Хлебозаготовки этого года потребуют огромного напряжения. Прежде всего, о плане. Мы очень тщательно подсчитали, проверили и пришли к убеждению, что заданная Закавказью цифра чрезмерно велика, непосильна и попытка ее реализации может создать крупные осложнения… В прошлом году задание по хлебозаготовкам в порядке «встречных» планов было перевыполнено, но деревня оказалась накануне восстания, мужик уходил в лес. В этом году, благодаря большому неурожаю, перспективы значительно хуже. Неурожай, вызванный сильной засухой, охватил почти все Закавказье, в особенности Грузию и Армению. При таких условиях нам волей-неволей приходится ставить вопрос о снижении хлебозаготовок до уровня реальных возможностей. Мы подсчитали, что по крестьянскому сектору сможем заготовить не более 2,5 млн. пудов… Таким образом, нам план должен быть снижен примерно на 1,5 миллиона пудов. Это абсолютно необходимо, иначе мы не гарантированы от повторения рецидивов прошлого года… Огромное снижение поголовья, явившееся следствием перегибов, допущенных в прошлом, чрезвычайно затруднило выполнение плана по скотозаготовкам… Проводящиеся в настоящее время заготовки технических культур (коконов и пр.) сильно тормозятся благодаря отсутствию дензнаков. Ежедневно с мест поступают десятки телеграмм, которые Госбанк не в состоянии удовлетворить. За отсутствием денежных средств задерживается также выдача зарплаты, что вызывает повсеместно большое недовольство. При этом следует отметить, что мобилизация денежных ресурсов и реализация займа протекают у нас далеко не плохо. По мобилизации денежных ресурсов контрольная цифра выполнена на 93 процента… Напряженность положения с денежными ресурсами в числе прочих причин объясняется значительным оседанием денег на селе. Товаропроводящая сеть на селе задерживает и замедляет оборот средств, с другой стороны, развитие колхозной торговли не обеспечено еще в достаточной мере товарами ширпотреба, способствует накоплению денежных средств у крестьян. Приток средств в деревню в настоящее время далеко превышает возможности мобилизации средств у населения…» Берия просил Лазаря Моисеевича помочь с автотранспортом: «С мест идут буквально вопли о помощи транспортными средствами… Мы стоим перед угрозой гибели части урожая технических культур, которые не удастся вывезти даже при условии мобилизации всего имеющегося авто- и гужевого транспорта. Я уже не говорю о том, что за отсутствием легковых машин чрезвычайно затрудняется связь с районами и срывается выполнение срочных заданий. Аппарат ЦК имеет на ходу только одну машину, которая к тому же по несколько раз в неделю портится. В переговорах с Вами и с товарищем Молотовым мне было обещано выделить для Грузии известное число грузовых и легковых автомашин и автобусов. До сих пор, видимо, не представилось возможным реализовать это обещание. Очень прошу помочь нам в этом деле. Нам нужно на первое время 15–20 легковых машин (фордов), 20 грузовиков, 10–15 автобусов. Это наша минимальная потребность, и я думаю, что в интересах дела ее нужно удовлетворить еще в текущем квартале». Замечу, что требования главы коммунистов Грузии более чем скромные. Подозреваю, что накануне Первой мировой войны кавказский наместник имел парк легковых автомобилей побольше, чем Лаврентий Павлович почти два десятилетия спустя. Особо жаловался Берия на работу железных дорог: «Работа Закавказских железных дорог все время ухудшается… Если в 1931 году Закавказские железные дороги по своим показателям занимали первое место среди дорог всего Союза, то в настоящее время они сползли на 9 место с тенденцией к дальнейшему ухудшению. По оценке НКПС (Наркомата путей сообщения. — Б. С.), Закавказские железные дороги по состоянию скоростной езды, ремонта паровозов и их эксплуатации стоят на одном из последних мест… Основной причиной создавшегося положения, несомненно, является неслаженность руководства дороги и ее дирекции. Отсюда отсутствие дисциплины, интриги, групповая борьба, дезорганизация аппарата и проч. Нет твердой руки в управлении, во всех вопросах проявляется какая-то мягкотелость, половинчатость, нерешительность. Нужно этому положить конец. Нужно, чтобы НКПС вплотную занялся Закавказскими дорогами и как следует расшерстил аппарат во главе с дирекцией. На днях по этому вопросу имел разговор с т. Папулия Орджоникидзе. Я ему прямо сказал, что нельзя со всеми драться, нельзя вечно быть на ножах с руководящим составом дирекции, с отделами, с секретарем ЗКК по транспорту, с ДТО ОГПУ и др. Нужно наладить, наконец, деловую работу. Тов. Папулия со мной как будто согласился и обещал наладить отношения. Что из этого выйдет, не знаю». Берия покритиковал и недавно смещенного с поста первого секретаря Закавказского крайкома Мамию (Ивана) Орахелашвили: «Тов. Мамия Орахелашвили продолжает быть недовольным и дуется. Он даже перестал ходить на бюро ЦК. Теперешним положением он определенно не доволен, хотя я делаю все, чтобы избежать в пределах возможности столкновения с ним. Он, видимо, не понимает или не хочет понять, что для создания деловой атмосферы: для выполнения тех задач, которые поставлены перед нами решениями партии и правительства и Вашими указаниями, нужна твердая рука, нужна решительность и четкость в работе, и больше всего в этом нуждается грузинская организация, в которой со времени ухода тов. Серго не прекращались интриги и групповая борьба. Только твердая рука, последовательная и ясная позиция могут создать деловую атмосферу работы и покончить с бесконечными склоками, разъедавшими организацию. Это лучше всего подтвердилось опытом истекших 7–8 месяцев работы, и я думаю, что этот опыт для многих (за исключением, может быть, тов. Мамия) не прошел даром. На этом опыте, в этой атмосфере люди научились по-новому работать, по-новому подходить к делу, и мне думается, что уже это одно является немаловажным достижением». К письму Лаврентий Павлович добавил от руки очень многозначительный постскриптум: «Былдва раза у т. Коба и имел возможность подробно проинформировать его о наших делах. Материалы по вопросам, затронутым в этом письме, переданы также товарищу Коба». Значит, Берия в то время был уже вхож к Сталину и делал красноречивый намек Лазарю Моисеевичу, что просьбы закавказских коммунистов, скорее всего, будут удовлетворены генсеком. Лаврентий Павлович знал, что группировка Орджоникидзе — Ломинадзе впала в немилость у Сталина и не пожалел критических стрел в адрес близкого к ней Орахелашвили и брата Серго Орджоникидзе — Папулии (оба они погибли во время Великой чистки). Следует отметить, что финансовые трудности, равно как и трудности с выполнением плана государственных сельхозпоставок оставались постоянным фоном пребывания Берии в Закавказье. Задержки с выплатой зарплаты в 30-е годы были столь же обычным явлением в СССР, как и в России в 90-е. В конце 1936 года Лаврентий Павлович вновь писал Кагановичу: «Т. Лазарь Моисеевич! Как ни крутимся и прилагаем все силы, чтоб выйти из тяжелого положения с финансами, дело у нас все же плохо. У нас задолженность по зарплате, но очень большая, мы своими силами не вытянем. Почему так? 1) Товаров мало поступает в наш край. 2) Нет товаров для коммерческой продажи. Что касается сбора денресурсов, ты знаешь, что эта работа у меня поставлена хорошо, и во всем Союзе иду впереди всех. Отсутствие товаров нас режет. Нужно как-нибудь нам помочь. Все я сделаю, но без помощи центра с зарплатой не справлюсь… Помоги нам. Привет. Лаврентий». Об одном из источников финансирования Закавказья при Берии Ежов докладывал Сталину 6 сентября 1936 года: «Дело с кредитованием Самтреста Грузии проверил. Вина Марьясина целиком подтверждается. Финансовая сторона дела такова. В начале 1936 года бывший председатель Госбанка Калманович незаконно кредитовал Самтрест Грузии в размере 22,5 миллиона рублей. Марьясин не только не принял никаких мер к понуждению Самтреста погасить банковскую задолженность, но, наоборот, неоднократно отсрочивал очередные платежи и производил дальнейшее совершенно незаконное и неправильное кредитование Самтреста. Сверх 22,5 миллиона рублей… выдал еще дополнительную ссуду в 5300 тысяч рублей. В результате такого широкого кредитования задолженность Самтреста Госбанку на 1 февраля 1936 года составляла 77 миллионов рублей». Марьясин получил строгий выговор и был отстранен от руководства Госбанком. Берия же не пострадал. Можно предположить, что кредиты Грузии отпускались с одобрения Сталина, Молотова или Кагановича, а потом крайним сделали близкого к Пятакову Марьясина, который вскоре был репрессирован. Вряд ли одной только Грузии отпускались кредиты такого рода. Вероятно, дело о незаконном кредитовании Самтреста понадобилось как предлог для устранения очередного «врага народа». Когда познакомились Берия и Сталин, достоверно неизвестно. Некоторые историки относят это событие ко времени подавления меньшевистского восстания в августе 1924 года. Возможно, это произошло и раньше. Во всяком случае, уже в январе 1924 года Берия докладывал лично Сталину о том, что Троцкий был столь слаб в день похорон Ленина, что не смог выступить публично, а лишь написал статью, которую прочитали по радио. Кстати, этот доклад опровергает версию самого Троцкого, что он не приехал на похороны из-за козней Сталина, сообщившего неверную дату траурной церемонии. Судя по всему, Лев Давидович был действительно болен и физически не мог присутствовать на прощании с Лениным. Берия немало сделал для развития культа Сталина в Закавказье. Под его именем вышла книга по истории большевистских организаций в крае, где главные заслуги в борьбе с царизмом приписывались «великому кормчему». Об этой книге, вызвавшей одобрение Сталина, я расскажу дальше. А вот издание Берией сборника ранних сталинских работ Иосифу Виссарионовичу не понравилось. 17 августа 1935 года он телеграфировал из Сочи Кагановичу, Ежову и Молотову: «Прошу запретить Заккрайкому за личной ответственностью Берия переиздание без моей санкции моих статей и брошюр периода 1905–1910 годов. Мотивы: изданы они неряшливо, цитаты из Ильича сплошь перевраны, исправить эти пробелы некому, кроме меня, я каждый раз отклонял просьбу Берия о переиздании без моего просмотра, но, несмотря на это, закавказцы бесцеремонно игнорируют мои протесты, ввиду чего категорический запрет ЦК о переиздании без моей санкции является единственным выходом. Копию решения ЦК пришлите мне». Сталина, разумеется, не неточность заботила, а то, что его позиции тех лет по некоторым вопросам, упоминание в положительном контексте ряда имен не соответствовали политической конъюнктуре 30-х годов. Статьи надо было основательно почистить, а услужливый Лаврентий, выпустив их в первозданном виде, поставил своего покровителя в неудобное положение. Но этот грех Иосиф Виссарионович Берии простил. Тем более что тот активно занялся большим и нужным делом: организацией музея Сталина в Гори. Об этом музее в 1934 году Заккрайком принял специальное постановление. На родине вождя предполагалось не только отреставрировать дом-музей, но и выстроить рядом кинотеатр, драматический театр, библиотеку, гостиницу и Дом колхозника. Приехавшая в Грузию в сентябре 1935-го инструктор ЦК ВКП(б) Г. А. Штернберг докладывала Кагановичу: «Совершенно правильно поднят вопрос т. Берия и отдельными товарищами из районной парторганизации в Гори о необходимости, в связи с реконструкцией района, где жил товарищ Сталин, выселить 40–50 семей, построив для переселения выселяемых 2 жилых дома по 20 квартир в каждом доме. Это, в сущности, вопрос дополнительных 400–500 тысяч рублей (в 1934 году весь бюджет города Гори составлял 907 тысяч рублей. — Б. С.). Но совершенно независимо от источника ассигнований потребной суммы постройку этих домов необходимо осуществить, с тем чтобы выселенные почувствовали бы улучшение своих условий в связи с общей реконструкцией района и реставрацией дома, где жил Великий Сталин». Во время той поездки Штернберг завязалась интрига вокруг книги Берии «К вопросу об истории большевистских организаций Закавказья» (1935). Вернувшись в Москву, инструктор 10 апреля 1936 года написала заявление в КПК, где утверждала, что супруги Сеф и Янушевская в беседе с ней жаловались, что в действительности эту книгу написал не Берия, а Сеф. Позднее, в сентябре 1936 года, она так изложила обстоятельства появления на свет крамольных высказываний: «В беседе со мной по вопросу о книге т. Берия… Янушевская в довольно откровенной форме дала понять, что этот доклад т. Берия является результатом работы Сефа. Эта постановка вопроса заставила меня насторожиться. По приезде в Москву в беседе с т. Райской М. Я., членом партии с 1918 года… о книге т. Берия, она мне также сказала, что книга т. Берия — это результат работы Сефа. Эту антипартийную болтовню мне удалось узнать из двух источников в Тифлисе и Москве, и для меня совершенно ясно, что эти разговоры значительно шире». Штернберг указала, что и С. Е. Сеф, и Л. П. Янушевская были участниками ленинградской зиновьевской оппозиции, и разразилась гневной филиппикой: «Считаю эти разговоры антипартийными, злостной клеветой на лучшего ученика т. Сталина т. Берия. Мной об этих разговорах было подано заявление на имя секретаря ЦК ВКП(б) т. Ежова в апреле или марте 1936 года, и тов. Шацкой — инструктору ОРПО (организационно-распределительного отдела. — Б. С.) я об этом сказала значительно раньше (сейчас же по приезде)». В апрельском заявлении этот пассаж звучал немного иначе: «Считаю, что Сеф, сохранивший себя в рядах нашей партии, до настоящего времени продолжает свою гнусную работу и клевещет на одного из учеников т. Сталина т. Берия». В августе — сентябре 1936 года партколлегия КПК по Закавказью разбирала дело об «антипартийной болтовне» Сефа и Янушевской и, судя по всему, исключила их из партии. Забегая вперед, предположу, что, вероятно, высказывания Сефа да дело о финансовых послаблениях, сделанных Марьясиным Берии, были единственным серьезным компроматом, которым располагал Ежов против Лаврентия Павловича в 1938-м, когда того назначили в НКВД. Но не идти же с этими фактами к Сталину. История с кредитом была неоригинальна, поскольку все партийные руководители на местах пытались выбить в Москве средства для своих регионов. Да и здесь больше был виноват не Берия, а ежовский собутыльник Марьясин. Что же касается случая с Сефом, то спичрайтеры имелись если не у всех, то у многих партийных руководителей. Книга Берии, судя по всему, стала продуктом коллективного творчества… В Закавказье Лаврентий Павлович принял активное участие в терроре 1937–1938 годов, широко применял санкционированное Ежовым и Сталиным избиение подследственных. Сохранилось немало рассказов об этом. Нарком внутренних дел Грузии в 1934–1938 годах Гоглидзе вспоминал на следствии в 1953-м, что Лаврентий Павлович еще в бытность во главе грузинских коммунистов «мне и Кобулову давал неоднократные указания побить того или иного арестованного по конкретным делам». Впрочем, вряд ли другие секретари обкомов и республиканских компартий вели себя в период Великой чистки как-то иначе. Особенно те, что уцелели. Добавлю, что, еще будучи заместителем Ежова, Берия лично участвовал в «допросах с пристрастием». Бывший начальник Лефортовской тюрьмы Зимин сообщил в 1957 году, что сам видел, как «Берия избивал Блюхера, причем он не только избивал его руками, но с ним приехали какие-то специальные люди с резиновыми дубинками, и они, подбадриваемые Берией, истязали Блюхера, причем он сильно кричал: «Сталин, слышишь ли ты, как меня истязают». Берия же в свою очередь кричал: «Говори, как ты продал Восток». На февральско-мартовском Пленуме 1937 года он сообщил, что только за последний год в Грузию вернулось почти полторы тысячи меньшевиков, дашнаков и мусаватистов, причем «за исключением отдельных единиц, большинство из возвращающихся остается врагами Советской власти, является лицами, которые организуют контрреволюционную вредительскую, шпионскую, диверсионную работу… Мы знаем, что с ними нужно поступить как с врагами». А 17 июля 1937 года Лаврентий Павлович докладывал Сталину о разоблачении очередного «заговора»: «В Аджарии раскрыта контрреволюционная организация, связанная с турецкой разведкой и ставящая своей целью присоединение Аджарии к Турции. Организация вербовала себе сторонников и последователей в деревнях Аджарии, увязывая свою работу с эмигрантскими элементами, находящимися в Турции. Показаниями почти всех арестованных председатель ЦИК Аджарии Лордкипанидзе Зекерий изобличается в том, что он является руководителем этой контрреволюционной организации и связан с турецким консулом в Батуми и турецкой разведкой. Прошу санкционировать его арест. В настоящее время Лордкипанидзе находится под наблюдением для предотвращения возможного бегства за границу. В ближайшие дни представлю кандидатуру аджарца на пост председателя ЦИК Аджарии». Сталин оставил резолюцию: «Т. Берия! ЦК санкционирует арест Лордкипанидзе». Ясно, что ни с каким ЦК он не советовался, а единолично решил судьбу несчастного Зекерия, который ни с какой разведкой связан не был, а от аджарских эмигрантов мог ждать только смерти. Но она настигла Лордкипанидзе от рук «своих».«Оттепель» на Лубянке
В августе 1938-го Лаврентия Павловича назначили первым заместителем наркома внутренних дел СССР Н. И. Ежова, вместо М. П. Фриновского. В покаянном письме Сталину в конце ноября Николай Иванович вспоминал, как Фриновский советовал: «Держать крепко вожжи в руках. Не хандрить, а взяться крепко за аппарат, чтобы он не двоил между т. Берия и мной (Ежовым. — Б. С.). Не допускать людей т. Берия в аппарат». Фриновский в начале 30-х работал председателем ГПУ Азербайджана и часто конфликтовал с главой Закавказского ГПУ Берией. Теперь Михаил Петрович предупреждал Ежова, какой это опасный враг. Но их судьба уже была решена Сталиным… 26 ноября Лаврентий Павлович в качестве уже главы НКВД подписал приказ о порядке осуществления постановления от 17 ноября. В рамках этого приказа из тюрем было освобождено немало арестованных, осужденных на основании выбитых следователями признаний, а также многие из тех, кто так и не признал свою вину. В 1939 году Берия издал ряд приказов о снятии с должностей и предании суду работников НКВД, виновных в фальсификации уголовных дел. 9 ноября появился приказ «О недостатках в следственной работе органов НКВД», предписывавший освободить из-под стражи всех незаконно арестованных и установить строгий контроль за соблюдением уголовно-процессуальных норм. Разумеется, репрессии не коснулись бериевских выдвиженцев, до этого активно участвовавших в проведении «ежовшины», — братьев Амаяка и Богдана Кобуловых, занявших ответственные посты на Украине и в Москве, С. А. Гоглидзе, ставшего главой Ленинградского НКВД, нового наркома внутренних дел Грузии А. Н. Рапавы, В. Н. Меркулова, утвержденного первым заместителем Лаврентия Павловича и начальником Главного управления государственной безопасности, а с января 1941-го — наркомом государственной безопасности СССР, П. Я. Мешика, назначенного помощником начальника следственной части НКВД СССР, а позднее — руководителем украинских чекистов, В. Г. Деканозова, отныне начальника иностранного отдела НКВД, и некоторых других, работавших вместе с Берией в Закавказье. Сам Лаврентий Павлович после XVIII съезда партии в марте 1939 года был избран кандидатом в члены Политбюро. Точные данные о числе освобожденных из тюрем в 1938–1941 годах, во времена «бериевской оттепели», до сих пор не опубликованы, равно как и сведения о числе арестованных в этот же период по политическим обвинениям. Серго Берия полагает, что первых насчитывалось 750–800 тысяч, вторых — 20–25 тысяч. В точности этих цифр позволительно усомниться. По данным МВД, с 1 января 1939 года по 1 января 1941 года численность «контрреволюционеров», находившихся в исправительно-трудовых лагерях, сократилась только на 34 тысячи человек. До этого за один только 1938 год она возросла почти в два с половиной раза — с 185 до 454 тысяч. Число заключенных в тюрьмах сначала тоже уменьшилось — с января по сентябрь 1939-го с 351 до 178 тысяч. Зато уже с сентября вновь стало расти: пошел поток арестованных с «освобожденных территорий» — Западной Украины и Западной Белоруссии, а позднее — Прибалтики и Бессарабии. Кроме того, с лета 1940-го в тюрьмы помещали заключенных на срок от двух до четырех месяцев за опоздание на работу, выпуск недоброкачественной продукции, прогулы и т. п. Таких к 1 декабря 1940 года насчитывалось 133 тысячи. В результате в январе 1941-го тюремное население достигло максимума — 488 тысяч, чтобы опять сократиться к маю до 333 тысяч. К тому времени многих арестованных успели осудить и отправить в исправительно-трудовые лагеря. Оттуда в 1939–1940 годах вышло 540 тысяч заключенных. Для сравнения: в 1937–1938 годах лагеря покинули 644 тысячи человек. Наибольшее число зеков обрели свободу в 1941-м — 624 тысячи: значительную часть мужчин выпустили из лагерей досрочно, чтобы восполнить колоссальные потери, которые несла Красная Армия на фронте. Кроме того, большинство заключенных имели не политические, а уголовные статьи и освобождались по истечении срока заключения, а не по реабилитации или амнистии. О числе реабилитированных в тот период узников известны лишь отрывочные сведения. Так, на 1 января 1941 года на Колыме находились 34 тысячи освобожденных из лагерей, из них 3 тысячи считались полностью реабилитированными. Ясно, однако, что общее количество реабилитированных и амнистированных могло составить десятки, но никак не сотни тысяч человек. Вот расстрелянных с приходом Берии действительно стало меньше на порядок. За весь период 1921–1953 годов к смертной казни по политическим статьям были приговорены 786 098 человек: в 1937–1938 годах расстреляны 681 692 человека, из них 631 897 — по приговорам внесудебных «троек». Таким образом, почти половина из 1 миллион 372 тысяч арестованных за «контрреволюционные преступления» в период «ежовщины» была казнена. А всего за два с небольшим года пребывания в НКВД печальной памяти Николая Иванович были расстреляны почти 7/8 от общего числа приговоренных к смерти по политическим статьям за три десятилетия сталинского правления. В то же время наивно думать, что террор был ослаблен благодаря Берии. Решения принимал не он, а Сталин. Но столь же несправедливо возлагать ответственность за позднейшие репрессии на одного Лаврентия Павловича. Ее с ним должны разделить Сталин и другие члены высшего политического руководства страны. Согласно приведенной выше статистике, за время руководства Берией карательными органами было расстреляно около 100 тысяч человек. Но, по всей вероятности, и эта цифра существенно занижена. Так, по официальным данным, в 1939–1940 годах было уничтожено 4464 человека. Между тем лишь в апреле — мае 1940 года только польских офицеров, а также помещиков, фабрикантов и представителей интеллигенции было казнено почти 22 тысячи человек. Вероятно, официальные данные приуменьшены еще на несколько десятков тысяч за счет «контрреволюционеров», расстрелянных «в особом порядке» в Западной Украине, Западной Белоруссии, Бессарабии и Прибалтике. В целом «бериевская оттепель» существенно не повлияла на численность заключенных, в том числе и политических. Тем не менее выход из лагерей нескольких тысяч представителей партийной и военной элиты, взятых при Ежове, отразился в общественном сознании и породил миф о массовом освобождении политических заключенных. На самом деле более или менее значительное их количество покинули тюрьмы, где сидели те, кому еще не успели вынести приговор. Отменять прежние решения Сталин, за редким исключением, не позволил, чем и объясняется ограниченный характер «бериевской оттепели». Жертвами незаконных репрессий при Берии стало немало выдающихся людей — режиссер В. Э. Мейерхольд, журналист М. Е. Кольцов, писатель И. Э. Бабель и др. Были расстреляны крупные партийные руководители — Р. И. Эйхе, С. В. Косиор, В. Я. Чубарь, А. В. Косарев и др. (некоторых из них арестовали еще при Ежове). Ко вновь арестованным применялись те же методы следствия, которые ЦК формально осудило в ноябре 1938-го. В мае 1939-го был взят старый большевик М. С. Кедров, дядя расстрелянного в 1937-м бывшего начальника иностранного отдела НКВД А. X. Артузова. Михаилу Сергеевичу предъявили вымышленные обвинения в шпионаже, сотрудничестве с охранным отделением и вредительстве в годы Гражданской войны. Кедров безуспешно обращался к ЦК, настаивая на своей невиновности. 19 августа 1939 года он писал, не зная, что его письма не пойдут дальше Следственной части НКВД: «Из мрачной камеры Лефортовской тюрьмы взываю к вам о помощи. Услышьте крик ужаса, не пройдите мимо, заступитесь, помогите уничтожить кошмар допросов, вскрыть ошибку. Я невинно страдаю. Поверьте. Время покажет. Я не агент-провокатор царской охранки, не шпион, не член антисоветской организации… Пятый месяц тщетно прошу на каждом допросе предъявить мне конкретные обвинения, чтобы я мог их опровергнуть, тщетно прошу следователей записать факты из моей жизни, опровергающие указанные выше обвинения. Напрасно… И с первых же дней нахождения моего в суровой Су-хановской тюрьме начались репрессии: ограничение времени сна 1–2 часами в сутки, лишение выписок продуктов, книг, прогулок, даже отказ в медпомощи и лекарствах, несмотря на мое тяжелое заболевание сердца. С переводом меня в Лефортовскую тюрьму круг репрессий расширялся. Меня заставляли стоять часами до изнеможения, в безмолвии в кабинетах следователей, ставили как школьника лицом в угол, трясли за шиворот. Хватали за бороду, дважды сажали в карцер, вернее, погреб. Совершенно сырое и холодное помещение с замурованным наглухо окном. С начала августа следователи гр. гр. Мешик, Адамов, Албогачиев начали меня бить. На трех допросах меня били по щекам за то, что я заявляю, что я честный большевик и что никаких фактов моей преступной работы у них нет и не может быть». Кедрова еще не били резиновыми дубинками — в этом ему повезло. В отличие от Мейерхольда. Всемирно известный режиссер подробно описал прокурору А. Я. Вышинскому истязания, которым его подвергали: «Меня клали на пол лицом вниз, резиновым жгутом били по пяткам и по спине; когда сидел на стуле, той же резиной били по ногам (сверху, с большой силой) и по местам от колен до верхних частей ног; когда эти места ног были залиты обильным внутренним кровоизлиянием, то по этим красно-синим-желтым кровоподтекам снова били этим жгутом, и боль была такая, что казалось, что на больные чувствительные места ног лили крутой кипяток (я кричал и плакал от боли). Руками меня били по лицу». Андрея Януарьевича, как и Лаврентия Павловича, подобным удивить было трудно. На суде, состоявшемся 1 февраля 1940 года, Мейерхольд, обвиненный в шпионаже в пользу Японии, по заданию которой он будто бы готовил теракт против Сталина, утверждал, что «врал на себя благодаря лишь тому, что меня избивали всего резиновой палкой. Я решил тогда врать и пойти на костер». Лаврентию Павловичу предстояло отправить на костер не сотни тысяч невиновных людей, как при Ежове, а в несколько раз меньше. Берия творил добро, отнюдь не порывая со злом. Да и странно было бы ожидать от большевика с более чем 20-летним стажем и кадрового чекиста отстаивания принципов правового государства. Хотя, как мы помним, в своих докладных записках он иной раз и щеголял этим термином… В бытность Берии наркомом НКВД осуществило решение Политбюро о расстреле пленных польских офицеров и интернированных гражданских лиц польской национальности из числа интеллигенции и имущих классов — почти 22 тысячи человек. По утверждению Серго Лаврентьевича, его отец выступил против казни поляков: «Свою позицию на заседании Политбюро (состоявшемся 5 марта 1940 года. — Б. С.) он объяснял\гак: «Война неизбежна. Польский офицерский корпус — потенциальный союзник в борьбе с Гитлером. Так или иначе, мы войдем в Польшу, и конечно же польская армия должна оказаться в будущей войне на нашей стороне». Реакцию партийной верхушки предположить нетрудно — отец за строптивость едва не лишился должности… Но и это не заставило отца подписать смертный приговор польским офицерам». На решении о расстреле поляков подписи Берии действительно нет — он был лишь кандидатом в члены Политбюро и не имел права решающего голоса. Предложение же НКВД об этой расправе Лаврентием Павловичем подписано. На окончательном постановлении стоят подписи членов Политбюро, но есть одно примечательное исправление: в составе «тройки», которой надлежало проштамповать смертные приговоры полякам, фамилия Берии, стоявшая в машинописном тексте, вычеркнута и чернилами вписана фамилия Б. З. Кобулова. Скорее всего, предложение за подписью главы НКВД составлялось не им и уже после принятия принципиального решения руководящей четверкой в составе Сталина, Ворошилова, Молотова и Микояна. Отсутствующих Калинина и Кагановича опросили потом по телефону, и они тоже высказались «за». Не стал бы Лаврентий Павлович предлагать самого себя в состав «тройки», чтобы потом самого же себя и вычеркивать. Вероятнее всего, Берия действительно выступал против казни и настоял, чтобы его имя было вычеркнуто из числа тех, кто вынес смертные приговоры. Принимая во внимание относительный либерализм Берии в бытность его главой Грузинского ГПУ и его послевоенную позицию относительно объединения Германии в единое буржуазно-демократическое государство, рассказ Серго о возражениях отца против расстрела поляков представляется вполне правдоподобным. Кроме поляков в 1939–1941 годы было уничтожено несколько десятков тысяч представителей прибалтийской, западноукраинской и западнобелорусской национальной элиты. За эти и за многие другие преступления против человечества Берия несет ответственность как шеф НКВД и член высшего руководства страны. Из западных районов Белоруссии и Украины было депортировано в 1940 году 140 тысяч польских крестьян, так называемых «осадников», переселившихся сюда после 1920 года. За несколько дней до начала Великой Отечественной войны была осуществлена также массовая депортация «неблагонадежных элементов» из Прибалтики и Бессарабии. К моменту прихода Берии НКВД, как мы помним, представлял собой не только карательный, но и мощный хозяйственный механизм. Узники ГУЛАГа трудились на многочисленных стройках. В 1940 году НКВД выполнил 13 процентов всех капитальных работ в народном хозяйстве страны. На 1941 год организациям наркомата предстояло освоить капитальных вложений на 6,8 миллиарда рублей и выпустить промышленной продукции на 1,8 миллиарда рублей. Реализовать этих «планов громадье» должны были почти два миллиона заключенных. Забегая вперед, скажу, что в период Великой Отечественной войны роль НКВД в экономике еще больше возросла. В 1941–1944 годы на долю ведомства Берии пришлось почти 15 процентов всего капитального строительства. Зеки построили 612 полевых и 230 постоянных аэродромов, авиационные заводы в районе Куйбышева, авиазавод в Омске, три доменных печи с годовой мощностью почти миллион тонн чугуна, 16 мартеновских и электроплавильных печей, выпускавших в год до полумиллиона тонн стали, прокатные станы на 542 тысячи тонн стали, ввели в строй десятки шахт и разрезов, где в год добывали до 7 миллионов тонн угля (рубили уголек те же зеки), 10 компрессорных станций для нефтяной промышленности, завод нитроглицериновых порохов и многое, многое другое. На предприятиях НКВД за то же время было добыто 315 тонн золота, 9 миллионов тонн угля, 6 миллионов тонн черновой меди, 407 тысяч тонн нефти, миллион тонн хромовитой руды, произведено 30 миллионов мин, выработано 90 миллионов кубометров леса и дров… Сталин был доволен успехами НКВД на экономическом фронте, и это стало одной из главных причин перевода Берии вскоре после войны на хозяйственную работу. А после 1945 года с передачей в МГБ милиции и всех оперативных подразделений МВД полностью превратилось в министерство лагерей и строек. Сыграло свою роль и то, что Лаврентий Павлович создал в системе ГУЛАГа сеть научно-исследовательских учреждений — «шарашек», где над проектами оборонного значения трудились ученые-заключенные, в частности знаменитые конструкторы А. Н. Туполев и С. П. Королев. Часто этих людей и арестовывали только затем, чтобы посадить работать над темами, интересующими военное и карательное ведомства. Одному из сотрудников «шарашки», итальянскому авиаконструктору графу Роберту Оросу ди Бартини, неосмотрительно приехавшему в 20-е годы в СССР строить социализм, а теперь доказывавшему, что ни в чем не виноват, Лаврентий Павлович с веселым цинизмом ответил: «Конечно, знаю, что ты не виноват. Был бы виноват — расстреляли бы. А так: самолет в воздух, а ты — Сталинскую премию и на свободу». Но возвратимся в предвоенные годы. В 1940-м Берия преподнес Сталину большой подарок — организовал убийство Троцкого. Покушение на него удалось потому, что люди Берии смогли внедрить в окружение опального вождя своего агента Рамона Меркадера, выдавшего себя за американского журналиста — искреннего поклонника Льва Давидовича. Он сумел остаться с Троцким один на один и нанести смертельный удар ледорубом. С января 1941 года разведка была передана в ведение нового Наркомата государственной безопасности СССР, который возглавил В. Н. Меркулов, хоть и являвшийся протеже Лаврентия Павловича, но звезд с неба не хватавший. Тогда же, 30 января 1941 года, Берии было присвоено звание генерального комиссара госбезопасности, а с февраля он стал заместителем председателя Совнаркома, курирующим органы безопасности.Война и депортации
С началом войны НКГБ был вновь слит с НКВД, во главе которого остался Лаврентий Павлович. Берия был назначен также членом Государственного Комитета Обороны (с 16 мая 1944 года он стал заместителем председателя ГКО) и курировал в этом качестве оборонную промышленность страны. 30 сентября 1943 года за успехи в области производства вооружения и боеприпасов ему было присвоено звание Героя Социалистического Труда. Надо признать, что энергия Лаврентия Павловича немало способствовала тому, что Красная Армия имела в избытке танки и самолеты, мины и снаряды. Хотя и здесь, скорее всего, не обходилось без приписок. Незадолго до начала войны случилось экстраординарное происшествие. 15 мая 1941 года немецкий транспортный самолет Ю-52, не замеченный советскими постами ПВО, совершил перелет по маршруту Белосток — Минск — Смоленск — Москва, приземлившись на московском аэродроме. Советская ПВО была тогда слабой и оставалась такой вплоть до начала 60-х годов, когда на вооружение поступили зенитные ракетные комплексы. Вряд ли можно было всерьез винить в происшедшем авиационных генералов, в том числе начальника Главного управления ПВО генерал-полковника Григория Михайловича Штерна, всего за месяц до злосчастного полета занявшего этот пост. Но Сталин решил почистить руководство авиации и ПВО. Штерна арестовали, припомнив сокрытие неподходящего социального происхождения. Затем арестовали еще несколько генералов, в том числе бывшего начальника Генштаба К. А. Мерецкова и наркома вооружений Б. Л. Ванникова. Двум последним повезло. Продержав несколько месяцев в тюрьме и заставив признаться в заговоре и шпионаже в пользу Германии, Кирилла Афанасьевича и Бориса Львовича выпустили и восстановили в генеральских званиях. Другим повезло меньше. По представлению Берии, Сталин санкционировал расстрел Г. М. Штерна, П. В. Рычагова, А. Д. Локтионова, Я. В. Смушкевича и других арестованных по «делу авиаторов». Это представление, как и в случае с поляками, Лаврентий Павлович писал по указанию Хозяина. Несчастных расстреляли в Куйбышеве 28 октября 1941 года. Большинство из них не выдержали избиений во время следствия и покаялись в преступлениях, которые не совершали, — подготовка заговора и шпионаж в пользу Германии. Только командующий Прибалтийским военным округом генерал-полковник А. Д. Локтионов стойко вынес пытки и ни в чем не признался, что, однако, не спасло его от пули. Трижды Берия выезжал на фронт. Два раза (в августе — сентябре 1942 года и в марте 1943 года) на Кавказ в качестве представителя Ставки Верховного Главнокомандования. Третий раз ему довелось сопровождать Сталина во время поездки в район Ржева на Калининский фронт в августе 1943-го. Как полководцу Лаврентию Павловичу пришлось проявить себя лишь однажды — осенью 1942-го на Кавказе. Мнения о том, сколь успешными оказались его действия, диаметрально противоположны — рубежом между ними закономерно стал день ареста Берии. Еще в 1950 году некий М. И. Барамия защитил кандидатскую диссертацию на тему «Выдающаяся роль т. Берии в обороне Кавказа» (издать ее отдельной книгой помешал арест автора в следующем году по так называемому «мингрельскому делу»). О полководческом искусстве Лаврентия Павловича в битве за Кавказ писал и генерал армии Герой Советского Союза И. И. Масленников, в 1939 году выдвинутый Берией на пост командующего пограничными войсками и заместителя наркома внутренних дел, а в 1942–1943 годах командовавший Северной группой войск Закавказского фронта и Северо-Кавказским фронтом. В 1952 году в августовском номере журнала «Военная мысль» появилась статья Завьялова и Калядина «Битва за Кавказ». По поводу этой статьи Масленников направил специальное письмо начальнику Военно-научного управления Генерального штаба, где отмечал: «На странице 56, характеризуя мероприятия Ставки Верховного Главнокомандования СССР, авторы лишь вскользь и чрезвычайно бегло упоминают об огромной творческой работе и принципиальных политических организационных мероприятиях, которые осуществил товарищ Лаврентий Павлович Берия, создавший коренной перелом, изменивший всю обстановку, несмотря на чрезвычайно трудное положение, сложившееся на кавказских фронтах к августу 1942 года. Подобная характеристика деятельности товарища Л. П. Берия не дает исчерпывающей картины всех мероприятий, которые были проведены под личным и непосредственным руководством товарища Лаврентия Павловича Берия. Л. П. Берия, владея сталинским стилем руководства, личным примером показал образцы большевистского, государственного, военного, партийно-политического и хозяйственного руководства Закавказским фронтом (август 1942 — январь 1943 г.), блестяще претворил указание товарища Сталина». Позже, в ходе следствия по делу Берии, генералы, вполне естественно, о военных талантах поверженного маршала отзывались совершенно иначе. Члены Генерального штаба А. П. Покровский и С. П. Платонов написали специальный доклад для следователей «К вопросу о преступной деятельности Берии во время обороны Кавказа». Там, в частности, утверждалось: «Для выполнения задачи обороны в восточной части Кавказского хребта 8 августа была создана Северная группа войск Закавказского фронта, командующим которой, видимо, по настоянию Берии был назначен генерал Масленников, до этого неудачно командовавший армией на Калининском фронте… Генерал Масленников, несомненно, пользуясь покровительством Берии, нередко игнорировал указания командующего фронтом и своими действиями задержал перегруппировку войск». А генерал-лейтенант С. М. Штеменко, ездивший вместе с Берией на Кавказ во главе оперативной группы офицеров Генштаба, показал: «В действиях Берии было много такого, что не только не способствовало обороне Кавказа, но, наоборот, дезорганизовывало оборону. Прежде всего Берия создал параллельно штабу фронта особую оперативную группу, возглавлявшуюся генералом из НКВД, которой была поручена оборона перевалов… В эту группу входили люди, мало компетентные в военном деле… По существу, все эти действия Берии, связанные с обороной перевалов Главного Кавказского хребта, как главной задачей в тот период, наносили вред этой обороне и создавали благоприятные условия для противника и тем самым усиливали угрозу проникновения немцев в Закавказье». Штеменко вторил бывший командующий Закавказским фронтом генерал армии И. В. Тюленев: «Я поставил перед Ставкой вопрос о передаче в распоряжение командования Закфронта хотя бы части войск НКВД, находившихся на территории Закфронта (15–20 полков). И. В. Сталин одобрил мою мысль, но присутствовавший при этом Берия резко воспротивился этому, допуская грубые выпады в адрес командования фронта. Из 121 тысячи войск НКВД, которые в большинстве своем бездействовали, Берия согласился передать в распоряжение Закфронта всего лишь 5–7 тысяч, и то по настоянию И. В. Сталина». А ведь Тюленев стал командующим фронтом по рекомендации Берии! 1 сентября 1942 года Лаврентий Павлович телеграфировал Сталину: «Командующим Закавказским фронтом считаю нужным назначить Тюленева, который, при всех недостатках, более отвечает этому назначению, чем Буденный. Надо отметить, что в связи с его отступлениями авторитет Буденного на Кавказе значительно пал, не говоря уже о том, что вследствие своей малограмотности, безусловно, провалит дело». Бывшего командарма Первой Конной Берия ставил невысоко, да и на его бывшего подчиненного конармейца Тюленева не возлагал слишком больших надежд. И кажется, в своей оценке не ошибся. Штеменко же, описывая позднее свою командировку в августе — сентябре 1942 года в Закавказье, хоть и не упоминает ни словом Берию (его функции он придает начальнику Оперативного управления Генштаба генерал-лейтенанту П. И. Бодину, погибшему в ноябре 1942 года), но и не находит как будто никаких следов дезорганизации советской обороны… Бодин обратился к командующему фронтом: «Известно ли Вам, что союзники пытаются использовать наше тяжелое положение на фронтах и вырвать согласие на ввод английских войск в Закавказье? Этого, конечно, допустить нельзя. Государственный Комитет Обороны считает защиту Закавказья важнейшей государственной задачей, и мы обязаны принять все меры, чтобы отразить натиск врага, обескровить его, а затем и разгромить. Надежды Гитлера и вожделения союзников надо похоронить…» С чего это вдруг начальник Оперативного управления Генштаба начинает говорить от имени ГКО? И почему генерал-лейтенант, ничуть не смущаясь, делает выговор командующему фронтом маршалу Буденному? Да потому, что этот монолог в действительности произнес не Бодин, а Берия, в этом у меня нет никаких сомнений; генеральный комиссар госбезопасности мог не то что выговор маршалу закатить, а при необходимости стереть его в лагерную пыль. Отмечу, что все мероприятия по обороне Закавказья, принятые во время пребывания там Берии, Штеменко, очень квалифицированный генштабист, и сорок пять лет спустя считал правильными. Сергею Матвеевичу не понравилось только создание штаба генерала НКВД Г. Л. Петрова (здесь сыграло роль соперничество двух ведомств). Сергей Матвеевич предпочел бывшего шефа НКВД по имени не называть, но зато ясно показал посвященным, кто же в действительности летал вместе с ним на Кавказ: люди осведомленные знали, например, что полковник В. Г. Грачев был личным пилотом Берии. Выходит, лукавил Штеменко перед следователями в 1953-м, когда клеймил «врага народа» Берию за предательскую роль в обороне Кавказа. Наверняка опасался, что могут обвинить в близости к Лаврентию Павловичу и притянуть к его делу. Ведь многие военачальники, быть может не без оснований, считали Сергея Матвеевича «человеком Берии». Вот и бывший начальник Генштаба маршал А. М. Василевский в 1976 году так характеризовал Штеменко в беседе с Константином Симоновым: «Это человек в военном отношении образованный, очень работоспособный, и не только работоспособный, но и способный, энергичный, с волевыми качествами… Когда Сталин послал на Кавказ Берию с поручением спасти там положение после поражения Южного фронта, Берия просил рекомендовать, кого из работников Генерального штаба ему взять с собой, и мы ему порекомендовали Штеменко как молодого и способного штабного работника, он взял его с собой, и несколько месяцев Штеменко был с ним. Это, к сожалению, многое потом определило и в его судьбе, и в его поведении». Берия при обороне Кавказа собирался опереться прежде всего на грузин, потому и подбирал кадры грузинских офицеров, которыми должен был командовать грузинский генерал. Тут сказалось не только национальное чувство Лаврентия Павловича, но и трезвый расчет. Многолетний опыт работы в Закавказье убедил Берию, что из местных народов более лояльны к советской власти именно грузины. Сталин делал соотечественникам определенные послабления — меньше забирал из Грузии производимой продукции, больше выделял поставок из централизованных фондов. В результате уровень жизни здесь был повыше, чем в Азербайджане и Армении, не говоря уж о горских республиках Северного Кавказа. К тому же немало грузин гордилось, что их земляк стал главой бывшей Российской империи. Что же касается обвинений, будто Берия с вредительскими намерениями не давал на фронт находившиеся в его ведении дивизии НКВД, то на процессе в декабре 1953-го сам Лаврентий Павлович (или человек, на него похожий) так ответил председателю — маршалу И. С. Коневу: «Я утверждаю, что недостатка в войсках там не было. Перевалы были закрыты. Я считаю, что мы провели большую работу по организации обороны Кавказа… Я раньше не говорил, почему я не давал войск НКВД для обороны Кавказа. Дело в том, что предполагалось выселение чеченцев и ингушей». Что ж, с резонами Берии нельзя не согласиться. Красная Армия и без НКВД имела на Кавказе войск с избытком. Дивизии же НКВД не были обучены боевым действиям против регулярной неприятельской армии. О планировавшейся высылке северокавказских народностей Берия, конечно, не мог ничего сказать командующему Закавказским фронтом Тюленеву, поскольку эта операция готовилась в большой тайне. Да и без подготовки к депортации (отложенной в конце концов на 1944 год) войскам НКВД дел на Кавказе хватало. Приходилось бороться с партизанскими отрядами ингушей и чеченцев, а также других местных народов, не прекращавших свои вылазки все годы советской власти и видевших в немцах освободителей не только от Сталина, но и от пут Российской империи. В программных документах Особой партии кавказских братьев, объединявшей 11 народов Кавказа, но действовавшей преимущественно в Чечено-Ингушетии, ставилась цель — борьба «с большевистским варварством и русским деспотизмом», выдвигался лозунг «Кавказ — кавказцам!» (что предусматривало выселение русских и евреев). Предполагалось «обеспечить полную дезорганизацию тыла, остатков советской военщины на Кавказе, ускорение гибели большевизма на Кавказе и действовать во имя поражения России в войне с Германией», а впоследствии «создать на Кавказе свободную братскую Федеративную республику — государство братских народов Кавказа по мандату Германской империи». Еще в самом начале войны, 8 июля 1941 года, Берия санкционировал войсковую операцию «для ликвидации чеченских банд», укрывшихся в Хильдихароевском и Майстинском ущельях Грузии, силами шести полков внутренних войск, подкрепленных несколькими отрядами НКВД. Особенного развития повстанческое движение достигло летом 1942-го, с приближением к Главному Кавказскому хребту немецких войск. В дни пребывания Берии на Кавказе, в конце августа, чеченские отряды ликвидировали колхозы и советские органы в ряде селений горной Чечни и вступали в бой с расположенными в райцентрах войсковыми гарнизонами. В конце сентября — начале октября вспыхнуло крупное восстание в Веденском и Чеберлоевском районах, в подготовке которого участвовали немецкие парашютисты. Всего на территории Чечено-Ингушской республики действовало до 25 тысяч повстанцев. Против советской власти боролись также карачаевцы и балкарцы, да и в Дагестане было неспокойно. Единственный путь ликвидации повстанческого движения Берия видел в немедленной депортации чеченцев, ингушей, карачаевцев и балкарцев, иначе немцы, если бы им удалось прорваться через Главный Кавказский хребет, получили бы пополнение в десятки тысяч бойцов — убежденных противников советской власти. Однако окружение германской группировки в Сталинграде в конце ноября 1942-го резко изменило общую стратегическую обстановку в пользу Советского Союза, в том числе и на Кавказе, что позволило с депортацией повременить. Справедливости ради следует сказать: миссия Берии по стабилизации фронта облегчалась тем, что у немцев уже не оставалось сил для продолжения наступления к бакинской нефти — все больше войск поглощал Сталинград. ФельдмаршалЗ. В. Лист еще в середине августа докладывал Гитлеру, что «не может с имеющимися у него силами и при столь растянутых коммуникациях достичь поставленной ему Верховным Командованием оперативной цели» — захвата нефтеносных районов. Как бы то ни было, со своей задачей Лаврентий Павлович справился и к Баку немцев не пропустил… В 1944 году Берии наконец пришлось заняться давно задуманной депортацией северокавказских народностей. За эту полицейскую операцию он был удостоен полководческого ордена Суворова 1-й степени. Итог для «репрессированных народов» оказался трагичен. В 1944-м было выселено около 873 тысяч карачаевцев, калмыков, чеченцев, ингушей, крымских татар, а также греков, болгар и армян Крыма. Всего же, включая первые послевоенные годы, было репрессировано 62 нации и народности. Из них к октябрю 1945-го в местах ссылки в Казахстане и Средней Азии в живых осталось только 741,5 тысячи человек. Неменьшие жертвы понесли и сотни тысяч немцев Поволжья, Украины и Крыма, депортированных еще в 1941 году. Берия докладывал Сталину, что в операции по переселению чеченцев и ингушей участвовало 19 тысяч оперативных работников НКВД-НКГБ и СМЕРШа, а также 100 тысяч солдат и офицеров войск НКВД, «стянутых с различных областей». Операция была проведена Лаврентием Павловичем по-чекистски грамотно. Накануне он сообщил Сталину основные идеи своего плана: «Было доложено председателю СНК Чечено-Ингушской АССР Моллаеву о решении правительства о выселении чеченцев и ингушей и о мотивах, которые легли в основу этого решения. Моллаев после моего сообщения прослезился, но взял себя в руки и обещал выполнить все задания, которые ему будут даны в связи с выселением. Затем в Грозном вместе с ним были намечены и созваны 9 руководящих работников из чеченцев и ингушей, которым и было объявлено о ходе выселения чеченцев и ингушей и причинах выселения… 40 республиканских партийных и советских работников из чеченцев и ингушей нами прикреплены к 24 районам с задачей подобрать из местного актива по каждому населенному пункту 2–3 человека для агитации. Была проведена беседа с наиболее влиятельными в Чечено-Ингушетии высшими духовными лицами Б. Арсановым, А. Г. Яндаровым и А. Гайсумовым, они призывались оказать помощь через мулл и других местных авторитетов… Выселение начинается с рассвета 23 февраля с. г., предполагалось оцепить районы, чтобы воспрепятствовать выходу населения за территорию населенных пунктов. Население будет приглашено на сход, часть схода будет отпущена для сбора вещей, а остальная часть будет разоружена и доставлена к местам погрузки». На следующий день нарком внутренних дел с удовлетворением доложил Верховному Главнокомандующему, что «выселение проходит нормально. Заслуживающих внимания происшествий нет. Имели место 6 случаев попытки к сопротивлению со стороны отдельных лиц, которые пресечены арестом или применением оружия. Из намеченных к изъятию в связи с операцией арестовано 842 человека». Помощи обреченным было ждать неоткуда. Большинство повстанцев погибло в боях или попало в плен еще в 1943-м, немногочисленные уцелевшие отряды укрывались высоко в горах и, почти не имея боеприпасов, не могли вступать в серьезные схватки с войсками. Выполнив незавидную роль козлов-провокаторов, ведущих стадо на бойню, религиозные авторитеты и представители партийно-советского актива разделили участь соплеменников, только неделей позже. 1 марта Берия докладывал Сталину: «Сегодня отправлен эшелон с бывшими руководящими работниками и религиозными авторитетами Чечено-Ингушетии, которые использовались при операции». Во время депортации войска совершали страшные преступления, но о них Берия предпочитал не докладывать Верховному Так, 27 февраля 1944 года были заживо сожжены 700 жителей селения Хайбах Шатойского района — женщин, стариков и детей. Сожгли их в конюшне колхоза имени Берии. Руководил акцией комиссар госбезопасности 3-го ранга М. М. Гвишиани, свекор будущего председателя Совета Министров СССР А. Н. Косыгина. За это чудовищное злодеяние Михаил Максимович в 1954 году был всего лишь лишен звания генерал-лейтенанта «как дискредитировавший себя за время работы в органах». А в 1944-м он рапортовал Берии, личной охраной которого когда-то руководил: «Только для ваших глаз. Ввиду нетранспортабельности и в целях неукоснительного выполнения в срок операции «Горы» вынужден был ликвидировать более 700 жителей в местечке Хайбах». Лаврентий Павлович действия подчиненного одобрил и осчастливил его радостной вестью: «За решительные действия в ходе выселения чеченцев в районе Хайбах вы представлены к правительственной награде с повышением в звании. Поздравляю». За один Хайбах Берия, равно как и другие руководители операции «Горы», включая будущего министра внутренних дел С. Н. Круглова и будущего председателя КГБ И. А. Серова, вполне заслужили высшей меры наказания. Вместо этого Лаврентий Павлович 9 июля 1945 года был удостоен высшего воинского звания Маршал Советского Союза, — правда, не за военные победы, а за успехи на хозяйственном и карательном фронте. За это его также наградили Золотой Звездой Героя Социалистического Труда. Гвишиани за Хайбах и выселение чеченцев и ингушей получил орден Суворова 2-й степени, а Круглов и Серов — 1-й степени.Отпуск по Эйзенштейну
В октябре 1945 года Сталин неожиданно ушел в длительный отпуск — вплоть до середины декабря. Вероятно, на Иосифа Виссарионовича большое впечатление произвел фильм Сергея Эйзенштейна «Иван Грозный», где недуг царя позволил выявить подлинное лицо «реакционного боярства». После того как Сталин надолго пропал из Москвы, в мировой прессе стали циркулировать слухи о его болезни и даже смерти, серьезно обсуждался вопрос о возможных преемниках. На хозяйстве в Политбюро Иосиф Виссарионович оставил четверку — Молотова, Маленкова, Берию и Микояна. Именно в таком порядке убывал их рейтинг. Когда Сталин обращался не к Молотову, а к остальным членам правящей четверки, то на первом месте в шифрограммах ставил Маленкова, за ним Берию, а в конце — Микояна. В это время происходили вооруженные выступления в иранском Азербайджане. Телеграммы о положении здесь глава Компартии Азербайджана Багиров и командующий Закавказским военным округом генерал Масленников адресовали Молотову, Маленкову и Берии, Микоян же в число адресатов не входил. Сталину в Сочи регулярно доставляли подготовленные ТАСС секретные сводки иностранной прессы, посвященные слухам о возможной болезни советского лидера и его предполагаемых преемниках. Так, 9 октября по информации из Рима «ряд итальянских газет опубликовал под кричащими заголовками сообщения о «тяжелой болезни» генералиссимуса Сталина… «Сталин тяжело болен»… «Сталину осталось несколько месяцев жизни»…» Иосиф Виссарионович собирался жить долго и с интересом читал публикацию лондонского корреспондента французской «Пари пресс» от 10 октября: «Известие об отъезде маршала Сталина из Москвы на отдых истолковывается здесь как подтверждение слухов о его болезни. В Потсдаме прошел слух, что он болен грудной жабой и предполагает отправиться на Кавказ. Вопрос о его преемнике выдвигает важную проблему… Не указывается, кто будет исполнять его обязанности во время отпуска. Но еще во время Лондонской конференции утверждали, что Молотов, Жданов и Берия обнаруживают больше прямолинейности, чем Сталин…» 11 октября американская «Чикаго трибюн», со ссылкой на дипломатические круги в Лондоне, утверждала, что «в Москве происходит ожесточенная закулисная борьба за власть между маршалом Жуковым и министром иностранных дел Молотовым, которые пытаются занять диктаторское место Сталина… Московское радио объявило, что Сталин выехал из Кремля для «короткого отпуска». Это первый отпуск Сталина со времени начала войны с Германией и первый отпуск, который он когда-либо брал». В действительности Иосиф Виссарионович отдыхал достаточно часто, но впервые советское радио объявило о его отпуске публично. Данное обстоятельство и породило переполох на Западе. Корреспондент «Чикаго трибюн» отмечал, что «дипломатические представители, которые присутствовали на Потсдамской конференции, сообщают, что Сталин очень болен… Этим летом в Париже появились сообщения о том, что Сталин по болезни сердца может оставить свой пост. Как сообщают, честолюбивые замыслы Жукова стать диктатором имеют за собой поддержку армии, в то время как за Молотовым стоит коммунистическая партия. Шестидесятишестилетний возраст Сталина… является одним из факторов для теперешних маневров его преемников». Несколько ранее, 4 октября, в мексиканской газете «Эксельсинор» появилась статья «Если бы Сталин был Трумэном, он покончил бы с коммунистами». Под таким заголовком было помещено сообщение о пресс-конференции американского адмирала Уильяма Стэнли, бывшего посла в Москве. Он утверждал, что однажды дал понять Сталину: «Коммунистические агитаторы в Соединенных Штатах несут большую ответственность за плохое отношение американцев к России». «Адмирал Стэнли сказал далее, — писала «Эксельсинор», — что Сталин спросил его: «Эти агитаторы являются гражданами Соединенных Штатов?» Я ответил ему, что да. «Разве у вас нет полицейских частей в Соединенных Штатах?» — продолжал спрашивать меня маршал Сталин. Я ответил ему, что есть. «И полиция носит огнестрельное оружие?» — спросил Сталин. Я еще раз ответил ему утвердительно. «В таком случае, — сказал Сталин, — почему же вы не убьете своих революционеров? Это то, что сделал я». Наверняка эти строки читал и Лаврентий Павлович. Как и другие члены четверки, он прекрасно понимал, что легко может оказаться следующим в длинной череде «расстрелянных революционеров». 12 октября ТАСС принес новые слухи. В Стокгольме подозревали, что у Сталина болезнь печени, а в Анкаре появилось сообщение, что он «якобы умер». В Англии газета «Дейли экспресс» опубликовала серию статей своего корреспондента Аларика Джэйкоба, только что вернувшегося из Москвы. В сводке ТАСС от 15 октября говорилось: «Джэйкоб задает вопрос: кто будет преемником Сталина? Как он утверждает, непримиримые считают, что если бы было известно, кто правит Россией, пока Сталин находится в отпуске в своей родной Грузии, то это могло бы явиться ключом к загадке — кто будет его преемником. Джэйкоб считает, что этим преемником будет малоизвестный человек с козлиной бородкой, рыжеватыми волосами и веснушками, по имени Николай Булганин, который, вероятно, взял на себя основную часть повседневной работы Сталина. Когда Сталин окончательно отойдет от дел, продолжает Джэйкоб, то мне кажется неизбежным, что Россией будет править комитет. Число пять было бы практичным с точки зрения его состава, что выяснилось, когда Сталин, Берия, Микоян, Каганович и Ворошилов составили Совет обороны, который руководил всеми усилиями. Из такого комитета пяти мог бы выйти новый лидер. Но это будет медленный процесс. После смерти Ленина было междуцарствие, и нужно много времени для того, чтобы «раздуть репутацию» любого человека, каким бы талантливым он ни был, чтобы занять место вождя, который в большей степени, чем Ленин, считается отцом республики и организатором победы. Можно лишь строить догадки, однако имеется 5 человек, которые, вероятно, смогут выступить как соперники: Молотов, Булганин, Антонов, Микоян, Жданов. В одном мы можем быть уверены — на открывшуюся вакансию не вступит молодой и пылкий гений. Я считаю, что Советский Союз после столь большого напряжения стал самым устойчивым обществом в мире, придерживающимся проверенного и подлинного учения, как они называют «марксизм-ленинизм». Такое общество не открывает никаких горизонтов для нового Александра Македонского. Новый мир определенно не будет завоеван. Сталин не перестал быть революционером, но он и его последователи являются сторонниками силы примера, а не баррикад, для которых нужна и горячая и молодая кровь. Преемниками Сталина будет группа людей среднего возраста и доброй воли». Читая это, Сталин усмехался. С Булганиным англичанин попал пальцем в небо. «Человека с козлиной бородкой» своим преемником Иосиф Виссарионович никогда не рассматривал, равно как и начальника Генштаба А. И. Антонова. И даже состав ГКО Джэйкоб толком не знал. В его статье из высшего руководства выпал Маленков, почти не известный за границей. Берию Джэйкоб тоже не считал возможным наследником Сталина. Между тем именно Маленков и Берия были в тот момент, наряду с Молотовым, самыми влиятельными членами Политбюро. А утверждать, что Сталин полагается лишь на «силу примера», мог только человек, ничего не понимавший в природе советской власти. Пройдет несколько лет, и коммунистический переворот в Чехословакии, блокада Берлина, победа коммунистов в Китае и война в Корее развеют последние иллюзии на Западе, будто Советский Союз остепенился, а Сталин перестал мечтать о лаврах Александра Македонского или Чингисхана… В тот же день, 15 октября, шведская «Нуррландска социал-демократен» также задалась вопросом о наследнике Сталина: «До сих пор Сталин доминировал во всем настолько определенно, что ни для какой значительной личности не было места для проявления своего значения. Ко многим недостаткам диктатуры относится также то, что при ней никакому сопернику не разрешается поднять голову. Сталин, как и Гитлер, устранил с пути всех — как тех, кто ему мешал, так и тех, о которых можно было подумать, что они смогут ему помешать. Так поступали его русские предшественники, начиная с Ивана Грозного до Петра Великого. Рузвельта нет. Черчилль вышел из игры. Несмотря на это, особых забот подыскать им подходящих преемников не было. Но здесь имеется разница между демократией и диктатурой. Как в Англии, так и в США, в силу демократического порядка, избранные заместители были уже наготове. Возможно, что предполагаемая смена лиц русской политики произойдет тихо и безболезненно. Царизм пал потому, что он утратил свою основу и не был в состоянии охранять интересы страны ни в военное, ни в мирное время. Сталинизм выдержал испытание во время войны, и, по всей вероятности, он продержится в мирное время и без Сталина, если бы его не стало». Берии, единственному из наследников Сталина, придется заплатить жизнью за попытку реформировать страну. Другие предпочли жить на завещанный Сталиным капитал, не афишируя это обстоятельство. Шумиха в иностранной прессе начала уже раздражать Иосифа Виссарионовича. Он решил, что игра немного затянулась и становится опасной для престижа страны. И 18 октября согласился принять в Сочи американского посла Аверелла Гарримана «24, 25 или 26 числа сего месяца по выбору Гарримана». Последнему предстояло передать послание президента Трумэна, которое в первую очередь служило предлогом выяснить истинное состояние здоровья генералиссимуса. Тем временем статьи с политическими портретами возможных сталинских преемников продолжали поступать. 19 октября на стол Иосифу Виссарионовичу легло сообщение ТАСС о статье Карла Эванга, появившейся в норвежской «Арбейдербладет» и посвященной Молотову. Автор посетил Москву в 1944 году и встречался с Вячеславом Михайловичем. У Эванга получился настоящий панегирик: «…Молотов является как бы вторым после Сталина гражданином Советского Союза. Причины этого следует искать не в его официальном положении, а скорее в том, что он сам постепенно завоевал себе большой авторитет. Многие, впрочем, считали, что он разделяет второе место с Калининым… Прочное положение Молотова в его собственной стране и великое доверие к нему со стороны его народа нельзя приписать его замечательной деятельности как народного комиссара иностранных дел. Оно коренится и в его многолетней деятельности в революционном движении». Сталина насторожило, что главу советского внешнеполитического ведомства хвалят в «буржуазной прессе». Публикации такого рода способствовали последующей опале Вячеслава Михайловича. 23 октября Сталину доставили перехват французского радио, сообщавшего из Вашингтона: «В некоторых кругах полагают, что в случае, если глава советского правительства решит покинуть официальное руководство советской политикой, возможно, что его преемником будет маршал Жуков. Поэтому высказанное Жуковым желание посетить США до конца этого года вызвало появление многочисленных комментариев». В тот же день корреспондент лондонской «Дейли мейл» Рона Черчилль утверждала: «Между маршалами Красной Армии идет борьба за власть, борьба за то, кто унаследует сталинское руководство. Жукову, который является «партийным генералом», отдается предпочтение». Она также писала о «кризисе в среде высшего командования и довольно распространенном дезертирстве среди рядовых». Как известно, по настоянию Сталина маршал Жуков еще в начале октября вынужден был отказаться от поездки в США по приглашению генерала Дуайта Эйзенхауэра. Иосиф Виссарионович, в отличие от западных политиков, отнюдь не желал видеть Жукова своим преемником. Отклики зарубежной прессы, подчеркивавшие, что Жуков пользуется поддержкой армии, еще больше убедили Сталина в необходимости попридержать «маршала Победы». Иосиф Виссарионович не хотел, чтобы созданное им государство после его смерти выродилось в заурядную диктатуру, — если он не успеет совершить последний прыжок к мировому господству, пусть это сделает идущий за ним. В СССР должна была сохраняться диктатура не армии, а идеи, пусть и персонифицированной в личности вождя. Только идея завоевания всего мира под знаменем «пролетарской революции» оправдывала в глазах масс неисчислимые страдания и лишения. Но вернемся в Сочи. Встреча Сталина с Гарриманом, состоявшаяся 26 октября, на пару недель приглушила разговоры о тяжелой болезни генералиссимуса. Американский посол на следующий день заявил, что Сталин «находится в добром здравии и слухи о его болезни не имеют никаких оснований». Однако, после того как 7 ноября Сталин не появился на Красной площади во время традиционного парада, они вспыхнули с новой силой. Накануне произошли важные события. К тому времени уже была предрешена реформа силовых структур. Берии предстояло оставить пост наркома внутренних войск, чтобы сконцентрироваться на атомном проекте. Основные карательные функции планировалось сосредоточить в новом Министерстве государственной безопасности, куда из МВД вскоре перешли внутренние войска и основные оперативные подразделения. B. Н. Меркулов показал себя слабым руководителем и утратил доверие как Сталина, так и Берии. Он возглавлял НКГБ лишь последние два года войны, когда основные карательные функции перешли к СМЕРШу. Но Сталин все равно выражал недовольство, что Меркулов почти прекратил борьбу с «троцкистами». Для нового послевоенного МГБ Всеволод Николаевич никак не годился. Берия и Маленков рассчитывали, что МГБ и МВД возглавят их люди. На МВД они планировали поставить близкого к Георгию Максимилиановичу C. Н. Круглова, а на МГБ — близкого к Лаврентию Павловичу В. С. Рясного. Ведомство госбезопасности имело ключевое значение для политической ситуации в стране. Поэтому 31 октября Берия и Маленков специальной шифрограммой просили Сталина о новом назначении своего протеже: «Представляем на Ваше рассмотрение кандидатуры для укрепления руководства НКГБ. В качестве первого кандидата можно назвать Рясного В. С., работающего в настоящее время наркомом внутренних дел Украины. Рясной в первые два года войны был начальником НКГБ (в действительности — НКВД. — Б. С.) Горьковской области. С этой работы он в июле 1943-го был выдвинут и назначен наркомом внутренних дел Украины. До войны Рясной в течение четырех лет был на оперативной работе в органах ГБ, а взят на чекистскую работу с партийной работы (секретарь райкома комсомола Сталинградской области). Считаем возможным рекомендовать Рясного первым заместителем наркома госбезопасности с тем, чтобы через 1–2 месяца утвердить его наркомом. В качестве других кандидатов для работы заместителями наркома госбезопасности считаем необходимым назвать следующих наиболее способных и проверенных чекистов, обладающих опытом местной областной работы: Богданов Н. К. — нарком внутренних дел Казахской ССР, Журавлев М. И. — начальник НКВД по Москве и Московской области, Горлинский Н. Д. — уполномоченный НКВД и НКГБ по Эстонии, а до этого начальник управления НКГБ по Краснодарскому краю. Если Вы одобрите эти кандидатуры, то переговорим с указанными товарищами и представим проект решения». На тот же день Берия просил разрешения прилететь в Сочи, рассчитывая убедить Сталина утвердить кандидатуру Рясного. Но Иосиф Виссарионович шефа НКВД принять отказался. Он хотел видеть на посту главы МГБ начальника СМЕРШа Абакумова. Рясному, можно сказать, повезло. Если бы министром госбезопасности стал он, то почти наверняка кончил бы также, как Абакумов. Чекисты, перечисленные в шифрограмме, дожили до пенсии. Рясной все-таки стал заместителем министра госбезопасности, но только в феврале 1952-го, в период нового возвышения Берии. В дальнейшем Василия Степановича вновь ожидала удача — на одну скамью подсудимых с бывшим покровителем он не попал. Пока вопрос о будущем руководстве МГБ решался совсем не так, как планировал Берия, с новой силой вспыхнула дискуссия о мнимой болезни Сталина. Последнего же все больше раздражало поведение Молотова, делавшего, на взгляд Иосифа Виссарионовича, слишком значительные уступки западным союзникам. 4 ноября было принято постановление Политбюро, осуждавшее Молотова за «манеру отделять себя от правительства и изображать либеральнее и уступчивее, чем правительство». Поводом послужило опрометчивое согласие Вячеслава Михайловича на то, чтобы в Дальневосточной комиссии, призванной выработать общую политическую линию, в соответствии с которой Японии предстояло выполнить условия капитуляции, решения принимались не единогласно, а большинством голосов. Это было невыгодно СССР, поскольку США с союзниками имели в комиссии твердое большинство. Молотов обещал впредь не допускать таких ошибок. Но чашу терпения Сталина переполнила публикация «Правдой» 9 ноября, с санкции Молотова, речи Черчилля в палате общин. Бывший британский премьер признался в любви к Сталину и советскому народу: «Я должен сначала выразить чувство, которое, как я уверен, живет в сердце каждого, — именно чувство глубокой благодарности, которой мы обязаны благородному русскому народу. Доблестные советские армии, после того как они подверглись нападению со стороны Гитлера, проливали свою кровь и терпели неизмеримые мучения, пока не была достигнута абсолютная победа. Поэтому… глубокое стремление этой палаты, а эта палата говорит от имени английской нации, заключается в том, чтобы чувства товарищества и дружбы, развившиеся между английским и русским народами, не только были сохранены, но и систематически развивались». Говоря о товарище Сталине, Черчилль заявил: «Я лично не могу чувствовать ничего иного, помимо величайшего восхищения, по отношению к этому подлинно великому человеку, отцу своей страны, правившему судьбой своей страны во времена мира и победоносному защитнику во время войны. Даже если бы у нас с Советским правительством возникли сильные разногласия в отношении многих политических аспектов — политических, социальных и даже, как мы думаем, моральных, — то в Англии нельзя допускать такого настроения, которое могло бы нарушить или ослабить эти великие связи между двумя нашими народами, связи, составляющие нашу славу и гордость в период недавних страшных конвульсий». На следующий день Сталин разразился грозным посланием в адрес четверки: «Считаю ошибкой опубликование речи Черчилля с восхвалением России и Сталина. Восхваление это нужно Черчиллю, чтобы успокоить свою нечистую совесть и замаскировать свое враждебное отношение к СССР, в частности, замаскировать тот факт, что Черчилль и его ученики из партии лейбористов являются организаторами англо-американо-французского блока против СССР. Опубликованием таких речей мы помогаем этим господам. У нас имеется теперь немало ответственных работников, которые приходят в телячий восторг от похвал со стороны Черчиллей, Трумэнов, Бирнсов и, наоборот, впадают в уныние от неблагоприятных отзывов со стороны этих господ. Такие настроения я считаю опасными, так как они развивают у нас угодничество перед иностранными фигурами. С угодничеством перед иностранцами нужно вести жестокую борьбу. Но если мы будем и впредь публиковать подобные речи, мы будем этим насаждать угодничество и низкопоклонство (вот когда, как кажется, впервые появилось это ключевое слово! — Б. С.). Я уже не говорю о том, что советские лидеры не нуждаются в похвалах со стороны иностранных лидеров. Что касается меня лично, то такие похвалы только коробят меня». Молотов опять признал ошибки и покаялся. Между тем Иосифу Виссарионовичу доставили новые зарубежные статьи о его мнимой болезни. Основным источником слухов о ней и возможных преемниках Сталина был московский корреспондент «Дейли геральд». 5 декабря генсек вновь обрушился на Вячеслава Михайловича: «Дня три тому назад я предупредил Молотова по телефону, что отдел печати НКИД допустил ошибку, пропустив корреспонденцию газеты «Дейли Геральд» из Москвы, где излагаются всякие небылицы и клеветнические измышления насчет нашего правительства, насчет взаимоотношений членов правительства и насчет Сталина. Молотов мне ответил, что он считал, что следует относиться к иностранным корреспондентам более либерально и можно было бы пропускать корреспонденцию без особых строгостей. Я ответил, что это вредно для нашего государства. Молотов сказал, что он немедленно даст распоряжение восстановить строгую цензуру Сегодня, однако, я читал в телеграммах ТАСС корреспонденцию московского корреспондента «Нью-Йорк Таймс», пропущенную отделом печати НКИД, где излагаются всякие клеветнические штуки насчет членов нашего правительства в более грубой форме, чем это имело место одно время во французской бульварной печати. На запрос Молотову по этому поводу Молотов ответил, что допущена ошибка. Я не знаю, однако, кто именно допустил ошибку. Если Молотов распорядился дня три назад навести строгую цензуру, а отдел печати НКИД не выполнил этого распоряжения, то надо привлечь к ответу отдел печати НКИД. Если же Молотов забыл распорядиться, то отдел печати НКИД ни при чем и надо привлечь к ответу Молотова. Я прошу Вас заняться этим делом, так как нет гарантии, что не будет вновь пропущен отделом печати НКИД новый пасквиль на советское правительство. Я думаю, что нечего нам через ТАСС опровергать пасквили, публикуемые во французской печати, если отдел печати НКИД будет сам пропускать подобные пасквили из Москвы за границу». На следующий день с подачи Молотова четверка отрапортовала, что во всем виноват заместитель заведующего отделом печати Горохов, не придавший должного значения злополучной телеграмме. Тут Сталина прорвало. 6 декабря он обратился уже только к Маленкову, Берии и Микояну, игнорируя Молотова: «Вашу шифрограмму получил. Считаю ее совершенно неудовлетворительной… Присылая мне шифровку, вы рассчитывали, должно быть, замазать вопрос, дать по щекам стрелочнику Горохову и на этом кончить дело. Но вы ошиблись так же, как в истории всегда ошибались люди, старавшиеся замазать вопрос и добивавшиеся обычно обратных результатов. До вашей шифровки я думал, что можно ограничиться выговором в отношении Молотова. Теперь этого уже недостаточно. Я убедился в том, что Молотов не очень дорожит интересами нашего государства и престижем нашего правительства, лишь бы добиться популярности среди некоторых иностранных кругов. Я не могу больше считать такого товарища своим первым заместителем. Эту шифровку я посылаю только вам трем. Я ее не послал Молотову, так как не верю в добросовестность некоторых близких ему людей. Я вас прошу вызвать к себе Молотова, прочесть ему эту мою телеграмму полностью, копии ему не передавать». После такой телеграммы вполне мог последовать арест. Все участники драмы это понимали. Маленков, Берия и Микоян уже предвкушали, что четверка превратится в тройку, а главный из потенциальных наследников разделит судьбу Зиновьева и Бухарина. 7 декабря тройка телеграфировала Сталину: «Вызвали Молотова к себе, прочли ему телеграмму полностью. Молотов, после некоторого раздумья, сказал, что он допустил кучу ошибок, но считает несправедливым недоверие к нему, прослезился… 1. Мы напомнили Молотову о его крупной ошибке в Лондоне, когда он на Совете министров (иностранных дел. — Б. С.) сдал позиции, отвоеванные Советским Союзом в Потсдаме, и уступил нажиму англо-американцев, согласившись на обсуждение всех мирных договоров в составе 5 министров (с участием Франции и Китая. — Б. С.). Когда же ЦК ВКП(б) обязал Молотова исправить эту ошибку, то он, сославшись без всякой нужды на указания правительства, повел себя так, что в глазах иностранцев получилось, что Молотов за уступчивую политику, а советское правительство и Сталин неуступчивы… Мы сказали Молотову, что все сделанные им ошибки за последний период, в том числе и ошибки в вопросах цензуры, идут в одном плане политики уступок англо-американцам и что в глазах иностранцев складывается мнение, что у Молотова своя политика, отличная от политики правительства и Сталина, и что с ним, Молотовым, можно сработаться. Молотов заявил нам, что он допустил много ошибок, что он читал раньше Сталина гнусные измышления о советском правительстве, обязан был реагировать на них, но не сделал этого, что свои лондонские ошибки он осознал только в Москве… Что же касается Вашего упрека в отношении нас троих, считаем необходимым сказать, что мы в своем вчерашнем ответе исходили из Вашего поручения в шифровке от 5 декабря выяснить, кто именно допустил ошибку по конкретному факту с пропуском телеграмм московского корреспондента «Нью-Йорк Таймс»… Может быть, нами не все было сделано, но не может быть и речи о замазывании вопроса с нашей стороны». Вячеслав Михайлович почувствовал, что его вот-вот могут объявить матерым английским шпионом, и бросился каяться по полной программе. Пустил скупую наркомовскую слезу перед коллегами по коллективному руководству и отправил 7 декабря красноречивую телеграмму Сталину: «Познакомился с твоей шифровкой на имя Маленкова, Берия, Микояна. Считаю, что мною допущены серьезные политические ошибки в работе… Твоя шифровка проникнута глубоким недоверием ко мне, как большевику и человеку, что принимаю, как самое серьезное партийное предостережение для всей моей дальнейшей работы, где бы я ни работал. Постараюсь делом заслужить твое доверие, в котором каждый честный большевик видит не просто личное доверие, а доверие партии, которое дороже моей жизни». И вслед за покаянной телеграммой пришло сообщение, что Молотов добился успеха, убедив западных партнеров провести 15 декабря очередную встречу министров иностранных дел в Москве в составе тройки, то есть без участия не только Китая, но и Франции. Министрам предстояло обсудить вопросы, имеющие актуальное значение для США, Великобритании и СССР. Сталин сразу смягчился. Его успокоило и то, что Молотов прослезился, а в покаянной телеграмме прямо дал понять, что его жизнь в руках вождя. Значит, нет у него в душе стержня, сломался соратник и никогда не рискнет выступить против генсека, чтобы приблизить свое вступление в наследство. А вот Маленков, Берия и Микоян, напротив, Сталина разочаровали. Они готовы огульно охаять чуть ли не все внешнеполитические достижения СССР, забывая, что к ним причастен не только глава НКИД, но в первую очередь сам Иосиф Виссарионович. И отказывались признать свои ошибки. Поэтому 8 декабря Сталин ответил тройке коротко и раздраженно: «Вашу шифровку от 7-го декабря получил. Шифровка производит неприятное впечатление ввиду наличия в ней ряда явно фальшивых положений. Кроме того, я не согласен с Вашей трактовкой вопроса по существу. Подробности потом в Москве». Но генсек не стал дожидаться возвращения в столицу и в ночь на 9 декабря отправил длинную шифрограмму с заголовком «Для четверки», исправленным затем на «Молотову для четверки». Доверие к Вячеславу Михайловичу было частично восстановлено. Большое дело — вовремя поплакать. Бухарин и Ягода со своими рыданиями сильно опоздали, вот и заработали по пуле. Правда, обращение непосредственно к Вячеславу Михайловичу объяснялось еще и тем, что один из пунктов послания был посвящен критике его персональных ошибок. Тем не менее четверке давалось понять, что Молотов пока остается в составе коллективного руководства. Между тем измышления в иностранной прессе по поводу болезни Сталина продолжались. 10 декабря к Иосифу Виссарионовичу поступило сообщение ТАСС об очередной публикации бульварной газеты «Курьер де Пари», утверждавшей, что «Сталин был жертвой любовной драмы. Известно, что вот уже в течение двух месяцев существует тайна Сталина… По одним сведениям, он якобы умер. Другие сведения касались серьезного внутреннего конфликта. На самом же деле истина неизмеримо более проста. Если верить некоторым русским, недавно прибывшим из Москвы… Сталин оказался просто жертвой любовной драмы. Можно быть полубогом, не переставая при этом оставаться человеком. Сталин имел связь с известной русской артисткой. Его жена во время объяснения с ним в припадке ревности выстрелила в него в упор из револьвера. Тяжело раненного Сталина сначала лечили в величайшей тайне в Москве, а затем, когда его состояние это позволило, перевезли на берег Черного моря, где он сейчас и выздоравливает. Подлинность этого рассказа подтверждается, по-видимому, тем фактом, что цензура сообщений иностранных корреспондентов значительно усилена со времени болезни владыки России». Сталин понял: игру надо кончать. 18 декабря Иосиф Виссарионович покинул Сочи. Своей цели он достиг, хотя и ценой некоторой потери престижа. Выяснилось, что никто из первой команды потенциальных претендентов на роль самостоятельного государственного лидера пока не годится. Молотов склонен к уступкам и, чего доброго, после его, Сталина, смерти приподнимет «железный занавес». Поэтому прежнего влияния Вячеслав Михайлович не восстановил никогда. Сталин постепенно оттеснял его от рычагов власти, а накануне своей кончины, судя по всему, собирался пристегнуть давнего соратника к процессу по «делу врачей-убийц», да не успел. Близкий к Молотову Микоян также навсегда лишился расположения вождя и играл теперь сугубо второстепенную роль. Однако и два других члена четверки, Маленков и Берия, показали себя за это время законченными оппортунистами. Сталин опасался, что после его смерти они договорятся с «буржуазным Западом» и не станут хранить идеалов «пролетарской революции» и победы коммунизма во всем мире. Хотя вскоре, в марте 1946-го, Георгий Максимилианович и Лаврентий Павлович стали полноправными членами Политбюро, их реальный вес в государстве уменьшился. Маленков якобы допустил халатность в связи с делом руководителей авиапромышленности и отправился в краткосрочную ссылку руководить работой Среднеазиатского бюро ЦК. Берия же вынужден был целиком сосредоточиться на атомном проекте, перестав курировать органы безопасности. МГБ возглавил не близкий к нему Рясной, а сталинский ставленник Абакумов. Иосиф Виссарионович прислушался к мнению зарубежной прессы и обратил внимание на «анонима» Жданова. Раз Андрея Александровича на Западе сравнивают с ним, Сталиным, каким он был после смерти Ленина, есть надежда, что Жданов продолжит правильный курс и не капитулирует перед Англией и США. На первый план выходит ленинградская команда во главе со Ждановым, взявшим на себя партию первой скрипки в борьбе с «безродными космополитами».Как создавалась Бомба
Еще в 1944 году в недрах Наркомата госбезопасности был создан специальный отдел «С» по атомным проблемам. Возглавлял его близкий Берии человек — один из организаторов убийства Троцкого генерал-лейтенант Павел Анатольевич Судоплатов, занимавшийся по совместительству террором и диверсиями. В начале 1945 года научный руководитель уранового проекта И. В. Курчатов написал Берии письмо, в котором отмечал, что возглавляющий проект Молотов неповоротлив и медлителен и до сих пор не сумел организовать геологические изыскания урановых руд. Лаврентий Павлович и до этого опекал Игоря Васильевича. В конце 1943 года Курчатов был избран в Академию наук на специально созданное для него дополнительное место. Позднее Берия говорил заместителю Судоплатова по науке профессору Я. П. Терлецкому: «Это ми его сдэлали акадэмиком!» Теперь Лаврентий Павлович немедленно доложил Сталину о жалобе «своего академика» на Молотова. В результате Иосиф Виссарионович решил сделать ответственным за супербомбу самого Берию. С начала 1945 года он стал курировать атомный проект. Лаврентию Павловичу предстояло в кратчайший срок создать советскую атомную бомбу, чтобы ликвидировать американскую монополию и развязать Сталину руки в международной политике. Возглавив столь важное дело, Берия сразу становился самым влиятельным членом правительства, самым необходимым для Сталина министром. 28 февраля 1945 года за подписью главы НКГБ Меркулова на стол Берии легла докладная записка о ходе работ по созданию атомной бомбы в США — сообщение, которое Лаврентий Павлович в своей резолюции оценил как «важное». В документе подчеркивалось: «Проведенные силами ведущих научных работников Англии и США исследовательские работы по использованию внутриатомной энергии для создания атомной бомбы показали, что этот вид оружия следует считать практически осуществимым и проблема ее разработки сводится в настоящее время к двум основным задачам: 1. Производство необходимого количества расщепляемых элементов — урана-235 и плутония. 2. Конструктивная разработка приведения в действие бомбы». Генерал Петр Семенович Мотинов, доставивший в Москву из Канады образцы урана, полученные от советского агента физика Аллана Нана Мэя, вспоминал: «На аэродроме меня встречал сам Директор (глава армейской разведки генерал-полковник Ф. Ф. Кузнецов. — Б. С.). С большими предосторожностями я достал из-за пояса драгоценную ампулу с ураном и вручил ее Директору. Он немедля отправился к черной машине, которая стояла тут же, на аэродроме, и передал ампулу в машину. — А кто там был? — спросил я потом Директора. — Это Берия, — прошептал Директор. Через четыре дня появилось сообщение, что Берия стал маршалом. Возмущению фронтовиков не было предела, но протестовали все шепотом…» Основная информация по атомной бомбе поступила от талантливого немецкого физика Клауса Фукса, человека левых убеждений, работавшего на Москву по идейным соображениям. Именно Фукс передал схему американского атомного устройства, тщательно скопированную советскими учеными, которым Сталин категорически запретил заниматься здесь какой-либо самодеятельностью. Фукс предоставил также собственные разработки водородной бомбы, которые советским ученым удалось воплотить в жизнь даже быстрее американских коллег. Имелись у Берии и другие агенты в американском атомном центре в Лос-Аламосе, — например, механик Дэвид Грингласс, работавший со знаменитым советским резидентом и своим зятем Юлиусом Розенбергом. Позднее Юлиуса сделали «козлом отпущения» за утечку американских ядерных секретов и вместе с женой Этель казнили на электрическом стуле. Были и другие солдаты той великой битвы за советское ядерное оружие, правда о которых становится известной только в последние годы. В 1992 году эмигрировал в Англию бывший архивариус КГБ Василий Митрохин, в душе ненавидевший советский строй и загодя копивший секретный материал (который выносил с работы то ли в ботинках, то ли в носках). Пока британские агенты нашли тайники на митрохинской даче и переправили их диппочтой из Москвы в Лондон, пока контрразведка разбиралась с коллекцией Митрохина, прошло семь лет. И только в 1999 году британская и мировая общественность узнала, что некая Мелита Норвуд, которой к тому времени исполнилось 87 лет, в 40-е годы, будучи секретаршей руководителя английского ядерного проекта, передала советской разведке бесценные сведения об атомной бомбе. Сразу после капитуляции Германии заместитель Берии генерал-лейтенант А. П. Завенягин отправился в Берлин разыскивать немецких физиков, участвовавших в германском урановом проекте. В СССР в добровольно-принудительном порядке были доставлены специалист по диффузионному разделению изотопов нобелевский лауреат Густав Герц, конструктор электронно-оптических приборов Манфред фон Арденне, специалист по металлургии урана Николай Риль (ему потом присвоили звание Героя Социалистического Труда) и др. Они внесли лепту в появление советской атомной бомбы, в частности сконструировав сверхскоростную центрифугу для разделения изотопов урана. Потом была атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. Как вспоминал Я. П. Терлецкий, Иосиф Виссарионович прореагировал на это событие очень нервно: «После взрыва атомной бомбы в Хиросиме Сталин устроил грандиозный разнос, он впервые за время войны вышел из себя, топал ногами, стучал кулаками… Ведь рушилась мечта о распространении социалистической революции на всю Европу, мечта, казавшаяся столь близко осуществимой после капитуляции Германии и как бы перечеркнутая нерадивостью наших атомщиков во главе с Курчатовым». По свидетельству Якова Петровича, опыты и выводы Курчатова и его команды были повторением американских и английских разработок, полученных с помощью отдела «С»: «При этом теоретики поражались невероятной интуиции Курчатова, который, не будучи теоретиком, точно «предсказывал» им окончательный результат. Это вряд ли вызывает восторг у тех, кто вслед за Игорем Николаевичем Головиным создали наивный миф о сверхгениальном физике, якобы определившем все основные направления атомной проблемы, который якобы один соединил в своем лице гений Ферми, таланты Бете, Сцилларда, Вигнера, Оппенгеймера и многих других». 20 августа 1945 года по инициативе Лаврентия Павловича постановлением ГКО был образован Специальный комитет (с сентября он действовал при Совнаркоме). На него возлагали «руководство всеми работами по использованию внутриатомной энергии урана: развитие научно-исследовательских работ в этой области; широкоеразвертывание геологических разведок и создание сырьевой базы СССР по добыче урана, а также использование урановых месторождений за пределами СССР (в Болгарии, Чехословакии и других странах); организацию промышленности по переработке урана, производству специального оборудования и материалов, связанных с использованием внутриатомной энергии; а также строительство атомно-энергетических установок и разработку и производство атомной бомбы». Председателем Спецкомитета назначили Берию. По этой линии, как член Спецкомитета, ему подчинялся даже Г. М. Маленков, второй человек в партийном руководстве после Сталина. На атомный проект Сталин не жалел ни денег, ни людей. Для него в тот момент это была главная задача, сравнимая по значению только с победой над Германией. Но и спрос с участников, это Лаврентий Павлович хорошо понимал, будет особый. Если не удастся быстро сделать бомбу, то полетят головы — и его в первую очередь. Объявят американским или даже турецким шпионом, заговорщиком, умышленно затягивающим создание столь нужного СССР ядерного оружия, — и пожалуйте на тот свет вслед за Генрихом Ягодой и Николаем Ежовым. 13-й пункт постановления о Спецкомитете гласил: «Поручить тов. Берия принять меры к организации закордонной разведывательной работы по получению более полной технической и экономической информации об урановой промышленности и атомных бомбах, возложив на него руководство всей разведывательной работой в этой области, проводимой органами разведки (НКГБ, РУКА (Разведывательное управление Красной Армии — хороша аббревиатура! — Б. С.) и др.)». Тем же постановлением по предложению Лаврентия Павловича создавалось Первое Главное управление (ПГУ), практически координировавшее деятельность различных ведомств, участвовавших в атомном проекте, и контролировавшееся только Спецкомитетом. Вскоре появилось и Второе Главное управление (ВГУ), занимавшееся разработкой и производством ракетного оружия — будущего средства доставки атомных и водородных зарядов. Его деятельность также курировал Берия. В постановлении о создании ПГУ особо подчеркивалось: «Никакие организации, учреждения и лица без особого разрешения ГОКО не имеют права вмешиваться в административно-хозяйственную и оперативную деятельность Первого Управления, его предприятий и учреждений или требовать справок о его работе или работах, выполняемых по заказам Первого Главного Управления. Вся отчетность по указанным работам направляется только Специальному Комитету при ГОКО». Начальником Первого Главного управления Берия рекомендовал тогдашнего наркома боеприпасов генерал-полковника Б. Л. Ванникова, которого сам же допрашивал в 1941-м по «делу авиаторов». Борис Львович во всем признался, хотя ни в чем и не был виноват. Но, в отличие от Штерна, Смушкевича, Локтионова и других генералов, которых ждала пуля в куйбышевском подвале, Ванников уцелел. Сталин решил, что такой ценный специалист еще пригодится. Ванникова выпустили, и он успешно трудился всю войну на посту заместителя наркома вооружений, а потом — наркома боеприпасов. Берия для Бориса Львовича навсегда остался человеком, чуть было не отправившим его на тот свет. Генерал понимал, что малейшая оплошность может привести к последствиям гораздо худшим, чем в 1941-м, и требованиям Лаврентия Павловича подчинялся беспрекословно. Правда, по возможности старался переложить ответственность на других. По воспоминаниям участников атомного проекта, Борис Львович часто заболевал перед важными испытаниями. А уж интриговать против Лаврентия Павловича у него и мысли не было. Что-что, а кадры подбирать Берия умел. Строили ядерные объекты заключенные и солдаты, чье положение мало отличалось от положения заключенных. Бойцы строительных частей рекрутировались в основном из бывших пленных и жителей оккупированных территорий. При Сталине они считались людьми второго сорта, чья жизнь не стоила практически ничего. В годы войны призывников с оккупированных территорий невооруженными бросали в истребительные лобовые атаки на немецкие позиции. После войны уцелевшим предстояло участвовать в лобовой атаке на другом фронте — советского атомного проекта. О строительстве радиохимического комбината под Кыштымом (Челябинск-40) на Урале (нынешнее НПО «Маяк») вспоминал один из оставшихся в живых солдат, В. Вышемирский: «Жили на стройке и под открытым небом, и в палатках, и в землянках, хотя зимой морозы достигали сорока градусов… Кострами жгли мерзлую землю, кирками долбали скальный грунт. Кормили мороженой картошкой и капустой… Чтобы получить дополнительный паек — лишний черпак баланды и сто граммов хлеба, — нужно перевыполнить норму, которую и осилить-то было невмоготу. Условия мало чем отличались от лагерных, случались среди солдат и самоубийства». Другой уцелевший, А. Осипов, свидетельствует: «Люди умирали десятками, сотнями — от недоедания и тяжелого, изнурительного труда». А вот как описывает условия на Кыштымской стройке бывший солдат стройбата А. Харитонов: «Жили мы там в землянках, куда входила целая рота (в одну землянку. — Б. С.). Работали по 11 часов — с 8 утра до 7 вечера. Однажды приехало множество генералов — все такие красивые и пузатые. Я подумал: что же они едят, если такие пузатые (интересно, не было ли среди тех генералов Лаврентия Павловича, у которого тоже имелось изрядное брюшко? — Б. С.)? Мы вечно ходили голодные, питания не хватало, вторая норма (по которой снабжались солдаты. — Б. С.) не рассчитана на этот каторжный труд, иногда после работы просто падали. С 1949 года задымила труба нашего объекта, вокруг лес стал мертвым. На следующий год нас демобилизовали, но не выпустили, только через год я вырвался из этого ада. Мало наших осталось в живых, может, о них хоть вспомнит правительство?» Но правительство ни тогда, ни теперь не вспоминает ни о живых, ни о мертвых. Так уж повелось в России, что все новое, начиная с имперской столицы Санкт-Петербурга, строилось на костях. Н. Лапыгин, офицер, трудившийся на строительстве Челябинска-40, удивляется, сколь низка была механизация работ: «Поражала насыщенность примитивной рабочей силой на стройке — если по нормам мастеру положено руководить полсотней рабочих, то здесь было двести и больше. Людей нагнали массу, чтобы взять числом, а не уменьем. Ведь техническое оснащение было убогим — ни подъемной техники, ни землеройных машин, все делалось вручную с небольшим применением малой механизации. Вручную загружали ковши тяжелым скальным грунтом, оставшимся после большого взрыва для образования котлована под реактор. Вручную делали опалубку и заполняли ее тысячами кубометров бетона. Толщина стен была огромная — для защиты от радиации… Деньги тратились на что угодно, только не на то, чтобы облегчить и механизировать солдатский труд. Впрочем, однажды на объекте «А» техники появилось жуткое количество — откуда только нагнали ее? К моему изумлению, бульдозерами, грейдерами стали засыпать траншеи, в которые еще не окончили укладывать коммуникации, — оказывается, приехал Берия, и для него уж холуи постарались… В другой раз мне велели за ночь построить шатер из сборных элементов и обить его шелком. Не пожалели роты солдат и крановщицу Таню. К пяти утра шатер стоял, а в шесть прибыл туда Курчатов и поинтересовался у меня: — Не устали? — Фронтовики все выдерживают… — Да, для вас это вторая война… А бывало и такое — на оперативке монтажники заявили, что у них кончаются нержавеющие болты. Бывший тут же замминистра звонит в Москву и велит заводу-изготовителю отправить машину с болтами в аэропорт, чтобы погрузить в самолет. А утром машина от нас пошла в аэропорт Челябинска. Болты прибыли вовремя, но стали почти «золотыми». Средств не жалели, об экономии не думали. По воспоминаниям заместителя директора Кыштымского комбината В. Филиппова, за излишнюю заботу об эффективности производства глава ПГУ Ванников грозил подчиненным теми же карами, которыми когда-то ему самому грозили в НКВД: «Ванников выходил из кабинета к столу, снимал пиджак и аккуратно вешал на стул. Из заднего кармана вынимал пистолет и клал его на стол. Открывая совещание, он провозглашал: «Ну, е…. мать, докладайте!» Вел оперативку напористо, с большим высокомерием, в выражениях не стеснялся. Я «докладал» первым. Однажды я сообщил, что из-за изменений проекта задерживается изготовление резервуаров. Ванников тут же прервал меня: «Когда я был наркомом вооружений и мой главный инженер изменил свое решение на более экономичное, я велел его расстрелять…» Старшему монтажнику Нафту за нарушение графика Ванников запросто сказал, достав из обоймы патрон с пулей: «За это на тебя жалко истратить даже маленький кусочек свинца…» Что ж, с кем поведешься, от того и наберешься. Сам Лаврентий Павлович мог и крепкое слово ввернуть, и к стенке пригрозить поставить. Впрочем, он-то понимал, что расстрелами и репрессиями в данном случае не поможешь. Если вывести в расход И. В. Курчатова и Ю. Б. Харитона, кто бомбу делать будет? Тот же Юлий Борисович Харитон, отец советской атомной бомбы, вспоминал о Лаврентии Павловиче в общем неплохо: «Берия, надо сказать, действовал с размахом, энергично, напористо. Часто выезжал на объекты, разбирался на месте, и все задуманное обязательно доводилось до конца. Никогда не стеснявшийся нахамить и оскорбить человека, Берия был с нами терпим и, трудно даже сказать, крайне вежлив. Если интересы дела требовали пойти на конфликт с какими-либо идеологическими моментами, он, не задумываясь, шел на такой конфликт. Если бы нашим куратором был Молотов, таких бы впечатляющих успехов, конечно, не было бы…» С ним согласен заместитель Курчатова профессор И. В. Головин, вообше-то склонный в своих воспоминаниях представлять Лаврентия Павловича демоническим злодеем, повторять существующие вокруг его имени мифы и всячески умалять вклад бывшего шефа НКВД в создание советской атомной бомбы: «Берия был прекрасным организатором — энергичным и въедливым. Если он, например, брал на ночь бумаги, то к утру документы возвращались с резонными замечаниями и дельными предложениями. Он хорошо разбирался в людях, все проверял лично, и скрыть от него промахи было невозможно…» С учеными Лаврентий Павлович действительно был вежлив и предупредителен. Зато ведавших организацией работ офицеров и генералов МВД и госбезопасности мог иной раз и припугнуть (этих-то заменить было гораздо легче). Академик А. Д. Сахаров вспоминал, как однажды Берия отчитал генерала госбезопасности И. Е. Павлова, по нерадивости сорвавшего производство важного компонента водородной бомбы: «Мы, большевики, когда хотим что-то сделать, закрываем глаза на все остальное (говоря это, Берия зажмурился, и его лицо стало еще более страшным). Вы, Павлов, потеряли большевистскую остроту! Сейчас мы Вас не будем наказывать, мы надеемся, что Вы исправите ошибку. Но имейте в виду, у нас в турме места много!» И вот настал долгожданный день первых испытаний советской атомной бомбы — 29 августа 1949 года. Взрыв произошел на полигоне под Семипалатинском. Вот как этот день запомнил Харитон: «Бомбу поднимали на башню лифтом, людей хотели доставить туда отдельно, но Зернов не стерпел, стал рядом с бомбой, и так они вдвоем поднялись на вышку, потом туда прибыли Щелкин и Ломинский. Они же уходили последними. На их пути было устройство, к которому надо было подключить провода, передававшие сигнал для срабатывания бомбы — был такой автомат, включавший устройство для подрыва инициаторов, расположенных по периферии заряда, чтобы образовалась сходящаяся волна. Кнопку этого устройства нажимал Щелкин, дальше уже все делалось автоматически — заряжались конденсаторы, в которых накапливалась энергия подрыва инициаторов, срабатывали детонаторы и т. д. И от этого момента нажатия кнопки до самого взрыва проходило, помнится, секунд сорок. Ну вот, через эти сорок секунд все осветилось ярчайшей вспышкой. Мы ее наблюдали через открытую (с задней стороны) дверь наблюдательного пункта, расположенного в десяти километрах от эпицентра. А через тридцать секунд после вспышки пришла ударная волна, и можно было выйти наружу и наблюдать последующие фазы взрыва. Берия тоже находился с нами, он поцеловал Игоря Васильевича (Курчатова. — Б. С.) и меня — в лоб (Лаврентий Павлович понимал, что неудача — а была вероятность в 5–6 процентов, что устройство не взорвется, — могла сразу же сделать его, Харитона и Курчатова «врагами народа» со всеми вытекающими отсюда последствиями. — Б. С.). Ярчайший свет и мощная ударная волна лучше всего засвидетельствовали, что мощность взрыва была вполне достаточной. Однако в «воспоминаниях» некоторых людей, которых там и в помине не было, описаны такие подробности, что просто диву даешься. Например, пишется, что в последние секунды вдруг начал увеличиваться поток нейтронов (это повышало вероятность того, что взрыва не произойдет. — Б. С), и все заволновались. Счетчик нейтронов действительно был, и он передавал сигналы на НП, но никакого усиления потока не было. Это все измышления, как и многие другие «детали» тех событий…» Харитон явно имел в виду «воспоминания» Головина, на испытаниях не присутствовавшего, но описавшего происшедшее куда подробнее Юлия Борисовича, аж на семи страницах книжного текста. По принципу «все, что было не со мной, помню». Здесь я приведу лишь те фрагменты головинских «мемуаров», которые непосредственно относятся к Берии, чтобы читатели могли проследить, как конструировался миф о Лаврентии Павловиче — злодее и дураке, ничего в порученном деле не смыслившем и оказавшемся на коне лишь благодаря героям-ученым и своим толковым заместителям из военно-промышленного комплекса: «Тележку с изделием медленно выкатывают через ворота во мрак ночи на платформу лифта. — Так и пойдет вверх без сопровождения? — восклицает Берия. — Нет, нет. — Зернов делает шаг, не предусмотренный графиком работ, встает на платформу лифта и, держась одной рукой за перекладину, в живописной позе уезжает вверх… Давыдов уже начал отсчитывать минуты, когда пришел Берия со своим сопровождением. Курчатов взял себя в руки и остановился рядом с Флеровым, наблюдая фон нейтронов. Два-три нейтрона за пятнадцать секунд. Все хорошо. И вдруг при общем молчании за десять минут до «часа» раздается голос Берии: — А ничего у вас, Игорь Васильевич, не получится! — Что вы, Лаврентий Павлович! Обязательно получится! — восклицает Курчатов и продолжает наблюдать, только шея его побагровела и лицо сделалось мрачно сосредоточенным. На третьей минуте до взрыва вдруг фон нейтронов удвоился, на второй минуте стал еще больше. Флеров с Курчатовым тревожно переглянулись — опасность хлопка вместо взрыва резко возросла. Но автомат пуска работает равнодушно, ускорить ничего невозможно, и во власти Курчатова только отменить взрыв (в действительности решение об отмене взрыва мог принять только Берия, и то только предварительно согласовав его со Сталиным. — Б. С.). — Десять секунд… пять секунд… три, две, одна, пуск! Курчатов резко повернулся лицом к открытой двери. Небо уже померкло на фоне освещенных холмов и степи. Курчатов бросился вон из каземата, взбежал на земляной вал и с криком «Она!» широко взмахнул руками, повторяя: «Она, она!», — и просветленье разлилось по его лицу. Столб взрыва клубился и уходил в стратосферу. К командному пункту приближалась ударная волна, ясно видимая по траве. Курчатов бросился навстречу ей. За ним рванулся Флеров, схватил его за руку, насильно увлек в каземат и закрыл дверь. В каземат врывались остальные — разрядившиеся, ликующие. Председатель (Берия. — Б. С.) обнял и расцеловал Курчатова со словами: «Было бы большое несчастье, если б не вышло!!» Курчатов хорошо знал, какое было бы несчастье. Но теперь все тревоги позади. Курчатов и его команда решили все научные задачи, с успехом прошли через все трудности организации (выходит, Лаврентий Павлович к организации работ отношения не имел, все тянул на себе Игорь Васильевич? — Б. С.). С лица Курчатова мгновенно слетело напряжение. Он стал сразу мягким и как будто смущенным. Но Берия вдруг забеспокоился. А такой ли был взрыв у американцев? Немедленно приказал соединить его по телефону с Мещеряковым, посланным для наблюдения за взрывом на северный наблюдательный пункт. В 1947 году он… был по приглашению американцев на Бикини и видел там американский подводный ядерный взрыв. — Михаил Григорьевич! Похоже на американский? Очень? Мы не сплоховали? Курчатов нам не втирает очки? Все так же? Хорошо! Хорошо! Значит, можно докладывать Сталину, что испытание успешно? Хорошо! Хорошо! Берия дал команду чем-то смущенному генералу, дежурившему у телефона, тотчас же соединить со Сталиным по ВЧ. В Москве подошел к телефону Поскребышев. — Иосиф Виссарионович ушел спать, — ответил он. — Очень важно, все равно позовите его. Через несколько минут Берии ответил сонный голос: — Чего тебе? — Иосиф, все успешно. Взрыв такой же, как у американцев… — Я уже знаю и хочу спать, — ответил Сталин и положил трубку. Берия взорвался и набросился с кулаками на побледневшего генерала: — Вы и здесь суете мне палки в колеса, предатели! Сотру в порошок!..» Легко убедиться, что все детали, придуманные Головиным и отсутствующие в рассказе Харитона, вполне соответствуют мифологическому образу жестокого и мнительного злодея, которым рисовала Берию советская пропаганда после его падения. Лаврентий Павлович предпринимает совершенно бессмысленные действия. На всякий случай побуждает одного из присутствовавших сопровождать «изделие» на башню, хотя толку от этого никакого, один только напрасный риск для человека. Берия постоянно не доверяет Курчатову, боится, что испытание сорвется, в последний момент теряет веру в успех. Тут по законам плохой пьесы возникает реальная опасность провала из-за роста нейтронного фона, чтобы потом весомее ощущался успех. Когда все позади, Берия целует Курчатова, но это поцелуй иудин, поскольку Лаврентии Павлович все еще сомневается, а настоящий ли был взрыв? Не надул ли его Курчатов? А пока Берия затевает дурацкую проверку, Сталин звонит по ВЧ, узнает от дежурного генерала, что бомба благополучно взорвалась, и идет спать. Злодей Берия посрамлен: ему не удалось первым доложить генералиссимусу об историческом событии, и тут же от вежливости не остается и следа: Лаврентии Павлович набрасывается с кулаками на ни в чем не повинного генерала. Вот так и рождались легенды о Берии, имевшие иногда мало общего с действительностью. После создания атомной бомбы Лаврентий Павлович в качестве главы Спецкомитета продолжал руководить и водородным проектом. Работа над созданием советской водородной бомбы началась в 1946 году с организации в Физическом институте Академии наук группы физика Игоря Евгеньевича Тамма. Первые же испытания водородной бомбы прошли в августе 1953 года, уже после ареста Берии. Отец советской водородной бомбы Андрей Дмитриевич Сахаров вспоминал свою первую встречу с Берией тет-а-тет в 1950 году во время работы над водородным проектом: «Он встал, давая понять, что разговор окончен, но вдруг сказал: «Может, у вас есть какие-нибудь вопросы ко мне?» Я совершенно не был готов к такому общему вопросу. Спонтанно, без размышлений, я спросил: «Почему наши новые разработки идут так медленно? Почему мы все время отстаем от США и других стран, проигрывая техническое соревнование?»… Берия ответил мне прагматически: «Потому что у нас нет производственно-опытной базы. Все висит на одной «Электросиле». А у американцев сотни фирм с мощной базой» (Лаврентий Павлович под конец жизни начал понимать, какая сила заключена в присущей капитализму конкуренции множества производственных фирм и научных коллективов. — Б. С.)… Он подал мне руку. Она была пухлая, чуть влажная и мертвенно-холодная. Только в этот момент я, кажется, осознал, что говорю с глазу на глаз со страшным человеком. До этого мне это не приходило в голову, и я держался совершенно свободно».Схватка бульдогов под ковром
В начале 1949 года Сталин отказался от услуг «ленинградской команды». Вновь наиболее близкими к нему членами Политбюро стали Маленков и Берия. В знак особого расположения Сталин наградил Лаврентия Павловича сразу двумя орденами Ленина — в связи с 50-летием и за бомбу и удостоил Сталинской премии 1-й степени. Маленков почти официально считался преемником вождя. Но вот беда, мастер аппаратных интриг, он не обладал ни волевыми качествами, ни харизмой. Воля имелась у Берии, кадрового чекиста и крепкого хозяйственника, но он грузин, а Сталину хотелось, чтобы его наследник был русским и мог опереться на самый многочисленный народ империи — зря, что ли, с «космополитами» боролись. Поэтому с конца 1949 года у Сталина появился еще один фаворит — Никита Сергеевич Хрущев, назначенный в декабре секретарем ЦК и первым секретарем Московского комитета партии. Он был русским, умел бойко, хотя и не всегда грамотно говорить и завоевывать любовь масс. Возможно, Сталин предполагал, что в первое время после его смерти сохранится коллективное руководство, члены которого будут вести себя едва ли не как пауки в банке. Что ж, пусть победит сильнейший. А примерный состав участников посмертного турнира Иосиф Виссарионович определил в октябре 1952 года, когда после XIX партсъезда назвал состав бюро Президиума ЦК в составе себя самого, а также Берии, Булганина, Маленкова и Хрущева. Круг наследников Сталин определил довольно точно. После его кончины произошло лишь одно существенное изменение. Малоавторитетного и слишком близкого к Хрущеву Булганина заменил Молотов, что, однако, не помешало Никите Сергеевичу обрести первенство и убрать из Президиума (Политбюро) всех остальных претендентов на единоличную власть. Сталин ценил Берию за роль в атомном и водородном проектах, но давал понять, что в любой момент может легко от него избавиться. В ноябре 1951 года был арестован ряд руководителей Грузии, ранее близких к Берии, которых обвинили в создании «мингрело-националистической группы». Комиссию ЦК, приехавшую в Грузию снимать с должности министра юстиции республики Авксентия Рапаву, секретаря ЦК Барамию и других членов группы, возглавлял Берия. Сталин устроил ему еще одну проверку: как-то Лаврентий будет сажать своих ставленников. Тогда же арестовали племянника Лаврентия Павловича Теймураза Шавдию, который в начале войны попал в плен, записался в грузинский легион СС, а потом дезертировал оттуда и сражался в рядах французских партизан. Шавдии дали 25 лет за измену Родине, и дядя ничем не сумел ему помочь. Но Берию Сталин не тронул. Более того, в феврале 1952 года Лаврентий Павлович укрепил свое положение, когда близкие к нему В. С. Рясной и С. А. Гоглидзе стали заместителями министра госбезопасности партаппаратчика С. Д. Игнатьева. В марте 1953-го внезапно скончался Сталин. К власти в стране на короткое время пришло коллективное руководство в составе формального преемника Сталина Г. М. Маленкова, назначенного председателем Совета Министров, Н. С. Хрущева, возглавившего работу Секретариата ЦК, и двух первых заместителей председателя правительства — В. М. Молотова, занявшего также пост министра иностранных дел, и Л. П. Берии, ставшего лидером МВД, поглотившего МГБ. Берию и Маленкова ранее связывали дружеские отношения. В первые месяцы после смерти Сталина их блок противостоял блоку двух других членов правящей четверки — Хрущева и Молотова. Берии с помощью Маленкова удалось провести реабилитацию осужденных по «делу врачей», по «делу о вредительстве в авиационной промышленности» в 1946 году, по «делу работников Главного артиллерийского управления» в 1951-м. Все эти дела были в свое время инспирированы противниками Маленкова и Берии. В записке, предлагавшей реабилитировать главного маршала авиации А. А. Новикова, А. Н. Шахурина и других руководителей авиационной промышленности, Берия указал, что у арестованных выбили заявления, в которых делалась попытка «оклеветать тов. Маленкова». Реабилитирован был и брат Лазаря Моисеевича Кагановича — Михаил, бывший нарком авиапромышленности, покончивший с собой после обвинений в заговоре с целью установления в СССР фашистского правительства! Лаврентий Павлович также предложил реабилитировать членов Еврейского антифашистского комитета. Он установил, что известный режиссер Соломон Михоэлс не погиб под колесами грузовика в Минске в 1948 году, а был убит офицерами МГБ по приказу тогдашнего министра госбезопасности В. С. Абакумова, действовавшего, несомненно, по поручению Сталина. Берия предложил Президиуму ЦК лишить участников преступления полученных за это орденов и отдать под суд. Глава МВД арестовал бывшего своего ставленника Л. Ф. Цанаву, в качестве министра госбезопасности Белоруссии непосредственно организовавшего покушение на Михоэлса. Уже после падения Берии Президиум ограничился тем, что отнял у убийц ордена. Цанава же скончался во время следствия, которое обвиняло его уже… в участии в заговоре Берии! Лаврентий Павлович направил предложение провести широкую амнистию заключенных, принятое Президиумом ЦК. 27 марта 1953 года был издан указ, подписанный председателем Президиума Верховного Совета СССР К. Е. Ворошиловым, поэтому в народе амнистия 1953 года называлась «ворошиловской». Из 2 526 402 заключенных и подследственных, находившихся в тюрьмах и лагерях, подлежало освобождению 1 181 264 человека, не представлявших особой общественной опасности. В их число входили лица, осужденные на пять и менее лет, на больший срок за должностные, хозяйственные и воинские преступления, пожилые и больные заключенные, беременные и женщины, имеющие детей в возрасте до 10 лет, а также несовершеннолетние. Берия предлагал еще более широкую амнистию, которая затронула бы большинство политических заключенных (со сроком обычно не меньше восьми лет), но коллеги по Президиуму ЦК его не поддержали. Одновременно Лаврентий Павлович добился отмены ограничений на прописку в большинстве городов и пограничных местностей. Кроме закрытых военно-промышленных городов режимными остались Москва, Ленинград, Владивосток, Севастополь и Кронштадт. Делалось это для того, чтобы амнистированные вернулись в родные края и могли легче адаптироваться к жизни на воле. Берия подчеркивал: «Установленные ограничения для свободного перемещения и проживания на территории СССР вызывают справедливое нарекание со стороны граждан. Следует отметить, что такой практики паспортных ограничений не существует ни в одной стране. Во многих капиталистических странах — США, Англии, Канаде, Финляндии и Швеции — у населения паспортов вообще не имеется, о судимости никаких отметок в личных документах граждан не делается». Разумеется, от пребывания в тюрьме никто лучше не становится, и многие безобидные бытовики или осужденные по печально знаменитому закону «семь-восемь» (от 7 августа 1932 года) за то, что подбирали колхозные колоски, в лагерях приобрели вполне уголовные наклонности. И Берии пришлось откликаться на жалобы с мест о бесчинствах амнистированных. Так, 21 мая 1953 года он писал в управление внутренних дел Краснодарского края: «В г. Кропоткин много случаев бандитизма, воровства и других уголовных проявлений, вследствие чего местные жители опасаются ходить по городу в позднее время. Примите необходимые меры к усилению борьбы с уголовной преступностью и охраны общественного порядка в г. Кропоткин. О результатах доложите». Берия давно уже понял неэффективность подневольного труда зеков и постарался разгрузить ГУЛАГ. Новые сложные виды вооружений требовали квалифицированного труда. Одновременно с амнистией, 21 марта, Берия направил предложение о закрытии более 20 крупных строек, на которых были заняты в основном заключенные. Прекратились работы на главном Туркменском канале, канале Волга — Урал, на гидроузлах Нижнего Дона, на железной дороге Чум — Салехард — Игарка и БАМе и др. Все эти проекты были экономически неэффективны и вредны с точки зрения экологии. Но Лаврентий Павлович задумал еще более глобальные реформы. Опасаясь, что центробежные тенденции когда-нибудь могут развалить Советский Союз, он предложил хоть частично удовлетворить национальные чувства жителей республик. По замыслу Берии, руководителями компартий и основных ведомств должны были стать представители коренной национальности. Предполагалось сформировать национальные армии, учредить национальные ордена (например, в Грузии — Шота Руставели, на Украине — Тараса Шевченко и т. д.), перевести делопроизводство на национальные языки, больше внимания уделять национальной интеллигенции. Опыт войны убедил Лаврентия Павловича, что далеко не все советские народы готовы были идти в бой «за Родину, за Сталина!». Его сын, побывавший на Западной Украине, подтвердил, что жители вновь присоединенных территорий отнюдь не рады своему вхождению в «семью братских народов». Серго Лаврентьевич вспоминал: «Именно там (на Украине. — Б. С.) я узнал, что такое повстанческое движение в нашем тылу… Жестокость порождала жестокость. Помню, как один из отрядов националистов штурмовал погранзаставу, где были задержаны их люди. Когда советское подразделение прибыло на выручку, спасать уже было некого — весь личный состав был вырезан… Когда фронт ушел на запад, для борьбы с повстанцами… переодевали наших солдат и выдавали такие подразделения за отряды бандеровцев… Очень сильное впечатление произвели на меня захваченные повстанцы. Многие из них были мои ровесники. Грамотные, убежденные в своей правоте молодые люди. Нередко среди них встречались студенты… Когда я рассказал об увиденном в Западной Украине отцу, он отреагировал так: «А чему ты удивляешься? Эти люди воюют за самостоятельную Украину. И в Грузии так же было, и в любом другом месте может быть. Оружием их на свою сторону не зазовешь…» Лаврентий Павлович надеялся завлечь народы возможностями сохранять и развивать национальные языки и культуры, служить в национальной армии, подчиняться соплеменникам, а не людям, присланным из Москвы. Надеялся привлечь на сторону центра национальные элиты, дав им реальную власть в республиках. Ведь до 1953 года в республиках Средней Азии, в Прибалтике, Молдавии и Белоруссии русские резко преобладали на всех мало-мальски значимых административных постах, вплоть до участковых милиционеров. Да и в остальных республиках их доля на руководящих должностях была значительно выше, чем доля русских в населении соответствующих территорий. Попытался Берия достичь и некоторой разрядки в международных делах. Он рекомендовал нормализовать отношения с югославским руководством, возглавляемым Иосипом Броз Тито, и добиваться объединения Германии в качестве буржуазного, но нейтрального государства. Однако все его инициативы были обречены на провал. Прежде всего партийный аппарат восстал против намеченных Лаврентием Павловичем кадровых перестановок в руководстве республики. На Пленуме ЦК КПСС в начале июля 1953-го, когда участники смело клеймили уже арестованного Берию, глава коммунистов Белоруссии Н. С. Патоличев поведал страшную историю, как поверженный глава МВД попробовал подорвать вековую дружбу русского и белорусского народов: «Это была самая настоящая диверсия со стороны Берии… Впервые в истории нашего многонационального государства имеет место то, когда опытные партийные, советские кадры, преданные нашей партии, снимаются с занимаемых постов только потому, что они русские». Берия не мог рассчитывать на поддержку не только в партии, но и в родном ведомстве (народ ни его, ни оппонентов не волновал — люди давно уже не могли высказывать своего мнения и влиять на власть). Абакумов насадил туда своих людей, да и многие прежние выдвиженцы Берии, вроде Цанавы, успели переметнуться на сторону Виктора Семеновича и усидели на своих местах даже после падения Абакумова. Потом кадры МГБ пополнились людьми нового министра — кадрового партработника С. Д. Игнатьева. Оба заместителя Берии, С. Н. Круглов и И. А. Серов, не могли считаться его безоговорочными сторонниками. Сергей Никифорович больше тяготел к Маленкову, а Иван Александрович — к Хрущеву, с которым хорошо сработался на Украине. В. С. Рясной и С. А. Гоглидзе, заместители Игнатьева в последний год жизни Сталина, не имели возможности в ту пору влиять на кадровую политику. Василий Степанович, которого в мае 1953-го Берия назначил на ключевой пост УВД Москвы и Московской области, во время июньских событий переметнулся на сторону его врагов. Так что использовать объединенный МВД как инструмент захвата власти в 1953 году Лаврентий Павлович никак не мог. Предпринятая Берией механическая замена кадров по национальному признаку, когда в той же Белоруссии русских сменяли белорусы, совсем не гарантировала лояльности к нему новых выдвиженцев. Кроме того, в тех республиках, где русская и русифицированная элита была многочисленна и сплочена в единый клан, бериевская реформа стала пробуксовывать еще до падения своего творца. Конечно, идея борьбы с сильнейшей русификацией партийно-государственного аппарата в союзных республиках с помощью своеобразных «процентных норм» ничего общего с демократией не имеет. Но Берия и не собирался строить в СССР демократическое государство по западному образцу. Просто он хорошо понимал: от насаждавшейся сверху чисто административным путем русификации можно избавиться только столь же грубыми, административными методами. В отсутствие демократии это единственный путь. Столь же опасным для подавляющего большинства номенклатуры было и предложение Лаврентия Павловича об объединении Германии. На июльском Пленуме Молотов возмущался: «При обсуждении германского вопроса в Президиуме Совета Министров вскрылось… что Берия стоит на совершенно чуждых нашей партии позициях. Он заговорил тогда о том, что нечего заниматься строительством социализма в Восточной Германии, что достаточно и того, что Западная и Восточная Германия объединились, как буржуазное миролюбивое государство. Эти речи Берии не могли пройти мимо нашего внимания… Для нас, как марксистов, было и остается ясным, что при существующем положении, т. е. в условиях нынешней империалистической эпохи, исходить из перспективы, будто буржуазная Германия может стать миролюбивым или нейтральным в отношении СССР государством, — является не только иллюзией, но и означает фактический переход на позиции, чуждые социализму… Капитулянтский смысл предложений Берии по германскому вопросу очевиден. Фактически он требовал капитуляции перед так называемыми «западными» буржуазными государствами… Нам стало ясно, что это — чужой человек, что это — человек антисоветского лагеря. (Голоса: «Правильно!..»)». Соратники Ленина и Сталина не привыкли уступать ни пяди той земли, куда ступила нога советского солдата. Единственное показательное исключение — вывод в 1946 году оккупационных войск из Северного Ирана, осуществленный только из-за страха перед американской атомной бомбой. Вывод же Советской Армии из Восточной Германии и согласие на реставрацию там капитализма означал не только шаг к окончанию «холодной войны» и отказ от распространения социализма в Западную Европу на штыках советских воинов, но и подспудное признание преимуществ буржуазного строя перед социалистическим. Раз уж не получилось в такой промышленно развитой и, согласно Марксу, вполне созревшей для социализма стране, как Германия, то, значит, что-то не так с самой марксистско-ленинско-сталинской теорией. Берия, похоже, это понял, но для Маленкова, Хрущева, Молотова, Ворошилова, Микояна, Кагановича и прочих подобное признание было смерти подобно. Жизни в другой общественной системе они просто не мыслили, не видя там для себя достойного места. Лаврентий Павлович был обречен.Арест
Постфактум и Хрущев, и Маленков приписывали каждый себе ведущую роль в аресте Берии. Логика событий заставляет поверить скорее Никите Сергеевичу. Все-таки Георгий Максимилианович из всех членов Президиума ЦК был наиболее близок к Берии, и не резон ему было бы первым предлагать вывести в расход «дорогого друга Лаврентия». Поэтому послушаем рассказ Хрущева о том, как готовился арест Берии: «Наступило наше дежурство с Булганиным (у постели больного Сталина. — Б. С.)… Я с Булганиным тогда был больше откровенен, чем с другими, доверял ему самые сокровенные мысли и сказал: «Николай Александрович, видимо, сейчас мы находимся в таком положении, что Сталин вскоре умрет. Он явно не выживет. Да и врачи говорят, что не выживет. Ты знаешь, какой пост наметил себе Берия?» — «Какой?» — «Он хочет пост министра госбезопасности… Нам никак нельзя допустить это. Если Берия получит госбезопасность — это будет начало нашего конца. Он возьмет этот пост для того, чтобы уничтожить всех нас. И он это сделает!» Булганин сказал, что согласен со мной. И мы стали обсуждать, как будем действовать. Я ему: «Поговорю с Маленковым. Думаю, что Маленков такого же мнения, он ведь должен все понимать. Надо что-то сделать, иначе для партии будет катастрофа»… Как только Сталин умер, Берия тотчас сел в свою машину и умчался в Москву с «ближней дачи». Мы решили вызвать туда всех членов Бюро или, если получится, всех членов Президиума ЦК партии. Точно не помню. Пока они ехали, Маленков расхаживал по комнате, волновался. Я решил поговорить с ним: «Егор, — говорю, — мне надо с тобой побеседовать». — «О чем?» — холодно спросил он. «Сталин умер. Как мы дальше будем жить?» — «А что сейчас говорить? Съедутся все, и будем говорить. Для этого и собираемся». Казалось бы, демократический ответ. Но я-то понял по-другому, понял так, что давно уж все вопросы оговорены им с Берией, все давно обсуждено. «Ну, ладно, — отвечаю, — поговорим потом». Вот собрались все… Увидели, что Сталин умер… И вот пошло распределение «портфелей». Берия предложил назначить Маленкова Председателем Совета Министров СССР с освобождением его от обязанностей секретаря ЦК партии. Маленков предложил утвердить своим первым заместителем Берию и слить два министерства, госбезопасности и внутренних дел, в одно Министерство внутренних дел, а Берию назначить министром. Я молчал. Молчал и Булганин. Тут я волновался, как бы Булганин не выскочил не вовремя, потому что было бы неправильно выдать себя заранее. Ведь я видел настроение остальных. Если бы мы с Булганиным сказали, что мы против, нас бы обвинили большинством голосов, что мы склочники, дезорганизаторы, еще при неостывшем трупе начинаем в партии драку за посты. Да, все шло в том самом направлении, как я и предполагал. Молотова тоже назначили первым замом Предсовми-на, Кагановича — замом. Ворошилова предложили избрать Председателем Президиума Верховного Совета СССР, освободив от этой должности Шверника. Очень неуважительно выразился в адрес Шверника Берия: сказал, что его вообще никто в стране не знает (истинная правда. — Б. С.). Я видел, что тут налицо детали плана Берии, который хочет сделать Ворошилова человеком, оформляющим в указах то, что станет делать Берия, когда начнет работать его мясорубка. Меня Берия предложил освободить от обязанностей секретаря Московского комитета партии. Провели мы и другие назначения. Приняли порядок похорон и порядок извещения народа о смерти Сталина. Так мы, его наследники, приступили к самостоятельной деятельности по управлению СССР». Фактически Никита Сергеевич признался, что еще в последние часы жизни Сталина договорился с Булганиным постараться отстранить Берию от руководства страной. Но для этого требовалось согласие Маленкова. Георгий Максимилианович же в тот момент мучительно колебался: попробовать ли вместе с Берией избавиться от Хрущева или, заключив союз с Никитой Сергеевичем, сперва одолеть могущественного председателя Спецкомитета, чтобы потом в союзе с Молотовым вывести из состава коллективного руководства самого Хрущева. В исторический день 5 марта Маленков пока еще склонялся к первому варианту, оттого и говорил с главой московской парторганизации не слишком тепло. Но очень скоро Георгию Максимилиановичу пришлось резко изменить позицию. Дело в том, что Берия не проявил особого стремления бороться против кого-либо из «наследников Сталина». Лаврентию Павловичу самым выгодным было сохранить правящую четверку, где существовала определенная система «сдержек и противовесов» и никто не имел полной власти. «Лубянский маршал» понимал, что занять положение, какое занимал Сталин, ему не под силу. Для этого у Лаврентия Павловича не было ни авторитета «великого кормчего», ни подходящего аппарата под рукой. Спецкомитет действовал в основном через ПГУ и ВГУ, которые также не являлись мощными бюрократическими структурами, а давали поручения различным министерствам и ведомствам. Задания же Спецкомитета руководителям местных парторганизаций шли через Маленкова. Лишь в союзе с ним Берия мог надеяться осуществить свои реформаторские планы, да и то если друг Георгий останется во главе Совмина. Маршал только-только получил аппарат МВД в свое распоряжение, и ему требовалось время для того, чтобы в центре и на местах расставить своих людей. Поэтому Лаврентий Павлович стремился установить хорошие отношения со всеми членами Президиума ЦК, в том числе и с Хрущевым. Однако с мест поступали анонимки на слишком шустрого Лаврентия Павловича. Вот только одна из них, написанная каким-то высокопоставленным чином МВД Грузии: «Товарищи Хрущев и Маленков! Обратите внимание на хитрого мингрельца Берия. Он подлый аферист, националист. Кроме мингрельца для него никто не существует. Прислал Какучаю в МВД, заместителем — 90-летнего пердуна Церетели безграмотного, ничего не знающего, кулака, но хвост (Церетели Шалва Отарович — арестован в 1953 году после падения Берии, он был не кулак, а князь, и сравнительно молодой — 1894 года рождения. — Б. С.). Берия Л. П. освободил врагов народа — мингрельцев после смерти Сталина. Мингрельцы говорят, если бы Сталин был жив, Берия не мог отпустить мингрельцев. Сейчас все наши русские палку не могут перевернуть без Берия, сел на голову русских. Дядя жены Берия — Исодор Гегечкори — гремит в Америке, меньшевик, и многие родственники. Берия, аферист, сейчас будет устраивать всех мингрельцев. Рухадзе не враг народа, у него был богатый материал на Берия, и за то уничтожили материалы на него (НиколайМихайлович Рухадзе, министр госбезопасности Грузии в 1948–1952 годах, снятый с поста и арестованный за недостаточную активность в разгроме мингрельской группы. — Б. С.). Допросите сами Рухадзе, пришлите в МВД Грузии русских, не хотим мы мингрельцев-аферистов во главе с Берия. Удалите его к черту со своими мингрельцами. Мы любим русских, справедливых людей. Теперь жизнь грузинов копейки не стоит. В больших местах будут мингрельцы, остальные будут страдать. Сами проверьте, в МВД будут все мингрельцы. Берия Вас угробит, если его не удалите. Меня не ищите, меня не найдете». Опять дадим слово «дорогому Никите Сергеевичу»: <Во время похорон Сталина и после них Берия проявлял ко мне большое внимание, выказывал свое уважение. Я этим был удивлен. Он вовсе не порывал демонстративно дружеских связей с Маленковым, но вдруг начал устанавливать дружеские отношения и со мной». Никите Сергеевичу дружба с Берией была ни к чему. Он собирался сбросить Лаврентия Павловича с корабля власти, чтобы затем отправить в пучину опалы и забвения Маленкова. Берия же выступал не только против культа личности Сталина, но и культа его наследников. Шеф МВД предложил не украшать колонны демонстрантов 1 мая и 7 ноября портретами членов Президиума ЦК и лозунгами в их честь. На июльском Пленуме 1953 года Микоян с возмущением говорил: «В первые дни после смерти товарища Сталина он (Берия. — Б. С.) ратовал против культа личности». Хрущев так охарактеризовал бериевские предложения по национальному и германскому вопросам и по борьбе с культом личности руководителей: «Я не раз говорил Маленкову: «Неужели ты не видишь, куда клонится дело? Мы идем к катастрофе. Берия подобрал для нас ножи». Маленков мне: «Ну, а что делать? Я вижу, но как поступить?» Я ему: «Надо сопротивляться, хотя бы в такой форме: ты видишь, что вопросы, которые ставит Берия, часто носят антипартийную направленность. Надо не принимать их, а возражать». — «Ты хочешь, чтобы я остался один? Но я не хочу». — «Почему ты думаешь, что останешься один, если начнешь возражать? Ты и я — уже двое. Булганин, я уверен, мыслит так же, потому что я не один раз обменивался с ним мнениями. Другие тоже пойдут с нами, если мы будем возражать аргументированно, с партийных позиций. Ты же сам не даешь возможности никому слова сказать. Как только Берия внесет предложение, ты сейчас же спешишь поддержать его, заявляя: верно, правильное предложение, я «за», кто «против»? И сразу голосуешь. А ты дай возможность высказаться другим, попридержи себя, не выскакивай и увидишь, что не один человек думает иначе. Я убежден, что многие не согласны по ряду вопросов с Берией». При переводе с партийного языка на общечеловеческий это означало предложение сблокироваться против чересчур прыткого «Лубянского маршала». Георгию Максимилиановичу пришлось еще раз крепко подумать. С одной стороны, с устранением Берии он терял важного соратника в руководстве, контролировавшего одно из двух силовых министерств. Это здорово ослабляло его позиции в предстоящей борьбе за власть. Но, с другой стороны, Берия не проявил желания переходить вместе с Маленковым к конфронтации с Хрущевым, а тем более использовать в ней силовые методы. Наоборот, даже заигрывал с Никитой Сергеевичем. Георгий Максимилианович мог подозревать, что если не принять сейчас хрущевское предложение, то Никита Сергеевич попытается сговориться с Берией против него, Маленкова. Тем более что Хрущев прямо дал понять: министр обороны Булганин с ним заодно. К тому же бериевские предложения вызвали недовольство как среди членов Президиума ЦК, так и среди местных партийных и советских руководителей. В конце концов, Георгий Максимилианович решил сдать Берию, надеясь в будущем одолеть Хрущева с помощью старой гвардии — Молотова, Кагановича, Ворошилова, в последние годы сталинского правления находившихся в загоне. Не случайно сразу после смерти диктатора по инициативе Маленкова Ворошилов и Каганович получили важные назначения, а Молотов был произведен в первые заместители Председателя Совета Министров. Кроме того, Маленков учитывал, что его человек, С. Н. Круглов, остается у Берии заместителем и после падения Лаврентия Павловича имеет все шансы возглавить МВД. Хрущев в мемуарах утверждает, что после беседы с Маленковым им удалось на очередном заседании Президиума провалить предложения Берии. Документальных доказательств этого нет. Не исключено, что Никита Сергеевич этот эпизод придумал, чтобы его и других членов Президиума действия не выглядели как простой заговор против Берии. Вот, мол, сперва покритиковали Лаврентия Павловича за неправильные предложения, а он не только не образумился, а стал переворот готовить. Ясное дело, пришлось арестовать мерзавца. В действительности же заговорщикам, наоборот, надо было скрывать свои истинные чувства к могущественному шефу МВД до самого последнего момента. Убедив Маленкова, Хрущев стал склонять выступить против Берии других членов Президиума ЦК. Вот как он описывает этот деликатный процесс в мемуарах: «Мы видели, что Берия стал форсировать события. Он уже чувствовал себя над членами Президиума, важничал и даже внешне демонстрировал свое превосходство. Мы переживали очень опасный момент. Я считал, что нужно срочно действовать, и сказал Маленкову, что надо поговорить с другими членами Президиума по этому поводу. Видимо, на заседании такое не получится и надо с глазу на глаз поговорить с каждым, узнать мнение по коренному вопросу отношения к Берии. Маленков тоже согласился: «Пора действовать»… Приехал я к Ворошилову в Верховный Совет, но у меня не получилось того, на что я рассчитывал. Как только я открыл дверь и переступил порог его кабинета, он очень громко стал восхвалять Берию: «Какой у нас, товарищ Хрущев, замечательный человек Лаврентий Павлович, какой это исключительный человек!» Никита Сергеевич решил, что как-то неудобно после таких слов сразу же агитировать Ворошилова поскорее убрать из руководства «замечательного человека», и отложил разговор до более подходящего момента. Зато с Молотовым осечки не было. Вячеслав Михайлович и раньше не жаловал Лаврентия Павловича, не без основания видя в нем опасного конкурента (вспомним хотя бы историю с атомной бомбой). Поэтому идею уничтожить Берию встретил с энтузиазмом. Только поинтересовался, а что думает Маленков. Хрущев успокоил его: «Я разговариваю сейчас с тобой от имени и Маленкова, и Булганина». Тогда Молотов совсем воспрянул духом. Остальные члены Президиума тоже не заставили себя долго уговаривать, только задавали сакраментальный вопрос: «А как Маленков?» Ворошилов согласился после того, как с ним поговорил Георгий Максимилианович, перед самым заседанием Президиума Совета Министров, на котором собирались арестовывать Берию. Тогда же Хрущев обработал Микояна, у которого, по словам Никиты Сергеевича, с Берией существовали «наилучшие отношения, они горой стояли друг за друга». Анастас Иванович ответил осторожно: «Берия действительно имеет отрицательные качества, но он не безнадежен, в составе коллектива может работать». Хрущев решил, что Микоян все равно задуманному помешать не сможет. Анастас Иванович спокойно поехал на аэродром встречать вернувшегося из ГДР Берию. Микоян не стал предупреждать старого друга об опасности, а повторил заученную со слов Хрущева и Маленкова байку о том, будто собирается экстренное заседание Президиума Совмина по германским делам. Самое любопытное, что Лаврентий Павлович имел все шансы сохранить не только жизнь, но и определенную долю власти. Для этого после смерти Сталина ему надо было не лезть в руководители МВД, а оставить за собой только атомные дела и курирование оборонных отраслей промышленности. Да еще Берии следовало просчитать, что победителем в схватке за власть выйдет Хрущев, и сразу же встать на его сторону. Тогда бы Лаврентий Павлович, скорее всего, повторил путь Микояна, оставшись влиятельным членом Политбюро и благополучно дожив до персональной пенсии. НКВД он возглавлял в период «оттепели», к фабрикации политических процессов отношения не имел. Людей же он загубил не больше, чем тот же Микоян или Хрущев. Ведь на совести Никиты Сергеевича только в Москве было 55 тысяч смертных приговоров и примерно столько же — на Украине. Так что сама по себе прежняя должность в НКВД не предопределяла гибель Лаврентия Павловича. Его погубил зуд реформаторства. Для ареста Берии привлекли военных. Впоследствии участвовавшие в этой акции маршалы Г. К. Жуков и К. С. Москаленко по-разному рассказывали, как брали Берию. Каждый стремился приписать себе главную роль. Кому же верить? Неожиданное подтверждение правоты одного из маршалов пришло от Маленкова при обстоятельствах, исключавших неискренность с его стороны. Когда в июне 1957 года Пленум ЦК громил «антипартийную группу Маленкова, Кагановича, Молотова и примкнувшего к ним Шепилова», Георгий Максимилианович пытался напомнить товарищам о своих былых заслугах, и в частности указал на свою роль в организации ареста Берии: «Берия разоблачить было не так просто. Мы тогда опирались на военных товарищей… нам оказал решающую услугу в этом деле товарищ Москаленко. К нему в трудный момент мы обратились с товарищем Хрущевым, мы были без сил и средств…» На Пленуме Маленкова не пинал только ленивый, опровергали его на каждом шагу и с удовольствием. В зале присутствовали и Жуков, и Москаленко, но ни один из них на этот раз с Георгием Максимилиановичем спорить не стал. Значит, утверждение Маленкова о решающей роли Москаленко в создании группы генералов для ареста грозного Лаврентия Павловича — святая истинная правда. Да и как иначе объяснить, почему в команде, арестовывавшей Берию, оказалось так много офицеров и генералов из штаба Московского округа ПВО, который возглавлял Кирилл Семенович. Поэтому рассказу Москаленко мы в основном можем доверять. Его я и хочу процитировать: «В 9 часов утра (25 июня 1953 года. — Б. С.) мне позвонил по телефону АТС Кремля Хрущев, он спросил: «Имеются в вашем окружении близкие вам люди и преданные нашей партии так, как вы преданы ей?..» После этого Хрущев сказал, чтобы я взял этих людей с собой и приезжал с ними в Кремль к председателю Совета Министров СССР товарищу Маленкову, в кабинет, где раньше работал Сталин». Далее Хрущев закодированно намекнул, чтобы взяли с собой оружие: «Он сказал, чтобы я взял с собой планы ПВО и карты, а также захватил сигареты. Я ответил, что заберу с собой все перечисленное, однако курить бросил еще на войне, в 1944 году. Хрущев засмеялся и сказал, что сигареты могут потребоваться не те, которые я имею в виду. Тогда я догадался, что надо взять с собой оружие. В конце разговора Хрущев сказал, что сейчас позвонит Булганину. Я подумал, что нам предстоит выполнить какое-то важное задание Президиума ЦК КПСС. Вскоре после этого последовал звонок министра обороны маршала Булганина, который сказал, что звонил Хрущев, и предложил мне сначала прибыть к нему, т. е. к Булганину… Со своей группой я прибыл к министру обороны. Принял меня товарищ Булганин одного. Он сказал, что звонил Хрущев, вот я тебя и вызвал. Нужно арестовать Берию… Сколько у тебя человек? Я ответил: со мной пять человек… На что он ответил: «Очень мало людей… Кого, ты считаешь, можно еще привлечь, но без промедления? Я ответил — вашего заместителя маршала Василевского. Он сразу почему-то отверг эту кандидатуру. Я спросил, кто находится сейчас в министерстве из влиятельных военных. Булганин ответил: «Жуков». Тогда я предложил взять Жукова. Он согласился, но чтобы Жуков был без оружия… И вот в 11.00 дня 26 июня (а звонок Хрущева был 25.6) мы по предложению Булганина сели в его машину и поехали в Кремль… Вслед за нами на другой машине приехали Жуков, Брежнев и др. Всех нас Булганин провел в комнату ожидания при кабинете Маленкова, затем оставил нас и ушел в кабинет к Маленкову. Через несколько минут вышли к нам Хрущев, Булганин, Маленков и Молотов. Они начали нам рассказывать, что Берия в последнее время нагло ведет себя по отношению к членам Президиума ЦК, шпионит за ними, подслушивает телефонные разговоры, следит за ними, кто куда ездит, с кем члены Президиума встречаются, грубит со всеми и т. д. Они информировали нас, что сейчас будет заседание Президиума ЦК, а потом по условленному сигналу, переданному через помощника Маленкова — Суханова, нам нужно войти в кабинет и арестовать Берию. К этому времени он еще не прибыл… Примерно через час, т. е. в 13.00, 26 июня 1953 года последовал условный сигнал, и мы пять человек вооруженных, шестой товарищ Жуков, — быстро вошли в кабинет, где шло заседание. Товарищ Маленков объявил: «Именем советского закона арестовать Берию». Все обнажили оружие, я направил его прямо на Берию и приказал ему поднять руки вверх. В это время Жуков обыскал Берию, после чего мы увели его в комнату отдыха Председателя Совета Министров, а все члены Президиума и кандидаты в члены остались проводить заседание, там же остался и Жуков». Из рассказа Кирилла Семеновича получается любопытная картина. Жукова к операции привлекают только в самый последний момент и на всякий случай оставляют без пистолета. Значит, Хрущев и Булганин ему не вполне доверяют. Почему? Серго Берия утверждает, что отец дружил с Жуковым, который часто бывал в их доме. Берия разделял мысли Георгия Константиновича о том, что в армии надо ликвидировать институт политработников. Разумеется, Серго Лаврентьевич — лицо заинтересованное. Ему очень хочется сблизить имя отца с именем того, кого сделали ныне национальным героем. Нет ли других свидетельств? Оказывается, есть! После ареста Лаврентий Павлович забрасывал Маленкова («дорогого Георгия»), Хрущева и других коллег отчаянными письмами, где указывал на свои былые заслуги. 1 июля он писал: «Т. т. Маленков и Молотов (другой вариант прочтения — Микоян. — Б. С.) хорошо должны знать, что Жуков, когда его сняли с генерального штаба по наущению Мехлиса, ведь его положение было очень опасно, мы вместе с вами уговорили назначить его командующим фронтом и тем самым спасли будущего героя нашей Отечественной войны, или когда т. Жукова выгнали из ЦК — всем нам было больно». Если не врал Берия, глядя в глаза скорой смерти, то данное письмо доказывает, что они с Георгием Константиновичем были совсем не в плохих отношениях. Хрущеву, Маленкову и их сторонникам очень требовался авторитетный военачальник, присутствие которого подбодрило бы генералов, идущих на лихое и такое уж непривычное дело: арестовывать маршала. Правда, среди заговорщиков был министр обороны Булганин, но он популярностью среди генералитета не пользовался. Подготовку команды для ареста Берии Хрущев поручил генерал-полковнику Москаленко, хорошо знакомому Никите Сергеевичу по войне. Именно по хрущевской рекомендации Кирилла Семеновича осенью 1943 года назначили командовать 38-й армией, освободившей столицу Украины. Но Москаленко не был сколько-нибудь широко известен. Да и сегодня его чаще всего вспоминают лишь в связи с арестом Берии. Другое дело Жуков, первый заместитель Булганина. Его присутствие могло произвести впечатление даже на кремлевскую охрану, если бы она вздумала заступиться за своего шефа. Но Хрущев и Маленков наверняка были осведомлены о контактах Жукова и Берии и опасались: вдруг «маршал победы» встанет на сторону «лубянского маршала» и, не дай бог, устроит перестрелку на заседании Президиума. Вот и решили на всякий случай не давать ему пистолета. Но Георгий Константинович быстро сориентировался в обстановке. В архиве сохранились черновые наброски речи Маленкова, которой он открыл заседание 26 июня, и его конспективные записи прозвучавших там предложений. Георгий Максимилианович обвинил старого друга в том, что «враги хотели поставить органы МВД над партией и правительством» и что сам Берия с поста главы МВД «контролирует партию и правительство», что «чревато большими опасностями». Лаврентия Павловича упрекали в том, что он «подавлял коллектив». При этом Микоян предложил освободить Берию с поста первого заместителя председателя правительства и назначить министром нефтяной промышленности (о том же пишет в мемуарах Хрущев). Уже один этот факт разрушает все легенды о том, будто Лаврентий Павлович организовал заговор и планировал государственный переворот. Где, в какой стране человека, обвиненного в таких преступлениях, в наказание разжалуют из первых вице-премьеров в простые министры? Если бы на заседании фигурировали какие-то конкретные факты, уличавшие Берию в подготовке переворота, Анастас Иванович никогда бы не рискнул выступить с подобным предложением. Сам Микоян в посмертно опубликованных мемуарах утверждал, что еще с начала 30-х годов видел: Берия — плохой человек. Но, как следует из записи Маленкова и мемуаров Хрущева, старый кремлевский лис Анастас Иванович считал Лаврентия Павловича достаточно хорошим для поста министра нефтяной промышленности даже в тот момент, когда большинство членов Президиума ЦК склонялось к тому, чтобы прислонить к стенке слишком шустрого главу МВД. Ну а утверждение Микояна, будто его самого пытались «замазать» в репрессиях, да так и не сумели, оставим на совести бывшего начальника советской внешней и внутренней торговли. Достаточно сказать, что его подпись красуется под решением Политбюро от 5 марта 1940 года о расстреле 22 тысяч поляков. По меркам Нюрнбергского международного трибунала одного этого вполне хватило бы для того, чтобы быть повешенным. И это наверняка не единственный документ, подписанный человеком, о котором говорили — «от Ильича до Ильича без инфаркта и паралича». А насчет мнения Микояна, будто Берию наверх, в центральный аппарат, двигали таинственные грузины… Один из высокопоставленных грузин, А. С. Енукидзе, лишился своего поста секретаря ВЦИК еще в 1935 году, когда Берия оставался в Закавказье и не было речи о его переезде в Москву. Другой грузин в советском руководстве, Орджоникидзе, покончил с собой после острого конфликта со Сталиным. Произошло это за полтора года до назначения Лаврентия Павловича первым заместителем наркома внутренних дел. Неужели, перед тем как выдвигать главу коммунистов Грузии на столь ответственный пост, Иосиф Виссарионович не проконсультировался с Микояном, когда-то работавшим вместе с Берией в Закавказье? После ареста Берии распускались слухи, будто Хрущеву и остальным удалось упредить его буквально на один день. Якобы 27 июня Лаврентий Павлович собирался арестовать весь Президиум ЦК на спектакле в Большом театре. Интересно, какой глава заговора согласится на 10 дней уехать из страны, чтобы вернуться только накануне заветного «дня X»? А Берия как раз в середине июня был направлен в ГДР, где нарастали волнения и уже после его прибытия разразилось восстание против режима Вальтера Ульбрихта. Время для либеральных мер было упущено, и Лаврентий Павлович, нисколько не смущаясь, бросил против практически безоружных демонстрантов пехоту и танки из состава советских оккупационных войск. Сотни убитых, тысячи раненых — выступление рабочих Берлина и других городов Восточной Германии было потоплено в крови. Берия прилетел в Москву только утром 26-го и сразу попал с воздушного корабля на последний в своей жизни «бал» — заседание Президиума ЦК (ему сказали, что не ЦК — а Совмина). Помешенный после ареста в бункер штаба Московского военного округа, Лаврентий Павлович забрасывал коллег письмами, где умолял пощадить. 28 июня он писал Маленкову: «Дорогой Георгий. Я был уверен, что из той большой критики на Президиуме я сделаю все необходимые для себя выводы и буду полезен в коллективе (возможно, здесь Берия дословно повторил предложение Микояна. — Б. С.). Но ЦК решил иначе. Считаю, что ЦК поступил правильно. Считаю необходимым сказать, что всегда был беспредельно предан партии Ленина — Сталина, своей Родине, был всегда активен в работе. Работал в Грузии, в Закавказье, в Москве в МВД, Совете Министров СССР и вновь в МВД, все отдавал работе, старался подбирать кадры по деловым качествам, принципиальных, преданных нашей партии товарищей. Это же относится к Специальному Комитету, Первому и Второму главным управлениям, занимающимся атомными делами и управляемыми снарядами. Такое же положение Секретариата и помощников по Совмину. Прошу товарищей Маленкова Георгия, Молотова Вячеслава, Ворошилова Климентия, Хрущева Никиту, Кагановича Лазаря, Булганина Николая, Микояна Анастаса и других — пусть простят, если что и было за эти пятнадцать лет большой и напряженной совместной работы. Дорогие товарищи, желаю всем вам больших успехов в борьбе за дело Ленина — Сталина, за единство и монолитность нашей партии, за расцвет нашей славной Родины. Георгий, прошу, если это сочтете возможным, семью (жена и старуха-мать) и сына Серго, которого ты знаешь, не оставлять без внимания». Надо отдать должное Лаврентию Павловичу. В этом, по сути, предсмертном письме он хлопотал не только о себе (хотя прямо ничего не просил) и о семье, которую Маленков конечно же не оставил без внимания: жена Нина и сын Серго были тотчас арестованы. Берия волновался и за своих сотрудников, вплоть до помощников и секретарей. Говорил, что подбирал людей только по деловым качествам, наивно надеясь, что их минует опала. Вероятно, потому, что никакой настоящей вины не чувствовал. Ведь не только государственный переворот не готовил, но даже никого из членов Президиума смещать не собирался. Через два дня, не получив ответа на первое послание, Берия написал вновь. Теперь он решил, что, если покаяться не в настоящих ошибках, а в несуществующих грехах, которые ему инкриминировали, жизнь, может, и сохранят. Узник обращался к «другу Георгию»: «Особенно тяжело и непростительно мое поведение в отношении тебя, где я виноват на все сто процентов…» Берия утверждал, что «подверг свои действия самой суровой критике, крепко осуждаю себя». Он напоминал соратникам о былой дружбе: «Никита Сергеевич! Если не считать последнего случая на Президиуме ЦК, где ты меня крепко и гневно ругал, с чем я целиком согласен, мы всегда были большими друзьями. Я всегда гордился тем, что ты прекрасный большевик и прекрасный товарищ, и не раз тебе об этом говорил, когда удавалось об этом говорить, говорил и т-щу Сталину. Твоим отношением я всегда дорожил… Лазарь Моисеевич и Анастас Иванович. Вы оба знаете меня давно. Анастас меня направил еще в 1920 году из Баку для нелегальной работы в Грузию. Тогда еще меньшевистскую. От имени Кавбюро РКП и Реввоенсовета XI армии. Лазарь знает меня с 1927 года, не забуду никогда помощи, оказанной мне по партийной работе в Закавказье, когда вы были секретарем ЦК. За время работы в Москве можно было многое сказать. Но одно скажу: всегда видел с Вашей стороны принципиальное отношение, помощь в работе и дружбу…» Ответа не было. 2 июля Берия написал последнее письмо, обращаясь уже сразу ко всем «дорогим товарищам» из Президиума ЦК: «Со мной хотят расправиться без суда и следствия, после 5-дневного заключения, без единого допроса, умоляю вас всех, чтобы этого не допустить, прошу немедленного вмешательства, иначе будет поздно. Дорогие т-щи, настоятельно умоляю вас назначить самую ответственную и строгую комиссию для строгого расследования моего дела, возглавив т. Молотовым или т. Ворошиловым. Неужели член Президиума ЦК не заслуживает того, чтобы его дело тщательно разобрали, предъявили обвинения, потребовали бы объяснения, допросили свидетелей. Это со всех точек зрения хорошо для дела и для ЦК. Зачем делать так, как сейчас делается, посадили в подвал, и никто ничего не выясняет и не спрашивает. Дорогие товарищи, разве только единственный и правильный способ решения без суда и выяснения дела в отношении члена ЦК и своего товарища после 5 суток отсидки в подвале казнить его. Еще раз умоляю вас всех, особенно т. т., работавших с т. Лениным и т. Сталиным, обогащенных большим опытом и умудренных в разрешении сложных дел т-щей Молотова, Ворошилова, Кагановича и Микояна. Во имя памяти Ленина и Сталина прошу, умоляю вмешаться, и вы все убедитесь, что я абсолютно чист, честен, верный ваш друг и товарищ, верный член нашей партии. Кроме укрепления мощи нашей страны и единства нашей великой партии у меня не было никаких мыслей. Свой ЦК и свое Правительство я не меньше любых т-шей поддерживал и делал все, что мог. Утверждаю, что все обвинения будут сняты, если только это захотите расследовать. Что за спешка, и притом подозрительная. Т Маленкова и т. Хрущева прошу не упорствовать. Разве будет плохо, если т-ща реабилитируют. Еще и еще раз умоляю вмешаться и невинного своего старого друга не губить». Разумеется, Маленков, Хрущев и другие члены Президиума не хуже арестованного знали, что никакого заговора он не готовил. И потому проводить расследование, а тем более «реабилитировать товарища» никто из них не собирался. Больше Берия писем не писал. Ему перестали давать карандаш и бумагу.Следствие и гибель
Серго Берия полагает, что его отца убили сразу после ареста, да и сам арест происходил не в зале заседаний Президиума ЦК, а в особняке на Малой Никитской улице, где жил Лаврентий Павлович: «Примерно в полдень (26 июня 1953 года. — Б. С.) в кабинете Бориса Львовича Ванникова… ближайшего помощника моего отца по атомным делам, раздался звонок. Звонил летчик-испытатель Ахмет-Хан Султан… — Серго, — кричит, — у вас дома была перестрелка. Ты все понял? Тебе надо бежать, Серго! Мы поможем… У нас действительно была эскадрилья, и особого труда скрыться, скажем, в Финляндии или Швеции не составляло. И впоследствии я не раз убеждался, что эти летчики — настоящие друзья… Но что значит бежать в такой ситуации? Если отец арестован, побег — лишнее доказательство его вины… Когда мы подъехали (к особняку. — Б. С.), со стороны улицы ничего необычного не заметили, а вот во внутреннем дворе находились два бронетранспортера… Внутренняя охрана нас не пропустила… Отца дома не было… Когда возвращался к машине, услышал от одного из охранников: «Серго, я видел, как на носилках вынесли кого-то, накрытого брезентом……. Со временем я разыскал и других свидетелей, подтвердивших, что видели те носилки… В пятьдесят восьмом я встретился со Шверником, членом того самого суда (над Л. П. Берией. — Б. С.)… Могу, говорит, одно тебе сказать: живым я твоего отца не видел. Понимай как знаешь, больше ничего не скажу. Другой член суда, Михайлов, тоже дал мне понять при встрече… что в зале суда сидел совершенно другой человек, но говорить на эту тему он не может… Почему никто и никогда не показал ни мне, ни маме хотя бы один лист допроса с подписью отца? Нет для меня секрета и в том, почему был убит мой отец. Считая, что он имеет дело с политическими деятелями, отец предложил соратникам собрать съезд партии или хотя бы расширенный Пленум ЦК, где и поговорить о том, чего давно ждал народ. Отец считал, что все руководство страны должно рассказать — открыто и честно! — о том, что случилось в тридцатые, сороковые, начале пятидесятых годов, о своем поведении в период массовых репрессий. Когда, вспоминаю, он сказал об этом незадолго до смерти дома, мама предупредила: «Считай, Лаврентий, что это твой конец. Этого они тебе никогда не простят…» Предположение Сергея Лаврентьевича о том, что отец был убит в день ареста, легко опровергается сохранившимися в архиве тюремными письмами Берии. А вот насчет протоколов допросов… Возможно, как мы увидим ниже, здесь действительно ключ к разгадке тайны смерти Берии. Однако прежде подчеркнем, что фрагменты нескольких протоколов допросов «Лубянского маршала» на следствии историки публиковали. Н. А. Зенькович, например, цитирует допросы, происходившие 23 июля и 7 августа и касавшиеся авторства книги «К вопросу об истории большевистских организаций в Закавказье». Берию, как мы помним, обвиняли в присвоении чужой рукописи, изданной в 1935 году под его именем. Лаврентий Павлович своей вины не признал. Он настаивал, что «этот доклад (сделанный Берией на собрании Тбилисской парторганизации в июле 1935-го. — Б. С.) готовился по моей инициативе, я был главным участником подготовки материалов к докладу, помогал мне в сборе материалов филиал ИМЭЛ города Тбилиси. Принимало участие в подготовке этого доклада около 20 человек, и около 100 человек было принято бывших участников того времени. Я отрицаю, что я делал это с целью втереться в доверие к Сталину. Я считал совершенно необходимым издание такой работы…» На следующем допросе Берию спросили о судьбе одного из создателей доклада бывшего заведующего отделом агитации Закавказского крайкома партии Эрика Бедии. Поводом для ареста этого человека будто бы послужило его заявление во время дружеской вечеринки, что не Берия, а он, Бедия, написал злополучный доклад. Лаврентий Павлович отрицал, что распорядился арестовать Бедию из-за его неосторожного высказывания. Отрицал Берия и то, что знал о расстреле Бедии по приговору «тройки». Если посмотреть на это дело с позиций сегодняшнего дня, то ничего необычного в случае с докладом об истории большевистских организаций Закавказья нет. Точно так же книги Сталину, Жданову, Маленкову, Хрущеву и другим партийным вождям писали коллективы спичрайтеров. И Берии создавать бессмертный доклад помогал не один Бедия, а целый коллектив Грузинского ИМЭЛа. При желании подобное обвинение можно было предъявить любому из обвинителей «Лубянского маршала». Но против Лаврентия Павловича годилось все, поскольку основное обвинение в заговоре даже ложными показаниями подтвердить было затруднительно. Ни прокурор, ни его партийные наставники не сумели даже придумать хоть сколько-нибудь правдоподобный сценарий «бериевского переворота». Расстрелять же Бедию могли вовсе не из-за книги, а, так сказать, по должности, — Сталин и Ежов выводили в расход большинство чиновников уровня завотделом республиканского ЦК или обкома партии. Берия же, наверное, не имел никакого желания вычеркивать из расстрельного списка болтливого соратника. В письме Нины Теймуразовны, написанном Хрущеву из Бутырской тюрьмы 7 января 1954 года, не упоминаюсь, что во время допросов следователи хоть раз ссылались на показания ее мужа. Вдова Берии утверждала: «Действительно страшным обвинением ложится на меня то, что я более тридцати лет (с 1922 года) была женой Берия и носила его имя. При этом до дня его ареста я была ему предана, относилась к его общественному и государственному положению с большим уважением и верила слепо, что он преданный, опытный и нужный для Советского государства человек (никогда никакого основания и повода думать противное он мне не давал ни одним словом). Я не разгадала, что он враг Советской власти, о чем мне было заявлено на следствии. Но он в таком случае обманул не одну меня, а весь советский народ, который, судя по его общественному положению и занимаемым должностям, тоже доверял ему. Исходя из его полезной деятельности, я много труда и энергии затратила в уходе за его здоровьем (в молодости он болел легкими, позже почками). За все время нашей совместной жизни я видела его дома только в процессе еды или сна, а с 1942 года, когда я узнала от него же о его супружеской неверности, я отказалась быть ему женой (Лаврентий Павлович на следствии показал, что «заразился сифилисом в период войны, кажется, в 1943 году и прошел курс лечения»; может быть, в связи с болезнью жена и узнала о бесчисленных любовных шашнях своего благоверного. — Б. С.) и жила с 1943 года за городом вначале одна, а затем с семьей своего сына. Я за это время не раз ему предлагала, для создания ему же нормальных условий, развестись со мной с тем, чтобы жениться на женщине, которая, может быть, его полюбит и согласится быть его женой. Он мне в этом отказывал, мотивируя это тем, что без меня он на известное время может выбиться как-то из колеи жизни. Я, поверив в силу привычки человека, осталась дома с тем, чтобы не нарушать ему семью и дать ему возможность, когда он этого захочет, отдохнуть в этой семье. Я примирилась со своим позорным положением в семье с тем, чтобы не повлиять на его работоспособность отрицательно, которую я считала направленной не вражески, а нужной и полезной. О его аморальных поступках в отношении семьи, о которых мне также было сказано в процессе следствия, я ничего не знала. Его измену мне, как жене, считала случайной и отчасти винила и себя, так как в эти годы я часто уезжала к сыну, который жил и учился в другом городе». Аморальное поведение Берии стало настоящей находкой для свергнувших его коллег, поскольку ничего весомого в подкрепление версии заговора найти не удавалось. Да и в предыдущей деятельности Лаврентия Павловича особого криминала, по меркам того времени, не было. На июльском Пленуме секретарь ЦК А. А. Андреев порадовал присутствующих таким откровением: «Берия добивался всячески, чтобы все члены Политбюро были чем-нибудь отмечены, чтобы были с пятнами, а он, видите ли, чист. И на самом деле, смотрите, к нему ничего не предъявишь — чист». Члены ЦК дружно рассмеялись. Искренний, здоровый смех участников Пленума вызвал и Ворошилов, когда привел такое доказательство, что Лаврентий Павлович не пользовался авторитетом у подчиненных — после ареста Берии ни один чекист не написал письмо в его защиту, где говорилось бы: «Что вы сделали с нашим великим вождем, как мы будем обходиться без нашего Берии?..» Партийные руководители хорошо знали, что таких писем не было и тогда, когда арестовывали предшественников Берии: Ягоду и Ежова. Да и вздумай Сталин отправить Климента Ефремовича «в штаб Тухачевского», за него не посмел бы заступиться ни один из командиров и комиссаров Красной Армии. В выступлении на Пленуме секретарь ЦК Н. Н. Шаталин познакомил коллег с результатами обыска в кабинете Лаврентия Павловича: «Наряду с документами мы обнаружили в больших количествах всевозможные, как уж их называть, атрибуты, что ли, женского туалета, многочисленные письма от женщин интимно-пошлого содержания». Замечу, что обилие «атрибутов женского туалета» на рабочем месте характеризует опального шефа МВД не с самой плохой стороны. Все эти чулки, косынки, кофточки и комбинации наверняка предназначались для подарков тем, к кому Лаврентий Павлович испытывал пусть мимолетную, но страсть. А любовные письма от многих представительниц прекрасного пола можно расценить как свидетельство того, что, несмотря на непривлекательную внешность, Лаврентий Павлович нравился женщинам не только за его высокие должности. Похоже, что Берия, вопреки распространенному мнению, вовсе не был и чревоугодником, и его полнота скорее стала следствием сидячей работы и природных особенностей организма. Бывший переводчик Сталина Валентин Бережков свидетельствует: «Внешне Берия был со мной любезен — в тех редких случаях, когда мы с ним общались… На банкетах в Кремле за столом обычно рассаживались в следующем порядке: посредине садился Сталин, по его правую руку — главный гость, затем переводчик и справа от него — Берия. Так я нередко оказывался рядом с шефом госбезопасности. Он почти не прикасался к еде. Но ему всегда ставили тарелку с маленькими красными перцами, которые он закидывал в рот один за другим, словно семечки. Однажды предложил мне такой перчик — и меня буквально обожгло, когда я прикоснулся к нему губами. Берия засмеялся и принялся настаивать, чтобы я проглотил. Пришлось сделать вид, что послушался. Затем незаметно выбросил под стол. — Это очень полезно. Каждый мужчина должен ежедневно съедать тарелку такого перца, — назидательно поучал Берия. Он также всякий раз спрашивал, почему я худой. — Такова конституция моего организма, — отвечал я. Не мог же я сказать, что две сосиски в день, которые мы получали в столовой кремлевских курсантов, никак не могли прибавить мне веса». Лаврентий Павлович любил острую кавказскую кухню. И, кажется, верил, что она умножает его мужскую силу. Аскетом его, конечно, не назовешь, но по части любви к роскоши Лаврентию Павловичу до Ягоды и некоторых партийных лидеров, вроде главы Компартии Азербайджана Мир Джафара Багирова, построившего в республике несколько персональных дворцов, было далеко… Обвинения Берии в половой распущенности, повторяю, пришлись для его противников очень кстати. На следствии Лаврентий Павлович признал: — Я легко сходился с женщинами, имел многочисленные связи, непродолжительные. Этих женщин привозили ко мне на дом, к ним я никогда не заходил. Доставлял мне их Саркисов (начальник секретариата. — Б. С.) и Надарая (заместитель начальника личной охраны. — Б. С.), особенно Саркисов. — По вашему указанию Саркисов и Надарая вели списки ваших любовниц, — уточнил Генеральный прокурор СССР Р. А. Руденко. — Вы подтверждаете это? — Подтверждаю, — уныло отозвался Берия. — Вам предъявляется девять списков, в которых значатся 62 женщины, — изобличал бывшего шефа МВД прокурор. — Большинство женщин, — показал Берия, — которые значатся в этих списках, мои сожительницы. Списки составлены за ряд лет. — Вы признаете, что превратили свой дом в притон разврата, а свою личную охрану в сводников? — подсказал подсудимому правильный ответ Роман Андреевич. — Дом я не превратил в притон, а что Саркисов и Надарая использовались для сводничества — это факт… — частично признал свою вину Лаврентий Павлович. В единственном сохранившемся списке, который вел Саркисов, значились фамилии 39 женщин. Позднее молва увеличила это число до 500 и даже 800, сделав Лаврентия Павловича настоящим сексуальным гигантом. Несомненно, у грозного хозяина Лубянки имелись свои поклонницы. Но нередко партнерши доставлялись в его особняк насильно. Порой это были обычные проститутки, которым платили по рыночным расценкам — от 100 (о 250 рублей за визит. К делу были подшиты исповеди нескольких жертв бериевской похоти. Вот одна из них: «Я пыталась уклониться от его домогательств, просила Берию не трогать меня, но Берия сказал, что здесь философия ни к чему, и овладел мною. Я боялась ему сопротивляться, так как опасалась, что Берия может посадить моего мужа… только подлец может пользоваться зависимым положением жены подчиненного для того, чтобы овладеть ею…» А вот рассказ школьницы, самый жуткий из всех: «однажды я пошла в магазин за хлебом по улице Малой Никитской. В это время вышел из машины старик в пенсне, с ним был полковник в форме МВД. Когда старик стал меня рассматривать, я испугалась и убежала… На другой день… к нам пришел полковник, оказавшийся впоследствии Саркисовым. Саркисов обманным путем, под видом оказания помощи больной маме и спасения ее от смерти, заманил меня в дом по Малой Никитской и стал говорить, что маму спасет его товарищ, очень большой работник, очень добрый, который очень любит детей и помогает всем больным. В 5–6 часов вечера 7 мая 1949 года пришел старик в пенсне, т. е. Берия. Он ласково со мной поздоровался, сказал, что не надо плакать, маму вылечат и все будет хорошо. Нам дали обед. Я поверила, что этот добрый человек поможет мне в такое тяжелое для меня время (умерла бабушка и при смерти мама). Мне было 16 лет. Я училась в 7 классе. Потом Берия отнес меня в свою спальню и изнасиловал. Трудно описать мое состояние после случившегося. Три дня меня не выпускали из дома. День сидел Саркисов, ночь — Берия». На суде человек, похожий на Лаврентия Павловича, в своем последнем слове признал, что, вступив в интимную связь с несовершеннолетней, совершил преступление, но отрицал, что это было изнасилование. Бывали и курьезные случаи. Одна из любовниц Лаврентия Павловича будто бы заявила на допросе: «Берия предложил мне сношение противоестественным способом, от чего я отказалась. Тогда он предложил другой, тоже противоестественный способ, на что я согласилась». Этот неразрешимый ребус появился на свет благодаря потрясающему целомудрию советских следователей, так и не решившихся доверить бумаге, какими именно способами секса искушал герой-любовник с Малой Никитской свою пассию. Некоторые показания бериевских подруг вообще внушают серьезные сомнения. Например, артистка Радиокомитета М., которой, кстати сказать, Лаврентий Павлович помог получить квартиру в Москве, утверждала, что последняя их встреча состоялась 24 или 25 июня 1953 года, причем Берия попросил М. на следующую встречу, намечавшуюся через три дня, прийти вместе с подругой. Однако из-за ареста «лубянского маршала» встреча не состоялась. Но, как мы помним, в это время Берия находился в братской ГДР, где железной рукой наводил порядок. Возможно, М. что-то напутала, и их свидание состоялось накануне отлета Лаврентия Павловича в Берлин. Хотя допрашивали артистку всего два-три месяца спустя после драматических событий и так быстро забыть даты было мудрено. Скорее М., как и другие любовницы Берии, говорила то, что хотели услышать от нее следователи, которые даже не задумывались о правдоподобии их слов. Кстати, большинство свидетельниц наверняка выставляли себя жертвами насилия, чтобы их не заподозрили в симпатиях к поверженному «врагу народа». Поэтому сегодня трудно сказать, кто из бериевских партнерш отдавался добровольно, а кто — по принуждению. В любом случае «аморалка» тянула на статьи за изнасилование и злоупотребление служебным положением, но никак нс на государственную измену. А допрашивать Берию по политическим делам было опасно. «Лубянский маршал» слишком много знал. Прежде чем понять, когда и как он умер, я хочу предоставить слово его тюремщику — коменданту штаба Московского округа ПВО майору Хижняку. Вот что он сообщил в интервью газете «Вечерняя Москва» 28 июля 1994 года: «Вышли из здания (Совмина. — Б. С.) генералы Москаленко, Бакеев, Батицкий, полковник Зуб, подполковник Юферев — адъютант командующего, полковник Ерастов. Среди них Берия. В автомашину слева от Берии сел Юферев, справа — Батицкий, напротив Зуб и Москаленко. Тронулись. Впереди — «ЗИС-110», за ним — автомашины с пятьюдесятью автоматчиками. Минут через сорок — пятьдесят приехали на гарнизонную гауптвахту… Двадцать седьмого меня вызвал командующий (К. С. Москаленко. — Б. С.) и сказал, что мне поручен уход за Берией. Я должен готовить пищу, кормить его, поить, купать, стричь, брить и, по его требованию, ходить с дежурным генералом на его вызов… Когда командующий сказал, что я прикреплен к нему, мне сказали: «Несите пищу». Пошли генерал Бакеев, полковник Зуб, и я понес пишу… Хорошая пища, из солдатской столовой. Он сидел на кровати, упитанный такой мужчина, холеный, в пенсне. Почти нет морщин, взгляд жесткий и сердитый. Рост примерно 160–170 сантиметров. Одет в костюм серогоцвета, поношенный. Сперва он отвернулся, ни на кого не смотрел. Ему говорят: «Вы кушайте». А он: «А вы принесли карандаш и бумагу?» — «Принесли», — ответил командующий. Он тут же начал писать… Когда я дал ему кушать, он эту тарелку с супом вылил на меня — взял и вылил. Все возмутились. Строго предупредили. Но бумагу и карандаш ему оставили. В тот раз есть он вообще не стал… Я был ежедневно, до двенадцати раз в сутки. Скоро его перевели в штаб округа на улице Осипенко, 29. Там мы пробыли три-четыре дня, а потом там же перевели в бункер большой, где был командный пункт, во дворе здания штаба…» На вопрос корреспондента, сколько продолжался суд над Берией, Хижняк ответил: «Больше месяца. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья. Они работали с 10 до 18–19 часов. Конечно, с перерывом на обед». Бывший комендант опроверг также распространенные слухи, будто перед расстрелом Берия на коленях просил пощады: «Не было этого. Я же с самого начала до конца был с ним. Никаких колен, никаких просьб… Когда его приговорили, мне генерал Москаленко приказал съездить домой и привезти Берии другой костюм (до того он был все время в сером, в каком его арестовали в Кремле). Я приехал, там какая-то женщина. Я сказал, кто я такой. Мне надо костюм. Она мне его подала. Черный… Я переодел его. Костюм серый я сжег, а в костюм черный переодел. Вот когда переодевал, он уже знал, что это уже готовят его. С двумя плотниками мы сделали деревянный щит примерно метра три шириной, высотой метра два. Мы его прикрепили к стенке в бункере, в зале, где были допросы. Командующий мне сказал, чтобы я сделал стальное кольцо, я его заказал, и сделали — ввернули в центр щита. Мне приказали еще приготовить брезент, веревку. Приготовил… Готовили весь вечер… Привел я его. Руки не связывали. Вот только когда мы его привели к щиту, то я ему руки привязал к этому кольцу, сзади». По словам Хижняка, перед казнью Берия вел себя «ничего»: «Только какая-то бледность, и правая сторона лица чуть-чуть подергивалась… Я… читал в газетах и книгах, что перед казнью завязывают глаза. И я приготовил полотенце — обычное, солдатское. Стал завязывать ему глаза. Только завязал — Батицкий: «Ты чего завязываешь?! Пусть смотрит своими глазами!» Я развязал. Присутствовали члены суда: Михайлов, Шверник, еще Батицкий, Москаленко, его адъютант, Руденко… Врача не было. Стояли они метрах в шести-семи. Батицкий немного впереди, достал «парабеллум» и выстрелил Берии прямо в переносицу. Он повис на кольце. Потом я Берию развязал. Дали мне еще одного майора. Мы завернули его в приготовленный брезент и — в машину. Было это 23 декабря 1953 года, ближе к ночи. И когда стал завязывать завернутый в брезент труп, я потерял сознание. Мгновенно. Брыкнулся. И тут же очухался. Батицкий меня матом покрыл. Страшно жалко было Берию, потому что за полгода привык к человеку, которого опекал…» Прежде чем попробовать разобраться, что в свидетельстве Хижняка правда, а что нет, я хочу процитировать два документа, касающиеся смерти Берии и тех, кого судили вместе с ним. Вот первый документ: «Акт 1953 года декабря 23-го дня. Сего числа в 19 часов 50 минут на основании предписания председателя Специального судебного присутствия Верховного суда СССР от 23 декабря 1953 года за № 003 мною, комендантом специального судебного присутствия генерал-полковником Батицким П. Ф., в присутствии Генерального прокурора СССР, действительного государственного советника юстиции Руденко Р. А. и генерала армии Москаленко К. С. (за участие в аресте Берии Кирилла Семеновича пожаловали следующим чином. — Б. С.) приведен в исполнение приговор Специального судебного присутствия по отношению к осужденному к высшей мере наказания — расстрелу Берия Лаврентию Павловичу». И подписи: «Генерал-полковник Батицкий. Генеральный прокурор СССР Руденко. Генерал армии Москаленко». А вот второй документ: «Акт. 23 декабря 1953 года зам. министра внутренних дел СССР тов. Лунев, зам. Главного военного прокурора т. Китаев в присутствии генерал-полковника тов. Гетмана, генерал-лейтенанта Бакеева и генерал-майора тов. Сопильника привели в исполнение приговор Специального Судебного Присутствия Верховного суда СССР от 23 декабря 1953 года над осужденными: 1) Кобуловым Богданом Захарьевичем, 1904 года рождения, 2) Меркуловым Всеволодом Николаевичем, 1895 года рождения, 3) Деканозовым Владимиром Георгиевичем, 1898 года рождения, 4) Мешиком Павлом Яковлевичем, 1910 года рождения, 5) Влодзимирским Львом Емельяновичем, 1902 года рождения, 6) Гоглидзе Сергеем Арсентьевичем, 1901 года рождения, к высшей мере наказания — расстрелу. 23 декабря 1953 года в 21 час 20 минут вышеуказанные осужденные расстреляны. Смерть констатировал — врач (роспись)». Попробуйте, как в известном тесте на внимательность, найти десять или больше значимых различий, кроме фамилий осужденных, между этими двумя однотипными документами. Прежде всего можно сказать, что в одном Хижняк оказался прав — врача при казни Берии не было. Потому что под актом о расстреле Лаврентия Павловича нет подписи доктора, констатировавшего смерть. Это первая бросающаяся в глаза странность. Как же так, в отношении второстепенных участников заговора позаботились все оформить в полном соответствии с юридическими нормами, честь по чести, а смерть главного заговорщика даже забыли удостоверить врачебной подписью. Неужели только затем, чтобы создать почву для слухов, будто бы расстреляли не Берию, а кого-то другого, тогда как живой Лаврентий Павлович скрывается то ли в Аргентине, то ли в Швеции? Чувствуется, что акт о Берии составляли торопливо, пропустив, в частности, год рождения осужденного. А ведь это тоже важно для однозначной идентификации личности казненного. Вдруг в стране существуют два Лаврентия Павловича Берии, различающиеся лишь датами рождения? Вот насчет присутствия при расстреле Берии членов Специального Судебного Присутствия (прости, читатель, за невольный каламбур) Хижняк, думаю, ошибся. Во всяком случае, в акте о приведении приговора в исполнение они, кроме Москаленко, не упомянуты. Разве только как зрители пришли поглазеть на казнь, попросив не заносить их имена в протокол? Есть и другая странность. Первый акт подписали кроме непосредственного исполнителя приговора генерала Батицкого прокурор Руденко и генерал Москаленко. Известно, что двое последних — единственные, кому Президиум ЦК доверил допрашивать Берию. Больше никого из прокуроров, следователей и генералов к преступнику, знающему самые большие государственные секреты, и близко не подпускали. Только майор Хижняк ухаживал за Лаврентием Павловичем как сиделка за больным, но не имел права даже словом с ним перемолвиться. Подпись генерального прокурора Руденко на акте о расстреле Берии вполне уместна. Не вызывает, казалось бы, вопросов и подпись Москаленко: Кирилл Семенович — один из членов Специального Судебного Присутствия, судившего Берию. Странно, однако, что акт пришлось подписывать Москаленко, а не председателю Судебного Присутствия маршалу И. С. Коневу. Неужели Иван Степанович отказался? Вроде нет. В архиве сохранилось предписание Конева коменданту Специального Судебного Присутствия генерал-полковнику И. Ф. Батицкому немедленно привести в исполнение приговор в отношении осужденного Л. П. Берии и представить акт. На этой бумаге имеется резолюция: «Приговор приведен в исполнение в 19.50 23.12.53 г. Батицкий». Предписание, что характерно, отпечатано на машинке, а акт о расстреле Берии почему-то написан от руки. Присутствовать же при исполнении его предписания маршалу почему-то не захотелось. Хотя вроде человек не робкого десятка. Может, бывший подчиненный генерал Москаленко да генеральный прокурор Руденко настоятельно порекомендовали Коневу поберечь нервы? Вызывает удивление и то, что Батицкий, Руденко и Москаленко не подождали два часа, чтобы подписать второй акт — о расстреле остальных осужденных. Они предпочли доверить это лицам куда менее значительным. А кто был непосредственным исполнителем приговора над Кобуловым, Меркуловым и др., из текста документа не ясно. Расстреливали осужденных то ли сами Лунев и Китаев (что маловероятно при их высоких должностях), то ли упомянутые во втором акте генералы Гетман, Бакеев и Сопильник, то ли безвестные офицеры комендатуры. Вспомним, что члены Специального Судебного Присутствия, председатель ВЦСПС Н. М. Шверник и секретарь Московского обкома партии Н. А. Михайлов, как утверждает Серго Берия, намекнули, что на суде был не его отец, а совсем другой человек. Справедливости ради отмечу, что еще один член суда, председатель Совета профсоюзов Грузии М. И. Кучава, в беседе с автором книги «Тринадцать «железных» наркомов» генералом МВД В. Ф. Некрасовым заявил, что на судебном заседании присутствовал сам Берия, а не его двойник. Только Лаврентий Павлович был без своего знаменитого пенсне, и обнаружилось, что он страдает косоглазием. Между прочим, если сохранилась медицинская карта бывшего шефа МВД, можно попытаться проверить, действительно ли он косил. Что любопытно, бывший глава грузинских профсоюзов не заметил, чтобы Берия за время пребывания в тюрьме заметно похудел. Это тоже настораживает: неужели Лаврентий Павлович не понимал, что его ждет, и сохранил отменный аппетит, тем более что питаться приходилось из солдатской столовой (а как у нас кормят солдат — известно). А теперь вернемся опять к рассказу Хижняка. Он почему-то уверял корреспондента, что суд на Берией длился больше месяца. И это одна из самых существенных ошибок в свидетельстве бывшего тюремщика. Ведь в действительности Специальное Судебное Присутствие под председательством Конева уложилось меньше чем за неделю — с 18 по 23 декабря 1953 года. Куда это водили Берию ежедневно в течение месяца с 10 до 19 часов, с часовым перерывом на обед, когда Берию возвращали в бункер, где он опять встречался с Хижняком (как можно понять из текста интервью, на суде майор не присутствовал)? Рискну высказать вот какое предположение. Протокол первого из публиковавшихся до сих пор допросов Берии датирован 23 июля, протокол последнего — 26 августа. О существовании более поздних по времени протоколов пока ничего не известно. Может быть, после 26 августа Берию вообще не допрашивали? Если так, то получается, что допросы Лаврентия Павловича длились чуть больше месяца. Не на суд провожал каждый день в 10 часов утра Хижняк Берию, а на следствие. А когда допросы решили прекратить, Берию расстреляли без всякого суда. И произошло это, скорее всего, в конце августа или в начале сентября. При таком предположении многие детали рассказа Хижняка получают свое рациональное объяснение. Он утверждает, что Берию расстреляли «ближе к ночи». В акте же, подписанном Руденко, Москаленко и Батицким, стоит не такое уж и позднее время — 19.50. Хижняк утверждает, что приготовления к казни заняли несколько часов, «весь вечер»: пока изготовили деревянный щит и металлическое кольцо, пока съездили за новым костюмом и переодели в него Берию. Между тем судебные приговоры по такого рода делам, как правило, приводились в исполнение немедленно. Вот и на предписании Конева содержалось подобное требование. Когда год спустя судили коллегу Берии Абакумова, бывшего шефа МГБ расстреляли буквально сразу после вынесения смертного приговора, как только вывели из зала суда. Тогда Хрущев и его соратники действительно опасались, что бывший шеф КГБ, узнав о смертном приговоре, может наговорить или, хуже того, написать много лишнего, и тянуть с расстрелом не стали ни одной минуты. С Берией же, если верить Хижняку (а не верить вроде нет оснований), возились несколько часов. Щит для расстрела начали мастерить загодя, еще до вынесения приговора? Что ж, ничего необычного в этом нет. И Руденко, и Москаленко, и другие члены Спецприсутствия прекрасно знали, каким будет приговор. Но вряд ли до его вынесения стали бы решать чисто технические детали: как расстреливать Берию — отдельно или вкупе с другими осужденными (щит с кольцом явно был рассчитан только на одного человека). И почему, спрашивается, Москаленко пришла в голову фантазия перед расстрелом переодевать Берию из серого в черное? Не все ли равно, в каком на тот свет идти? Ведь подельников Берии как будто не переодевали, за что же Лаврентию Павловичу такая честь? А вот за что. Думаю, Хижняк запамятовал одну деталь: не серый костюм ему пришлось сжигать впоследствии, а черный. Запамятовать немудрено: сразу после казни с непривычки майор грохнулся в обморок. Серый же костюм никто не сжигал, ибо он был нужен для человека, которому предстояло сыграть роль Берии на суде. Двойник наверняка имел внешнее сходство с Лаврентием Павловичем, хотя, конечно, не абсолютное. Вот пусть присутствовавшие на суде участники и свидетели ареста Берии убедятся: перед ними тот самый человек, в том же самом сером костюме, в каком его брали на Президиуме ЦК. А чтобы неполное сходство не так бросалось в глаза людям, знавшим Берию, двойника посадили на скамью подсудимых без пенсне. Рассчитывали, что несходство отнесут насчет отсутствия традиционного атрибута внешнего облика «лубянского маршала» — в очках и без очков человек часто смотрится по-разному. Кстати, Хижняк, возможно, ошибся, когда утверждал, что на второй день после ареста видел Берию в пенсне. Ведь в письме коллегам по Президиуму от 1 июля Лаврентий Павлович жаловался: «Т-щи, прошу прощения, что пишу не совсем связно и плохо в силу своего состояния, а также из-за слабости света и отсутствия пенсне (очков)». Пенсне, очевидно, отобрали, чтобы узник с помощью осколка не вскрыл себе вены. Правда, сделать это могли не в первый день ареста, а на второй или третий. У Хрущева, Маленкова и других членов Президиума имелись веские основания не оставлять Берию в живых до суда. Лаврентий Павлович очень много знал такого о каждом из членов высшего партийного руководства, что они никак не хотели доводить до сведения коллег. Недаром сразу после ареста Берии по распоряжению Хрущева был уничтожен архив бывшего шефа МВД. Специальная комиссия сожгла, не разбирая и не читая, 11 мешков документов, о чем составила соответствующий акт. Но сам Берия наверняка помнил содержание многих пикантных бумаг и на суде мог огласить весьма малоприятные факты из биографий «дорогих» Никиты Сергеевича, Георгия Максимилиановича, Вячеслава Михайловича и прочих, вооружив членов Президиума жареным материалом против соперников в разгорающейся борьбе за власть. Опыт с Ежовым подсказывал, что обреченный на смерть мнимый заговорщик может отречься от своих прежних признаний и на суде начать резать правду-матку. Потому допрашивать Берию Хрущев поручил надежным людям — Руденко и Москаленко, в личной преданности которых не сомневался. Но даже им, похоже, Никита Сергеевич не доверил выпытывать у подследственного сведения о мнимом заговоре и о деятельности Берии по отношению к кремлевским вождям. Вопросы Романа Андреевича и Кирилла Семеновича касались вещей безобидных, не имеющих политической остроты. Речь шла об авторстве книги, посвященной истории большевистских организаций Закавказья, похищении и убийстве жены маршала Г. И. Кулика (его самого три года уж как расстреляли, а что касается его супруги — Киры Ивановны Симонович, то она была по указанию Сталина тайно арестована 5 мая 1940 года по подозрению в шпионаже и несколько месяцев спустя расстреляна без суда. Возможно, ей инкриминировали шпионаж в пользу Италии — там у Киры Ивановны проживали родственники. Все документы по делу Кулик-Симонович уничтожены, и мы сегодня нс знаем не только, в чем ее обвиняли, но даже точной даты расстрела), любовных похождениях Лаврентия Павловича, его службе в мусаватистской контрразведке. Причем на следствии Берия, если верить опубликованным показаниям, все отрицал, а на суде порой признавал даже то, чего не было. На процессе Лаврентий Павлович заявил: «Я долго скрывал свою службу в мусаватистской контрреволюционной разведке. Однако… даже находясь на службе там, не совершил ничего вредного». Отчего не сказал, что к мусаватистам был послан по заданию Орджоникидзе (это ведь установило проведенное по поручению Сталина расследование) и никогда службы в мусаватистской контрразведке не скрывал, честно писал об этом в автобиографии! Наиболее вероятным мне кажется такое предположение о конце Берии. Лаврентия Павловича застрелили в бункере штаба Московского военного округа в конце августа или начале сентября 1953 года без какого-либо приговора суда. И сделал это генерал Павел Федорович Батицкий. Не исключено, что в будущем отыщутся протоколы допросов Берии, относящиеся к периоду после 26 августа 1953 года. Тогда смерть «лубянского маршала» надо будет датировать на несколько дней позднее последнего допроса. Крайний срок здесь — 17 декабря, потому что 18-го уже начался суд. Но я думаю, что так долго тянуть с Берией не стали. Почему же суд провели несколько месяцев спустя после смерти главного обвиняемого? Ответ может быть таким: неведомому двойнику требовалось время, чтобы выучить роль, да и от назначенных Берии в соучастники Кобулова, Меркулова и прочих следовало получить показания, чтобы хватило материала для судебного спектакля. Они-то больших кремлевских тайн не ведали и опасности не представляли. Но если на суде был не Берия, а его двойник, почему он отказался признать себя виновным в том, в чем, собственно, обвинялся: в заговоре и измене Родине? Ведь заявил же подсудимый в последнем слове: «Я должен сказать Вам, что изменником и заговорщиком я никогда не был и не мог им быть. У меня и в мыслях не было, и я не помышлял даже, чтобы ликвидировать советский строй и реставрировать капитализм…» Думаю, в данном случае организаторы процесса пошли по пути наименьшего сопротивления. Сколько-нибудь убедительного сценария «бериевского заговора» они придумать так и не смогли. А в заговоре непременно должны были участвовать и другие подсудимые. Если бы признался их шеф, то они, отрицая свое участие в подготовке переворота, вынуждены были бы на суде задавать Берии вопросы, на которые режиссерам трудно было бы найти правдоподобные ответы. Мог получиться конфуз. Хоть процесс был закрытый, но трансляция заседаний суда шла в кабинеты всех членов Президиума ЦК. Чтобы не волновались и собственными ушами слышали: Лаврентий Павлович ничего дурного о них не сказал. Еще одним важным доказательством того, что Берию расстреляли еще до суда, может служить следующий факт. Сохранился акт о кремации тел шестерых чекистов, которых судили вместе с человеком, похожим на Берию. Но акта о кремации тела самого Лаврентия Павловича в архивах так и не нашли. Может быть, поэтому в народе возникли слухи, будто тело Берии без остатка растворили в какой-то очень сильной кислоте — чтобы даже горстки пепла не осталось от палача и изменника. Вероятнее всего, дело обстояло гораздо проще, без жуткой экзотики в стиле готического романа и современных «ужастиков». Труп Берии кремировали, но поскольку происходило это значительно раньше, чем 23 декабря, и на погребение осужденного после исполнения законного приговора никак не походило, то оформили всю процедуру как кремацию неизвестного или записали тело на другую фамилию. Мою гипотезу можно попытаться подтвердить анализом материалов следствия и суда, для чего необходима их полная публикация (или хотя бы свободный доступ исследователей к документам по делу Берии). Удачу может принести и поиск следов человека, который, вероятно, сыграл перед Специальным Судебным Присутствием роль поверженного «лубянского маршала». Серго Берия утверждает, что в 1958 году в Свердловске, где они с матерью находились в ссылке, «нам подбросили в почтовый ящик снимок, на котором был запечатлен мой отец, прогуливающийся по… Буэнос-Айресу. В Аргентине он никогда не был… Через несколько месяцев в почтовом ящике оказался журнал «Вокруг света»… на снимке был запечатлен… Лаврентий Павлович Берия, прогуливающийся с дамой по площади Мая в… Буэнос-Айресе… Фотография действительно была датирована 1958 годом». Возникает вопрос, не изображен ли на снимке двойник Лаврентия Павловича, так или иначе связанный со спецслужбами? Если версия с расстрелом Лаврентия Павловича до суда соответствует действительности, то проблема реабилитации Берии предстает с совершенно неожиданной стороны. Разумеется, Лаврентий Павлович не был изменником Родины. Вернее, по отношению к своей малой родине — Грузии — Берия может считаться изменником, поскольку он по мере сил способствовал поглощению независимого Грузинского государства Советской империей. Но ведь судили его в декабре 1953-го совсем не за это, называли английским шпионом (поскольку-де мусаватистская контрразведка была тесно связана с англичанами). Сегодня очевидно, что ничьим шпионом Берия никогда не был и не планировал никакого государственного переворота. Поэтому Лаврентия Павловича следует признать невиновным в тех преступлениях, которые ему инкриминировались на суде. Бывший глава НКВД виновен в другом: фальсификации уголовных дел и необоснованных репрессиях, в осуществлении депортации «наказанных народов», в массовом уничтожении польских офицеров и интеллигенции, представителей имущих классов и интеллигенции Прибалтики, Западной Украины и Западной Белоруссии (хотя решения о расстрелах и депортациях, повторяем, принимал не он, а Сталин). Виновен он, скорее всего, и в изнасилованиях и злоупотреблении служебным положением. И еще. Лаврентий Павлович в 1947 году, зная о предстоящей денежной реформе, все свои сбережения в размере 40 тысяч рублей заранее поместил в сберкассу, чтобы избежать конфискационной переоценки. Кстати, по тем временам 40 тысяч — сумма небольшая. Ее едва хватило бы на приобретение малолитражного автомобиля. Не много же скопил Лаврентий Павлович за более чем четверть века беспорочной службы. Вот к моменту ареста материальное положение Берии значительно упрочилось. У него изъяли сберегательных вкладов на сумму 363 тысячи рублей. Но легальное происхождение этих денег не вызывает сомнений. Как заместитель предсовмина, Берия имел ежемесячно зарплату 8 тысяч рублей и не облагаемую налогом дотацию в 20 тысяч рублей. Кроме того, в начале 50-х годов за руководство атомным и водородным проектами он был удостоен двух Сталинских премий по 150 и 100 тысяч рублей. Да, к концу правления Сталина партийная верхушка, в отличие от всего советского народа, действительно стала зажиточной, не так как в 30-е и в первую половину 40-х годов. Наша прокуратура в 2000 году оставила в силе приговор в отношении Берии, поверив тем самым во все фантастические обвинения в заговоре с целью захвата власти (суд неконституционного Специального Судебного Присутствия, проходивший в отсутствие адвокатов, вряд ли можно счесть правым. И это обстоятельство, подчеркну, ставит под сомнение достоверность добытых в ходе процесса Берии и его товарищей доказательств вины подсудимых). А вот если будет окончательно и твердо установлено, что Лаврентия Павловича Берию расстреляли до суда, го ситуация в правовом отношении кардинально изменится. Нельзя же признать законным приговор, вынесенный на суде, где обвиняемый никак не мог присутствовать, поскольку уже отошел мир в иной. Если же и в этом случае приговор в отношении Берии оставят в силе, то откроется широкое поле для посмертных судебных процессов. К иным политическим вождям можно будет добавить тысячи и тысячи рядовых исполнителей «красного террора», да и обычных уголовников, которым при жизни удалось избежать суда. Хороший сюжет для театра абсурда! Повторяю, юридическая реабилитация, если она когда-нибудь произойдет, ни в коем случае не будет означать моральной реабилитации. Перед Божьим судом Лаврентию Павловичу есть за что ответить. Вот какую оценку Берии дал бывший министр сельского хозяйства Н. А. Бенедиктов: «Да, пороки у него имелись, человек был непорядочный, нечистоплотный — как и другим наркомам, мне от него натерпеться пришлось. Но при всех своих бесспорных изъянах Берия обладал сильной волей, качествами организатора, умением быстро схватить суть вопроса и быстро ориентироваться в сложной обстановке». Думаю, эта оценка близка к истине. Добавлю только, что в советской системе прагматизм Берии вкупе с чекистским прошлым обрекли его на гибель. Возможно, в последние дни жизни, сидя в бетонном мешке, Лаврентий Павлович вспомнил свои слова о том, что «у нас в турме места много», и пожалел о них. Не рой другому яму… Понял Берия, что ощущали те, кого его ведомство отправляло на гибель. Может, и раскаялся в чем-то перед смертью. Только неизвестно, в чем — в том, что загубил немало невинных душ, или в том, что так глупо проиграл в решающей схватке за власть.
АБАКУМОВ

Из безвестности — в заместители Берии
Виктор Семенович Абакумов получил в литературе, художественной и исторической, противоречивые оценки. Его нередко представляют положительным или в крайнем случае этаким черно-белым персонажем, за душу которого боролись силы добра и зла. Абакумов выдвинулся в число руководителей карательных органов в годы Великой Отечественной войны и, как глава военной контрразведки, боролся не только с мнимыми «врагами народа», но и с настоящими шпионами и диверсантами. Кроме того, в отличие от других героев моей книги, Абакумов считается стопроцентным русским, что льстит ура-патриотическим чувствам части народа. Хотя, строго говоря, достоверными данными о родословной Виктора Семеновича мы не располагаем и сказать, чья кровь текла в его жилах, не представляется возможным. Как и Ежов, он писался в анкетах русским. Но его родители могли быть представителями любого из народов Российской империи, соединившихся в русском «плавильном котле». Абакумов родился в апреле 1908 года в Москве в семье истопника, прежде работавшего на фармацевтической фабрике. Мать будущего министра, как он сам указывал в анкетах, была прачкой. Дата рождения Абакумова сомнительна, как и сведения о его образовании. В ранних анкетах Виктор Семенович утверждал, что в 1921 году окончил четырехклассное начальное (низшее) училище в Москве и сразу же, в ноябре, поступил санитаром во 2-ю Московскую бригаду частей особого назначения (ЧОН). В анкете же, заполненной сразу после ареста, Виктор Семенович оговорился, что «время окончания не помнит». Ведь если написать, что покинул училище в 1921 году, то получается, что будущий министр госбезопасности уже в 13 лет стал служить в бригаде ЧОНа. Думаю, в действительности Абакумов был года на три-четыре старше, чем писал в анкетах. А омолодил себя для того, чтобы скрыть более высокий образовательный уровень и, соответственно, неподходящее социальное происхождение. Возможно, Виктор Семенович был сыном не пролетария, а, например, ремесленника, официанта или даже городового. И родиться он мог не в Москве, а в каком-нибудь подмосковном поселке или даже в другой губернии. И образование, наверное, имел не ниже среднего. Гимназию Абакумов вряд ли кончал, но свободно мог одолеть курс реального училища. А такой уровень образования был более обычен не для рабочих, а для тех, кого большевики именовали «мелкой буржуазией». Не зная точно ни года, ни места рождения Абакумова, у нас весьма мало шансов найти его метрику. Боюсь, это навсегда останется под покровом тайны. И юбилей Виктора Семеновича отметить не удастся. О жизни Абакумова до того, как он занял руководящие посты в карательном ведомстве, известно немного. В конце 1923 года Виктор Семенович уволился из ЧОНа и поступил рабочим на один из московских заводов. В 1925 году устроился упаковщиком в Московский союз промысловой кооперации. В 1927–1928 годах служил стрелком 1-го отряда военно-промышленной охраны ВСНХ СССР, а затем вновь вернулся к профессии упаковщика, теперь уже на складах Центросоюза. В 1930 году Абакумов вступил в ВКП(б), что благотворно сказалось на его карьере. В том же году он был назначен заместителем начальника административного отдела торгово-посылочной конторы Наркомторга РСФСР. В сентябре 1930 года стал секретарем организации ВЛКСМ той же конторы. В 1931 году Абакумова перевели на штамповочный завод «Пресс» освобожденным секретарем комсомольской организации. Там он проработал всего несколько месяцев, а в октябре получил назначение заведующим военным отделом Замоскворецкого райкома комсомола. В 1932 году по партийной мобилизации мелкий комсомольский функционер был направлен в ОГПУ. Здесь Виктор Семенович обрел дело всей жизни и нашел применение своим талантам. Начинал он с практиканта экономического отдела полномочного представительства ОГПУ по Московской области, а в 1933 году дорос до оперуполномоченного 3-го отдела экономического управления ОГПУ. Однако в следующем году разразился скандал. Выяснилось, что Абакумов использовал конспиративную квартиру для свиданий с любовницами. Вряд ли в этом прегрешении он был одинок среди офицеров НКВД. Но, как видно, один из начальников дал делу ход, и проштрафившийся оперуполномоченный был сослан в ГУЛАГ — не заключенным, а простым уполномоченным 3-го отделения отдела охраны. Вскоре Абакумова восстановили в должности оперуполномоченного, а в 1937 году он перешел в 4-й (секретно-политический) отдел Главного управления государственной безопасности НКВД СССР, непосредственно занимавшийся организацией политических репрессий. Похоже, в разгар «ежовщины» Абакумов проявил себя с самой лучшей стороны, раз в сентябре 1938-го его повысили до помощника начальника отделения, а в ноябре — до начальника отделения. С приходом Берии Абакумов 5 декабря 1938 года был назначен исполняющим обязанности начальника Управления НКВД по Ростовской области. 27 апреля 1939 года его в этой должности утвердили как доказавшего преданность новому руководству. Виктор Семенович чем-то приглянулся Лаврентию Павловичу. 25 февраля 1941 года Абакумова назначили заместителем наркома внутренних дел, курировавшим особые отделы в армии, на флоте, а также в пограничных и внутренних войсках. Вскоре после начала Великой Отечественной войны, 19 июля 1941 года, он также возглавил Управление особых отделов НКВД. 4 февраля 1943 года Абакумову присвоили звание комиссара госбезопасности 2-го ранга, а 19 апреля особые отделы были преобразованы в Главное управление контрразведки СМЕРШ («Смерть шпионам») и переведены в состав Наркомата обороны. Абакумов стал заместителем наркома обороны Сталина. О деятельности военной контрразведки в годы войны мы судим чаще всего по талантливому роману Владимира Богомолова «Момент истины» («В августе сорок четвертого»). Там СМЕРШ предстает организацией высокоэффективной, где работали классные профессионалы вроде капитана Алехина и старшего лейтенанта Таманцева. А глава военной контрразведки генерал-полковник Виктор Семенович Абакумов у Богомолова — человек, безусловно, симпатичный: «Дюжий, светловолосый, с открытым, чуть простоватым, очень русским лицом, он стоял прямо перед Сталиным и смело смотрел ему в глаза». Справедливости ради надо сказать, что есть и другие произведения, где смершевцы изображены людьми малосимпатичными. Так, в замечательной, но сегодня, к сожалению, забытой широкой публикой повести Василя Быкова «Мертвым не больно» самый отталкивающий персонаж — это капитан СМЕРШа Сахно, готовый беспощадно расстреливать командиров за невзятые высотки и в то же время, оказавшись в плену, охотно подставляющий (в буквальном смысле) плечо немцам, лишь бы уцелеть. Насколько эффективной в действительности была работа легендарного СМЕРШа? И кто из литературных героев более типичный смершевец — капитан Алехин или капитан Сахно? Об этом дает представление доклад Сталину начальника ГлавПУРа А. С. Щербакова, проверявшего органы контрразведки сражавшейся в Карелии 7-й Отдельной армии. Командующий этой армией генерал-лейтенант Алексей Николаевич Крутиков пожаловался Верховному Главнокомандующему на своих особистов, один за другим лепивших явно фальшивые шпионские дела. В результате по приказу Сталина от 31 мая 1943 года несколько офицеров СМЕРШа во главе с заместителем начальника контрразведки 7-й Отдельной армии подполковником Керзоном были осуждены к пяти годам лагерей или к направлению в штрафные батальоны. Как докладывал Щербаков «по материалам следствия, проведенного Особым отделом армии, дело рисовалось следующим образом: «Резидент немецкой разведки Никулин, снабженный немецкой разведкой оружием (пистолетом и гранатами), получил от немецкой разведки задание вести обширную шпионскую деятельность в Красной Армии — вербовать шпионов, взрывать мосты, поджигать воинские склады, советские учреждения и т. д. Никулин имел в своем распоряжении агентов-связистов, которые, переходя линию фронта, передавали немцам шпионские сведения, собранные Никулиным. В числе других шпионов Никулин завербовал командира Красной Армии младшего лейтенанта Шведова. Проверка этого дела дала следующие результаты: Никулин И. А., 1910 года рождения, служил в Красной Армии в 1939 году, участвовал в боях с белофиннами, был ранен, после чего признан негодным к военной службе. Никулин совершенно неграмотный (умеет только расписываться), работал до войны и во время войны плотником Тихвинской лесобиржи. Четыре брата Никулина служат в Красной Армии. Во время оккупации Никулин полтора месяца проживал на территории, занятой немцами. Со Шведовым Никулин познакомился в то время, когда воинская часть, в которой состоял Шведов, располагалась по соседству, где проживал Никулин. По материалам следствия, как агент-связист, завербованный Никулиным, проходит Иванова Екатерина, 15 лет. Три брата и сестра Ивановой служат в Красной Армии. Младший лейтенант Шведов, после нескольких недель знакомства с Никулиным, уехал вместе со своей частью на Волховский фронт, под Синявино, откуда и дезертировал. Шведов был задержан Особым отделом 7-й Армии, ему первоначально было предъявлено обвинение в дезертирстве, а затем в шпионаже. Через некоторое время после ареста Шведов сознался в шпионской работе и показал, что в шпионы он был завербован Никулиным. На допросе мне и товарищу Абакумову Шведов заявил, что после того, как следователь Ильяйнен потребовал от него назвать сообщников, он, Шведов, назвал двух красноармейцев из взвода, которым он командовал. Но Ильяйнен отклонил этих людей и потребовал назвать других лиц. После этого Шведов оговорил Никулина (поскольку часть Шведова только что прибыла на фронт, солдаты-новобранцы, ранее не воевавшие, на роль немецких резидентов никак не годились; другое дело побывавший под оккупацией Никулин. — Б. С.). Будучи арестованным, Никулин ни в чем себя виновным не признавал, после пребывания в карцере признал себя виновным в шпионаже. Расследованием установлено, что объективных фактов для обвинения Никулина и Шведова в шпионаже нет… Особый отдел Армии имел полную возможность проверить деятельность «связиста» Ивановой Екатерины. Однако Иванова Екатерина не только не была арестована, но не была и допрошена, хотя… она продолжала жить безвыездно в том же самом месте (все-таки следователь Ильяйнен не был совсем бездушным человеком и не стал губить несовершеннолетнюю девушку, которую силой собственного воображения произвел во вражеского агента-связника. — Б. С.). Расследованием установлено, что Иванова Екатерина заданий от Никулина по шпионажу не получала и линию фронта не переходила. Особый отдел имел полную возможность выяснить, как попали к Никулину пистолет и гранаты. Расследованием… установлено: брат Екатерины Ивановой — мальчик 13 лет — однажды сказал Никулину, что у него имеются трофейные гранаты и пистолет (прямо как в хите черного юмора: «Вовочка в поле гранату нашел…» — Б. С.). Никулин отобрал оружие у мальчика Иванова, пистолет Никулин отдал Шведову за хлеб, а гранаты использовал для глушения и ловли рыбы… Шведова надо было арестовать и судить как дезертира. Никулин виноват в незаконном хранении и несдаче трофейного оружия, но фактов и материалов для обвинения его в шпионаже не было. Военный трибунал 7-й Отдельной армии отклонил обвинение в шпионаже. Следственное дело Никулина и Шведова вел ст. следователь Особого отдела Ильяйнен, по национальности финн. Ильяйнен ранее работал в органах НКВД и был уволен. Непосредственное руководство следствием и активное участие в нем принимал заместитель начальника Особого отдела 7-й Отдельной армии Керзон. Керзон с 1929 года по 1938 год работал в органах НКВД. В 1938 году он был арестован по подозрению в причастности к контрреволюционной организации. Затем был признан невиновным и с 1939 года вновь работает в органах НКВД. Ильяйнен и Керзон являются виновными в недобросовестном ведении следствия в отношении Никулина и Шведова». В докладе Щербакова приводилось еще несколько аналогичных примеров. Командарм сделал справедливый вывод, что подавляющее большинство дел о шпионаже в его армии были сфальсифицированы смершевцами, поскольку основывались только на сомнительных признаниях подсудимых, без каких-либо объективных доказательств их вины — данных свидетелей или улик: радиостанций, шифровальных блокнотов, записей разведывательной информации и т. д. Щербаков и Сталин решили не обобщать «нетипичные явления» и сочли дело Никулина и Шведова, равно как и другие дела такого рода, «отдельными недостатками». Однако установит ли кто-нибудь, сколько мнимых шпионов расстреляли люди Абакумова за всю войну? Ведь дела о шпионаже по части улик — одни из самых сложных. Агента необходимо взять либо вместе с рацией, либо в момент передачи разведданных курьеру или резиденту. Сделать это чрезвычайно трудно. Поэтому соблазн просто выбить из человека необходимое признание особенно велик. Подобного опыта у сотрудников СМЕРШа вроде Керзона было не занимать, и ветераны щедро делились им с молодыми контрразведчиками. После того как развалилось дело Никулина и Шведова, Военный трибунал 7-й Отдельной армии предположил, что ранее осужденные за шпионаж Пышнов, Лялин, Масленников, Никитин и Стафеев в действительности были невиновны. Но исправить ошибку уже не было возможности: всех осужденных, кроме одного, успели расстрелять. Вряд ли в других армиях положение было принципиально иным… В 1944 году за депортацию народов Северного Кавказа и Крыма Абакумов был удостоен ордена Суворова 2-й степени. За успехи контрразведчиков, подлинные или мнимые, Виктор Семенович получил ордена Красного Знамени, Кутузова и Суворова 1-й степени. В январе 1945 года, оставаясь главой СМЕРШа, он одновременно стал уполномоченным НКВД по 3-му Белорусскому фронту, сражавшемуся в Восточной Пруссии, где здорово обогатился за счет трофейного имущества. О работе Абакумова в годы войны есть немало положительных отзывов, исходящих главным образом от сотрудников СМЕРШа. Вот что, например, вспоминал бывший начальник его секретариата полковник Иван Александрович Чернов: «Виктор Семенович хоть и был молодой, а пользовался большим авторитетом, в ГУКР СМЕРШ его очень уважали (попробуй не уважь, живо превратишься в германского шпиона. — Б. С.). Основное внимание он уделял розыскной работе, знал ее хорошо, и велась она активно. Начальников управлений в центре и на фронтах жестко держал в руках, послаблений никому не давал. Резковат — это да, бывало по-всякому, а вот чванства за ним не замечалось. Наоборот, если случалось ему обидеть кого-то, он потом вызывал к себе в кабинет и отрабатывал назад. По себе знаю: начнет иногда ругать при посторонних, чтобы те почувствовали ответственность, а ночью выберет минуту и скажет — не обращай внимания, это нужно было в воспитательных целях». По утверждению бывшего начальника Особого отдела Юго-Западного, а позднее — 3-го Украинского фронта генерала армии Петра Ивановича Ивашутина, «выступая перед начальниками фронтовых управлений СМЕРШ, Абакумов не пользовался шпаргалками, четко излагал свои мысли и говорил со знанием дела. Он постоянно предостерегал нас от скоропалительных решений, основанных на одной бдительности и не подкрепленных доказательствами (и, несмотря на эти рекомендации, смершевцы благополучно продолжали фабриковать дутые дела и тысячами расстреливать мнимых шпионов, из которых абакумовские костоломы выбивали признание в работе на гестапо или абвер. — Б. С.)… Абакумов сам работал на износ и того же требовал от других. Он, однако, понимал людей, иногда считался с их нуждами…» Здесь замечательнее всего это «иногда». 4 мая 1946 года Абакумов сменил Всеволода Меркулова на посту министра государственной безопасности. СМЕРШ вошел в состав МГБ в качестве 3-го управления. Ивашутин полагал, что выбор кандидатуры Абакумова определялся тем обстоятельством, что «практические результаты деятельности СМЕРШ оказались выше, чем у НКГБ». Но вряд ли возможно даже сегодня объективно оценить, какое из этих двух ведомств в годы войны действовало эффективнее. Сколько настоящих шпионов и диверсантов поймали люди Абакумова, а скольких вывели в расход зазря, только для отчетности, мы, вероятно, не узнаем никогда. Думаю, Сталина росто разочаровал Меркулов, недостаточно боровшийся с «троцкистской опасностью», а проще говоря, лишком мало сажавший людей в тылу. У Абакумова количеством арестованных и расстрелянных все было > порядке. Подчинялся он непосредственно Сталину л как будто успел доказать любовь и преданность вож-[ю. Иосифу Виссарионовичу нравилось время от време-ш тасовать руководителей, чтобы не засиживались подолгу на одном месте, не обрастали связями и не создавали сплоченного клана своих сторонников. К руководителям органов госбезопасности это относилось в особенности. Сталин счел, что семь лет во главе НКВД для Берии и три года во главе НКГБ для Меркулова вполне достаточно, и решил попробовать Абакумова, отвергнув кандидатуру Рясного, поддержанную Маленковым и Берией. Наиболее громкой акцией Абакумова на посту руководителя СМЕРШа стал арест Главного маршала авиации А. А. Новикова и ряда других генералов ВВС, виновных в приемке с авиазаводов бракованной техники. Это дело началось еще летом 1945-го с письма сына Сталина — Василия, командовавшего авиадивизией в Германии. В заявлении в Президиум ЦК от 23 февраля 1955 года Василий Сталин, уже находясь в тюрьме, так излагал обстоятельства возникновения «дела авиаторов»: «Мне не известно, какие обвинения предъявлены Новикову при снятии его с должности главкома ВВС, так как я был в это время в Германии. Но если на снятие иарест Новикова повлиял мой доклад отцу о технике нашей (Як-9 с мотором М-107) и о технике немецкой, то Новиков сам в этом виновен. Он все это знал раньше меня. Ведь доложить об этом было его обязанностью как главкома ВВС, тогда как я случайно заговорил на эти темы. Ведь было бы правильно и хорошо для Новикова, когда я рассказывал отцу о немецкой технике, если бы отец сказал: «Мы знаем это. Новиков докладывал». А получилось все наоборот. Я получился первым докладчиком о немецкой технике, а Новиков, хотел я этого или нет, умалчивателем или незнайкой. В чем же моя вина? Ведь я сказал правду, ту, которую знал о немецкой технике». Василий ссылался на свой доклад о недостатках мотора, установленного на новом истребителе Як-9, что повлекло многочисленные аварии и катастрофы. В связи с этим 24 августа 1945 года Государственный Комитет Обороны принял специальное постановление «О самолете Як-9 с мотором ВК-107А», один из пунктов которого гласил: «За невнимательное отношение к поступающим из строевых частей ВВС сигналам о серьезных дефектах самолета Як-9 с мотором 107А и отсутствие настойчивости в требованиях об устранении этих дефектов — командующему ВВС Красной Армии т. Новикову объявить выговор». Позднее, в 1954-м, уже после реабилитации и в связи с проходившим тогда процессом по делу Абакумова, Новиков составил заметки, где старался в благоприятном для себя свете выставить обстоятельства своего ареста и доказать собственную невиновность. Он, в частности, утверждал: «Находясь в состоянии тяжелой депрессии, доведенный до изнеможения непрерывными допросами без сна и отдыха, я подписал составленный следователем Лихачевым протокол моего допроса с признанием моей вины во всем, в чем меня обвиняли… Причиной создания… комиссии (по проверке деятельности командования ВВС. — Б. С.) и ревизии ВВС послужило письмо Василия Сталина отцу о том, что ВВС принимают от промышленности самолет Як-9 с дефектами, из-за которых бьется много летчиков… Делу о приемке самолетов был дан ход, принявший обычный путь объяснений, разъяснений, обещаний исправить и т. д. Но хитрый, рвущийся к власти Васька хотел выдвинуться…» Александр Александрович прекрасно знал, что в это время «рвущийся к власти Васька» томится там же, где когда-то держали самого маршала. И валил на него всю вину за возникновение «дела о приемке самолетов». Хо-I я даже в «оправдательных записках» Новиков вынужден был признать, что сигнал, поступивший от Василия Сталина, был далеко не единственным: «Командующий ВВС МВО генерал Сбытов… написал пространное письмо в ЦК о недостатках в ВВС». Да и мудрено было утаить шило в мешке. Ведь одних злосчастных Як-9 с недоработанным, прошедшим только заводские, а не государственные испытания мотором ВК-107А поступило в войска почти 4 тысячи. Из них 2267 сразу поставили на прикол. Всего же, как показал на следствии арестованный вместе с Новиковым бывший член Военного совета ВВС Н. С. Шиманов, за годы войны ВВС приняли не менее 5 тысяч бракованных самолетов. В результате из-за конструктивного и заводского брака, по данным СМЕРШа, в период с 1942 по февраль 1946 года произошло 756 аварий и 305 катастроф. А примерно в 45 тысячах случаев самолеты не смогли вылететь на боевые задания из-за поломок, случившихся на земле. Шиманов на следствии показал, что бывший нарком авиапромышленности Шахурин «создавал видимость, что авиационная промышленность выполняет производственную программу, и получал за это награды. Вместо того чтобы доложить народному комиссару обороны, что самолеты разваливаются в воздухе, мы сидели на совещании и писали графики устранения дефектов на самолетах. Новиков и Репин (главный инженер ВВС. — Б. С.) преследовали лиц, которые сигнализировали о том, что в армию поступают негодные самолеты. Так, например, пострадал полковник Кац (начальник штаба одного из истребительных авиационных корпусов. — Б. С.)». Тогда, в августе 1945-го, Сталин решил ограничиться выговором Новикову и другим авиационным генералам. А позднее, весной 1946-го, пришел к заключению, что дело о бракованных авиамоторах можно очень удачно использовать в политических целях. Ведь Новиков дружил с маршалом Жуковым, которого пора было приструнить. А Маленков, один из проштрафившейся руководящей четверки, как раз отвечал в ГКО за авиационную промышленность. Поэтому 16 марта 1946 года Новикова сняли с поста главкома как не справившегося с работой, а спустя пять недель, 23 (по другим данным — 22-го) апреля, арестовали. Его дело Абакумов завершал уже как шеф МГБ. Новиков, Шахурин, Шиманов, Репин, а также начальник Главного управления заказов ВВС Н. П. Селезнев и заведующие отделами Управления кадрами ЦК А. В. Будников и Г. М. Григорьян в мае 1946 года Военной коллегией Верховного Суда были приговорены к различным срокам тюремного заключения. Новиков получил шесть лет, Шахурин — семь. Теперь халатность переквалифицировали без каких-либо на то оснований во вредительство. Но, к счастью для Новикова и остальных подсудимых, политических обвинений против них не выдвигали, поэтому и наказание было сравнительно мягким. Александра Александровича Новикова Сталин освободил в феврале 1952-го. В мае 1953-го маршала реабилитировали. Этому предшествовало заявление Новикова новому министру внутренних дел Берии от 2 апреля 1953 года: «Во время следствия меня несколько раз вызывал на допрос Абакумов. На этих допросах постоянно присутствовал следователь Лихачев. Абакумов ругал меня площадной бранью, унижал мое человеческое достоинство… угрожал расстрелом, арестом моей семьи… В присутствии следователя Лихачева он сказал, что я должен буду подписать составленное и отпечатанное заявление на имя Сталина… Лихачев давал мне подписывать по одному листу, и так я подписал это заявление… В этом заявлении приводились, как якобы известные мне факты, различные клеветнические вымыслы, компрометирующие… маршала Жукова… Абакумов на допросах в присутствии Лихачева неоднократно подробно меня расспрашивал о моих встречах и разговорах с Жуковым и Серовым…» В декабре 1954-го Новиков выступал свидетелем на 4кобы открытом процессе Абакумова. Сохранились те-шсы этого выступления. Маршал утверждал: «Арестован по делу ВВС, а допрашивают о другом… Был у Абакумова не менее 7 раз, как днем, так и ночью, что можно установить по журналу вызовов из тюрьмы… Протоколы не велись, записей не делалось, стенографистки не было… Я был орудием в их руках для того, чтобы скомпрометировать некоторых видных деятелей Советского государства путем создания ложных показаний… Вопросы состояния ВВС была только ширма…» Новиков цитировал по памяти следователя Лихачева: «Был бы человек, а статейку подберем… Какой ты маршал — подлец, мерзавец. Никогда отсюда больше не выйдешь… Расстреляем к е…..матери… Всю семью переарестуем… Рассказывай, как маршалу Жукову в жилетку плакал, он такая же сволочь, как ты…» Александр Александрович так объяснил собственное малодушие: «Допрашивали с 22-го (точнее, с 23-го. — Б. С.) по 30 апреля ежедневно, потом с 4-го по 8-е мая… Морально надломленный, доведенный до отчаяния несправедливостью обвинения, бессонные ночи… Не уснешь, постоянный свет в глаза… Не только по причине допросов и нервного напряжения, чрезмерная усталость, апатия, безразличие и равнодушие ко всему — лишь бы отвязались — потому и подписал — малодушие, надломленная воля. Довели до самоуничтожения. Были минуты, когда я ничего не понимал… я как в бреду наговорил бы, что такой-то хотел убить такого-то… Заявление на Жукова по моей инициативе?.. Это вопиющая неправда… со всей ответственностью заявляю, что я его не писал, дали печатный материал… Дело было так: к Абакумову привел меня Лихачев. Не помню, у кого был документ… Абакумов сказал: вот познакомьтесь — и подпишите. Заявление было напечатано… Ни один протест не был принят… Потом заставили… Это было у Лихачева в кабинете, продолжалось 7–8 часов… Было жарко мне, душно, слезы и спазмы душили…» Из объяснений Новикова видно: его в тюрьме не только не били, но даже не устраивали столь распространенной у чекистов пытки бессонницей. Александр Александрович не мог заснуть от нервного возбуждения, да еще от непривычки спать при круглосуточном освещении в камере. Тем не менее маршал сломался всего за неделю. И протоколы допросов, на которых Новикова будто бы понуждали подписать заявление против Жукова, как назло, не сохранились. В 1954 году, когда судили Абакумова, Жуков был заместителем министра обороны, и Новиков никак не мог признать, что в его заявлении против Георгия Константиновича много правды. Александру Александровичу пришлось лгать: в архиве сохранился написанный его рукой оригинал заявления, с которого потом сняли машинописную копию для зачтения на высшем Военном совете. Копию маршал также подписал. Думаю, на самом деле «сталинского сокола», дважды Героя Советского Союза, следователям на Лубянке и ломать-то как следует не пришлось. Александр Александрович прекрасно знал, что виноват. Бракованные самолеты с заводов принимал, в результате случались аварии и гибли люди. В 1953-м и 1954-м, оправдываясь, маршал утверждал: да, мол, принимал истребители с неисправным бензопроводом, но делал это исключительно с целью приблизить победу над Германией, дать в войска больше боевых машин. Как будто с неисправным бензопроводом далеко улетишь! Маршал с наркомом Ша-хуриным просто спешили отрапортовать о выполнении и перевыполнении правительственных заданий. Гибель летчиков их не волновала — людей до конца войны хватит. В заявлении о Жукове Новиков признавал: «Я являюсь непосредственным виновником приема на вооружение авиационных частей недоброкачественных самолетов и моторов, выпускающихся авиационной промышленностью…» Во время следствия это было квалифицировано как сознательное вредительство. При реабилитации маршала в 1953 году прием заведомого брака расценили как ошибки, неизбежные во всяком большом и сложном деле. В действительности же перед нами самая обычная преступная халатность, за которую Новикова, Шахури-на и курировавшего авиапромышленность Маленкова стоило бы судить. Но Георгия Максимилиановича Сталин пощадил, ограничившись чисто воспитательными мерами.Поединок двух чекистов
О деятельности Абакумова во главе СМЕРШа и МГБ сохранилось свидетельство человека, представлявшего конкурировавшее ведомство, — первого заместителя министра внутренних дел генерала Ивана Александровича Серова. Абакумов не раз жаловался на него Берии: «Серов известен своими провокационными выходками и склоками… пора положить конец этому». Иван Александрович, в свою очередь, слал Берии и Сталину телеги на Абакумова. Одна из них — о том, чем занимался Виктор Семенович в период войны и после, уже возглавив Министерство госбезопасности, — столь колоритна и интересна, что ее стоит процитировать подробно. Так, 8 февраля 1948 года в связи с попытками Абакумова создать против него дело о незаконном присвоении средств в Германии и аресте Министерством госбезопасности офицеров МВД, работавших в Берлине, Серов писал Сталину: «Я извиняюсь, товарищ Сталин, что еще раз вынужден беспокоить Вас, но сейчас сложилась такая обстановка вокруг меня… Абакумов арестовал до 10 человек из числа сотрудников, работавших со мной, и в том числе двух адъютантов. Сотрудники МГБ и МВД СССР знают об этих арестах, «показаниях» и открыто говорят, что Абакумов подбирается ко мне… Считаю необходимым доложить Вам об этом, товарищ Сталин, так как уверен, что Абакумов докладывает неправду. Этой запиской я хочу рассказать несколько подробнее, что из себя представляет Абакумов. Насколько мне известно, в ЦК ВКП(б) делались заявления о том, что Абакумов в целях карьеры готов уничтожить любого, кто встанет на его пути. Эта истина известна очень многим честным людям. Несомненно, что Абакумов будет стараться свести личные счеты не только со мной, а также с остальными своими врагами — это с тт. Федотовым, Кругловым, Мешиком, Рапава, Мильштейном и другими. Мне Абакумов в 1943 году заявил, что он все равно когда-нибудь застрелит Мешика (Павел Яковлевич Мешик был заместителем Абакумова в СМЕРШе и человеком, близким к Берии; то, что Виктор Семенович хотел столь круто с ним обойтись, доказывает, что уже в 1943-м он с Лаврентием Павловичем был на ножах. — Б. С.). Ну, а теперь на должности Министра имеется полная возможность найти другой способ мести. Мешик это знает и остерегается… Сейчас для того, чтобы очернить меня, Абакумов всеми силами старается приплести меня к Жукову. Я этих стараний не боюсь, так как кроме Абакумова есть ЦК, который может объективно разобраться. Однако Абакумов о себе молчит, как он расхваливал Жукова и выслуживался перед ним как мальчик… Когда немцы подошли к Ленинграду и там создалось тяжелое положение, то ведь не кто иной, как всезнающий Абакумов, распространял слухи, что «Жданов в Ленинграде растерялся, боится там оставаться, что Ворошилов не сумел организовать оборону, а вот приехал Жуков и все дело повернул, теперь Ленинград не сдадут». Теперь Абакумов, несомненно, откажется от своих слов, но я ему сумею напомнить. Второй факт. В Германии ко мне обратился из ЦК Компартии Ульбрихт (тот самый Вальтер Ульбрихт, который вплоть до 1971 года возглавлял Компартию Восточной Германии, с 1946 года называвшуюся Социалистической единой партией Германии, и был лидером ГДР. — Б. С.) и рассказал, что в трех районах Берлина англичане и американцы назначили районных судей из немцев, которые выявляют и арестовывают функционеров ЦК Компартии Германии, поэтому там невозможно организовать партийную работу. В конце беседы попросил помочь ЦК в этом деле. Я дал указание негласно посадить трех судей в лагерь. Когда англичане и американцы узнали о пропаже трех судей в их секторах Берлина, то на Контрольном Совете сделали заявление с просьбой расследовать, кто арестовал судей. Жуков позвонил мне и в резкой форме потребовал их освобождения. Я не считал нужным их освобождать и ответил ему, что мы их не арестовывали. Он возмущался и всем говорил, что Серов неправильно работает. Затем Межсоюзная Комиссия расследовала, не подтвердила факта, что судьи арестованы нами, и на этом дело прекратилось. ЦК Компартии развернуло свою работу в этих районах. Абакумов, узнав, что Жуков ругает меня, решил выслужиться перед ним. В этих целях он поручил своему верному приятелю аферисту Зеленину, который в тот период был начальником Управления СМЕРШ (ныне находится под следствием), подтвердить, что судьи мной арестованы. Зеленин узнал об аресте судей и доложил Абакумову. Когда была Первая Сессия Верховного Совета СССР, то Абакумов, сидя рядом с Жуковым (имеется фотография в газетах), разболтал ему об аресте мной судей. По окончании заседания Абакумов подошел ко мне и предложил идти вместе в Министерство. По дороге Абакумов начал мне говорить, что он установил точно, что немецкие судьи мной арестованы, и знает, где они содержатся. Я подтвердил это, так как перед чекистом не считал нужным скрывать. Тогда Абакумов спросил меня, а почему я скрыл это от Жукова, я ответил, что не все нужно Жукову говорить. Абакумов было попытался прочесть мне лекцию, что «Жукову надо все рассказывать», что «Жуков первый заместитель Верховного» и т. д. Я оборвал его вопросом, почему он так усердно выслуживается перед Жуковым. На это мне Абакумов заявил, что он Жукову рассказал об аресте судей и что мне будет неприятность. Я за это Абакумова обозвал дураком, и мы разошлись. А сейчас позволительно спросить Абакумова, чем вызвано такое желание выслужиться перед Жуковым. Мне неприятно, товарищ Сталин, вспоминать многочисленные факты самоснабжения Абакумова во время войны за счет трофеев, но о некоторых из них считаю нужным доложить. Наверно, Абакумов не забыл, когда во время Отечественной войны в Москву прибыл эшелон более 20 вагонов с трофейным имуществом, в числе которого ретивые подхалимы Абакумова из СМЕРШ прислали ему полный вагон, нагруженный имуществом с надписью «Абакумову». Вероятно, Абакумов уже забыл, когда в Крыму еще лилась кровь солдат и офицеров Советской Армии, освобождавших Севастополь, а его адъютант Кузнецов (ныне «охраняет» Абакумова) прилетел к начальнику Управления контрразведки СМЕРШ и нагрузил полный самолет трофейного имущества. Командование фронтовой авиацией не стало заправлять бензином самолет Абакумова на обратный путь, так как горючего не хватало для боевых самолетов, ведущих бой с немцами. Тогда адъютант Абакумова не растерялся, обманным путем заправил и улетел. Мне об этом жаловался командир авиационного корпуса и показывал расписку адъютанта Абакумова. Вот какие подлости выделывал Абакумов во время войны, расходуя моторесурсы самолета СИ-47 и горючее. Эти безобразия и поныне прикрываются фразой: «Самолет летал за арестованными». Сейчас Абакумов свои самолеты, прилетающие из-за границы, на Контрольных пунктах в Москве не дает проверять, выставляя солдат МГБ, несмотря на постановление Правительства о досмотре всех без исключения самолетов. Пусть Абакумов расскажет в ЦК про свое трусливое поведение в тяжелое время войны, когда немцы находились под Москвой. Он ходил как мокрая курица, охал и вздыхал, что с ним будет, а делом не занимался. Его трусость была воспринята и подчиненными аппарата. Своего подхалима Иванова, ведавшего хозяйственными вопросами, Абакумов посылал к нам снимать мерку с ног для пошивки болотных сапог, чтобы удирать из Москвы. Многим генералам и себе Абакумов пошил такие сапоги. Ведь оставшиеся в Москве, в тот период, генералы видели поведение Абакумова. Пусть Абакумов откажется, как он в тяжелые дни войны ходил по городу, выбирал девушек легкого поведения и водил их в гостиницу «Москва». А сейчас он забыл это и посадил в тюрьму подполковника Тужлова, который в первые дни войны был начальником пограничной заставы, в течение семи часов вел бой с немцами до последнего патрона, был ранен и получил орден Красного Знамени. Конечно, сейчас Абакумов, вероятно, «забыл» о разговоре, который у нас с ним происходил в октябре месяце 1941 года о положении под Москвой, и какую он дал тогда оценку. Абакумов по секрету сообщил мне, что «прибыли войска из Сибири, кажется, дело под Москвой должно пойти лучше». На это я ответил ему: «Товарищ Сталин под Москвой повернул ход войны, его за спасение Москвы народ на руках будет носить». И при этом рассказал лично слышанные от Вас, товарищ Сталин, слова, когда Вам покойный Щербаков доложил, что у него перехвачен приказ Гитлера, в котором он указывает, что 7 ноября будет проводить парад войск на Красной Площади. Когда Вы на это спокойно и уверенно сказали: «Дурак этот Гитлер! Он и не представляет себе, как побежит без оглядки из России». Эти Ваши слова я рассказал Абакумову, он не смеет отказаться, если хоть осталась капля совести. Эти Ваши слова я рассказал многим. После разгрома немцев под Сталинградом Абакумов начал мне рассказывать, что «там хорошо организовали операции по разгрому немцев маршалы Рокоссовский, Воронов и другие». Я ему на это прямо сказал, что организовали разгром немцев под Сталинградом не маршалы, а товарищ Сталин, и добавил: «Не будь товарища Сталина, мы погибли бы с твоими маршалами. Товарищу Сталину обязан весь русский народ». Абакумов на это не нашелся ничего сказать, как «да». Да оно и понятно, ведь Абакумов не способен на политическую оценку событий. Мне во время войны приходилось по службе и реже в быту встречаться с Абакумовым. Я наблюдал и изучал его… Для того чтобы создать о себе славу, он идет на любую подлость, даже в ущерб делу. Сейчас под руководством Абакумова созданы невыносимые условия совместной работы органов МТБ и МВД. Как и в центре, так и на периферии работники МТБ стараются как можно больше скомпрометировать органы МВД. Ведь Абакумов на официальных совещаниях выступает и презрительно заявляет, что «теперь мы очистились от этой милиции. МВД больше не болтается под ногами» и т. д. Ведь между органами МГБ и МВД никаких служебных отношений, необходимых для пользы дела, не существует. Такого враждебного периода в истории органов никогда не было. Партийные организации МГБ и МВД не захотели совместным заседанием почтить память Ленина, а проводили раздельно, и при этом парторганизация МГБ не нашла нужным пригласить хотя бы руководство МВД на траурное заседание. Ведь Абакумов навел такой террор в Министерстве, что чекисты, прослужившие вместе 20–25 лет, а сейчас работающие одни в МВД, а другие в МГБ, при встречах боятся здороваться, не говоря уже о том, чтобы поговорить. Если кому-либо из работников МГБ требуется по делу прийти ко мне, то нужно брать особое разрешение от Абакумова. Об этом мне официально сообщали начальник отдела МГБ Грибов и другие. Ведь в МГБ можно только хвалить руководство, говорить о достижениях в работе и ругать прежние методы работы. Во внутренних войсках, переданных из МВД в МГБ, офицерам запрещено вспоминать о проведенных операциях во время войны (по переселению немцев, карачаевцев, чечено-ингушей, калмыков и др.). Можно только ругать эти операции. А ведь осенняя операция МГБ по украинским националистам была известна националистам за десять дней до начала и многие из них скрылись (речь идет о массовой депортации населения Западной Украины в 1947 году. — Б. С.). Это ведь факт. А Абакумов за операцию представил сотни сотрудников к наградам. Не так давно Абакумов вызвал одного из начальников Управления и ругал за то, что тот не резко выступал на партсобрании против старых методов работы МГБ. Везде на руководящие должности назначены работники СМЕРШ, малоопытные в работе территориальных органов МГБ. Сотрудники МГБ запуганы увольнениями с работы и расследованиями. Всем известно, что Абакумов не проверил работу ни одного органа СМЕРШ и боится это сделать, так как найдет там много безобразий. Приезжающие с периферии сотрудники МГБ рассказывают, что там у многих районных отделов МГБ в течение года не было ни одного арестованного. Спрашивается, что делают 3–4 сотрудника РО МГБ в течение года. А ведь Вам известно, товарищ Сталин, сколько прибыло в страну репатриантов, а среди них и англо-американских шпионов. Ведь Абакумов обманул ЦК и провел в штаты МГБ Управление Судоплатова, которое в течение полутора лет ничем не занимается в ожидании работы (имеется в виду отдел «С», ведавший сбором и обработкой данных по созданию атомной бомбы; вынужденный перерыв в его работе был вызван отсутствием связи с главным советским «атомным шпионом» Клаусом Фуксом; в конце концов отдел «С» был переведен в состав Первого Главного управления при Совмине, возглавлявшегося Берией. — Б. С.). В Управлении кадров МГБ десятки генералов и полковников ходят безработными по году и получают жалованье по 5–6 тысяч. Секрет заключается в том, что эти генералы на работе осрамились, а вместе с тем для Абакумова нужные, вот и выжидается момент, куда их можно потом «выдвинуть». Ради личного престижа Абакумов готов идти на антигосударственные дела. Я расскажу Вам, товарищ Сталин, историю передачи московской милицией в МГБ регулировщиков уличного движения. В МВД СССР стали поступать заявления от трудящихся столицы и от приезжих граждан, что милиционеры на главных улицах Москвы грубят и не желают разговаривать с населением. При этом указывали номера постов, где эти милиционеры стоят. Когда мы занялись проверкой, то оказалось, во всех случаях это были сотрудники охраны МГБ, стоявшие в форме милиции. Мы вынуждены были написать об этом Абакумову. Вместо принятия мер Абакумов попросил меня зайти и вместе с Власиком начал оскорблять меня и тов. Круглова (министра внутренних дел. — Б. С.), заявляя при этом, что если они захотят, то заберут всех регулировщиков к себе. Действительно, через двое суток поступило распоряжение о передаче регулировщиков в МГБ. Сейчас работники МГБ сами говорят, что регулировщики им не нужны, да и практически получается нелепо. На парном посту теперь стоят по 4 человека. Вдоль улицы Горького в 100 метрах друг от друга стоят сотрудники МГБ. Зачем, спрашивается, тратить вдвойне государственные средства. А ведь это делается, товарищ Сталин, под видом усиления охраны членов Правительства. Абакумов чувствует, что рано или поздно вскроются все его дела, поэтому он сейчас и старается убрать лиц, знающих об этих и других фактах. Товарищ Сталин! Прошу Вас, поручите проверить факты, приведенные в этой записке, и все они подтвердятся. Я уверен, что в ходе проверки вскроется очень много других фактов, отрицательно влияющих на работу Министерства Государственной Безопасности. Вместе с этим я очень прошу Вас, дорогой товарищ Сталин, поручите комиссии ЦК ВКП(б) разобраться с делом, которое создал Абакумов против меня для того, чтобы свести со мной личные счеты». Насчет «трофейной лихорадки» справедливы были как обвинения Серова против Абакумова, так и обвинения Абакумова против Жукова и Серова. Бывшие подчиненные Серова по Германии, генералы МВД Бежанов и Сиднев, арестованные МГБ, показали, что захватили в подвале Рейхсбанка более 80 миллионов рейхсмарок, которые Серов и Жуков расходовали практически бесконтрольно (впоследствии связанную с этим документацию Серов уничтожил). 6 февраля 1948 года бывший начальник оперативного сектора МВД в Берлине генерал-майор Алексей Матвеевич Сиднев на допросе, в частности, показал, что «направляя трофейное имущество из Германии в Советский Союз для сдачи в фонд государства, Серов под прикрытием этого большое количество ценностей и вещей брал себе… Серов приказал мне все лучшие золотые вещи передавать ему непосредственно. Выполняя это указание, я разновременно передал в аппарат Серова в изделиях примерно 30 килограммов золота и других ценностей… Жена Серова и его секретарь Тужлов неоднократно приезжали на склад берлинского оперативного сектора, где отбирали в большом количестве ковры, гобелены, лучшее белье, серебряную посуду и столовые приборы, а также другие вещи и увозили с собой… Серов вывез из Германии много добра, и я даже не могу себе представить, где он мог его разместить». Подтвердил Алексей Матвеевич и факт близких отношений между Серовым и Жуковым: «Серов… много времени проводил в компании маршала Жукова, с которым он был тесно связан. Оба они были одинаково нечистоплотны и покрывали друг друга… Бывая в кабинете Серова, я видел у него на стене портрет Жукова с надписью на обороте: «Лучшему боевому другу и товарищу на память». Другой портрет Жукова висел в том же кабинете Серова на стене. Серов и Жуков часто бывали друг у друга, ездили на охоту и оказывали взаимные услуги. В частности, мне пришлось по поручению Серова передать на подчиненные мне авторемонтные мастерские присланные Жуковым для переделки три кинжала, принадлежавшие в прошлом каким-то немецким баронам. Несколько позже ко мне была прислана от Жукова корона, принадлежавшая по всем признакам супруге немецкого кайзера. С этой короны было снято золото для отделки стэка, который Жуков хотел преподнести своей дочери в день ее рождения». Сам Сиднев тоже порядочно поживился в Германии. На допросе он признал: «Следуя примеру Серова, я и сам рассылал своих людей… по разным районам Берлина, где они добывали для меня лучшую одежду, материалы и ценности. Много ценных вещей я так же, как и Серов, забрал со склада берлинского оперативного сектора. Пользуясь самолетами Советской военной администрации в Германии и самолетом Серова, я сам… переотправлял все это в Ленинград». Алексей Матвеевич был выходцем из СМЕРШа, занимал высокий пост заместителя начальника Управления контрразведки 1-го Украинского фронта. Если бы он не переметнулся в команду Серова, уполномоченного НКВД по Германии, то, вполне возможно, Абакумов закрыл бы глаза на мародерство подчиненного. Теперь же Виктор Семенович собрался свалить Серова, и показания Сиднева, Бежанова и других крупных любителей чужого добра были как нельзя кстати. В 1945 и в начале 1946 года, когда маршал Жуков казался самым близким к Сталину человеком, дружбы с ним искали и Серов, и Абакумов. То, что в Германии Жуков работал с Серовым рука об руку и тесно дружил, сомнений не вызывает. Об этом писал в своем заявлении в апреле 1946 года Главный маршал авиации А. А. Новиков. В августе 1945-го бывший начальник Управления СМЕРШа Группы советских войск в Германии генерал А. А. Вадис также доносил Абакумову: «О Серове идут разговоры, что Героя Советского Союза он получил незаслуженно, это сделано Жуковым для того, чтобы приблизить Серова к себе… Многие считают, что Жуков является первым кандидатом на пост наркома обороны. Жуков груб и высокомерен, выпячивает свои заслуги, на дорогах плакаты «Слава маршалу Жукову». А вот факт дружбы маршала с Абакумовым порой ставят под сомнение. Так, в 1965 году Жуков рассказывал сотруднику «Военно-исторического журнала» полковнику Н. А. Светлишину, как он будто бы выставил Абакумова из штаба Группы войск в Германии в ноябре 1945-го: «В расположение группы войск прибыл генерал Абакумов — заместитель Берия (к тому времени Виктор Семенович уже не был заместителем наркома внутренних дел. — Б. С.). Мне о цели визита не доложил, развернул бурную деятельность. Когда стало известно, что Абакумов производит аресты генералов и офицеров, я приказал немедленно вызвать его. Задал два вопроса: почему по прибытии не изволил представиться как Главнокомандующему и почему без моего ведома как Главноначальствующего арестовывает моих подчиненных? Ответы его были, на мой взгляд, невразумительны. Приказал ему: всех арестованных генералов и офицеров освободить. Самому убыть туда, откуда прибыл. В случае невыполнения приказа отправлю в Москву под конвоем. Абакумов убыл восвояси…» Тут самое время воскликнуть: «Не верю!» Никак не мог Виктор Семенович после столь унизительного приема сидеть рядом с Жуковым на открытии сессии Верховного Совета в марте 1946-го (фотография сохранилась), да еще и рассказывать ему о секретном аресте Серовым трех берлинских судей. В этом рассказе был свой расчет — поссорить Жукова и Серова. Однако эта интрига просто не успела получить развития. Сталин решил убрать Жукова, и Абакумову по должности пришлось срочно проникнуться к тому недоверием и нелюбовью. В ночь на 23 апреля 1946 года по приказанию Сталина Абакумов арестовал близкого друга Георгия Константиновича — Главного маршала авиации А. А. Новикова. Как мы помним, через несколько дней от него удалось добиться письменного заявления, обвинявшего Жукова в принижении роли Ставки в Великой Отечественной войне, критике «некоторых мероприятий Верховного Главнокомандующего и Советского правительства» и в ведении «политически вредных разговоров». В результате в июне Жуков был сослан в Одессу. В конце 1947 года Абакумов арестовал адъютанта Жукова — полковника Семочкина, который поведал, что у маршала имеется целый чемодан с трофейными бриллиантами. В начале января 1948 года Абакумов, по указанию Сталина, провел негласный обыск на московской квартире Жукова, где обнаружил немалые запасы трофейных ценностей. Однако главной задачи выполнить не удалось. Она, как докладывал Абакумов Сталину, «заключалась в том, чтобы разыскать и изъять на квартире Жукова чемодан и шкатулку с золотом, бриллиантами и другими ценностями». Но чемодан не нашли, а в обнаруженной шкатулке драгоценностей оказалось не так много, как ожидали Сталин с Абакумовым: 17 золотых часов, 15 золотых кулонов и колец, две пары золотых серег с бриллиантами и кое-что по мелочи. Чемодан же с бриллиантами, который, по словам Семочкина, все время находился у жены Жукова, Александры Диевны, в руки чекистов так и не попал. Остается гадать, существовал ли он на самом деле, или эту историю выдумал Семочкин, чтобы избежать допроса с применением «острых методов». Адъютант Жукова обвинял его также в якобы враждебных настроениях по отношению к Сталину, а также в «непартийных высказываниях» на встречах с союзниками в Германии в 1945 году. Хотя Жуков все отрицал, Сталин в феврале 1948 года подверг его новой опале — отправил командовать совсем уж глухим Уральским военным округом. Поэтому вполне естественно, что в своем письме Сталину Серов открещивался от дружбы с Жуковым как черт от ладана. Понятно также, почему Абакумов, став министром госбезопасности, так ни разу и не проверил органы военной контрразведки. Опыт СМЕРШа 7-й Отдельной армии в Карелии доказывал, что ничего радостного, способного украсить репутацию Виктора Семеновича, проверяющие не обнаружили бы. Все перечисленные в письме Серова сотрудники МГБ из числа «старых чекистских кадров» были выдвиженцами Берии. Абакумов действительно постепенно выжил их из своего министерства. Генерал-лейтенант Павел Васильевич Федотов, занимавший пост заместителя министра госбезопасности, в 1947 году стал заместителем председателя новосозданного Комитета информации. Правда, он перешел туда вместе со своим Первым Главным управлением, ведавшим разведкой. Но, я думаю, Абакумов не случайно вскоре после прихода в МГБ переместил Федотова из Второго Главного управления (контрразведка) в Первое. Вероятно, Виктор Семенович знал о предстоящей реорганизации разведорганов и поспешил избавиться от нежелательного сотрудника. Генерал-полковник Сергей Николаевич Круглов — преемник Берии на посту наркома внутренних дел — оставался на ножах с новым министром госбезопасности, и Абакумов в конце концов с одобрения Сталина добился передачи из МВД в МГБ основных подразделений, решающих оперативные вопросы. Генерал-лейтенант Павел Яковлевич Мешик, бывший начальник Экономического управления НКВД, уже в августе 1945-го перешел заместителем к Берии в Первое Главное управление Совмина и рабочего контакта с Абакумовым в дальнейшем так и не установил. Генерал-лейтенанта Соломона Рафаиловича Мильштейна Абакумов сплавил из начальников Транспортного управления МГБ в МПС начальником Казанской железной дороги. А генерал-лейтенант Арсений Нарикиевич Рапава в январе 1948 года лишился поста министра госбезопасности Грузии, возглавив куда менее престижное Министерство юстиции. Это произошло после того, как люди Абакумова раскопали сведения, что его брат Константин в плену сотрудничал с немцами. Сталин учел жалобу Серова на передачу в ведение МГБ московских регулировщиков. Иосиф Виссарионович, очевидно, рассудил, что держать в ведомстве Абакумова только их одних действительно нелепо, и решил передать туда всю милицию. В октябре 1949 года Главное управление милиции было переведено в МГБ. Еще раньше, в январе 1947 года, там оказалось и Главное управление внутренних войск. А 21 июля 1950 года в МГБ перешло Главное управление по оперативному розыску (борьба с бандитизмом). Таким образом, под началом министра госбезопасности были сосредоточены практически все органы, занимавшиеся борьбой с преступностью, как политической, так и уголовной. Возможно, Сталин готовил новую волну террора и собирался, в частности, классифицировать уголовный бандитизм как политический, с применением к уголовникам-рецидивистам смертной казни. Справедливо ли Серов обвинял Абакумова в недостаточно активной работе? С одной стороны, сажал он довольно много. С 1947 года пошли так называемые «повторники» — ранее освобожденных троцкистов, меньшевиков и прочих «контрреволюционеров» снова арестовывали и сажали в лагеря. ГУЛАГ пополнился также депортированными из Западной Украины и Прибалтики, заподозренными в связях с бандеровцами и «лесными братьями». Но Серов, когда утверждал, что некоторые райотделы МГБ за год не арестовали ни одного шпиона, имел в виду, разумеется, не эти категории «врагов народа», а настоящих шпионов, которые, по мнению Ивана Александровича, непременно должны были оказаться среди послевоенных репатриантов. Успехами на этом фронте Абакумов как будто похвастать не мог. Во всяком случае, ни одного громкого шпионского разоблачения в бытность его главой МГБ так и не последовало. А ведь достоверно известно, что немцы во время войны имели несколько ценных агентов в советском тылу, от которых поступала важная информация. О степени активности американской и английской разведки в СССР в первые послевоенные годы сведений до сих пор нет. Можно предположить, однако, что какая-то агентура была внедрена Интеллидженс сервис и ЦРУ вместе с вернувшимися из Германии и других стран Западной Европы военнопленными и перемещенными лицами, а также добровольно возвратившимися из Франции эмигрантами. Не мог Абакумов похвастать и особо впечатляющими успехами на ниве борьбы с антисоветскими партизанами в Прибалтике и на Западной Украине, что не преминул отметить Серов в письме Сталину. Несмотря на колоссальное неравенство в силах, ликвидация повстанческого движения на Западной Украине и в Литве затянулась до осени 1953 года, когда руководители Украинской повстанческой армии и Литовской освободительной армии решили прекратить открытое вооруженное сопротивление. Конфликт Серова и Абакумова в 1948 году завершился боевой ничьей. Оба остались на своих постах. Как я уже говорил, Сталин вскоре передал в МГБ основные оперативные подразделения МВД, так что Абакумов в какой-то момент даже мог считать себя победителем. Но Иосиф Виссарионович внимательно прислушался и к доносу Серова. Три с половиной года спустя Виктор Семенович жестоко поплатился за недостаточную активность в искоренении шпионов и террористов.Неудачная борьба с «сионистским заговором»
После того как в конце 1945 года доверие Сталина к Молотову основательно пошатнулось, генсек решил держать Вячеслава Михайловича на коротком поводке, приказав МГБ возбудить дело против его жены, Полины (Пери) Семеновны Жемчужиной, урожденной Кар-повской (фамилия у нее была от первого мужа, Арона Жемчужина). Она была одной из активных сотрудниц Еврейского антифашистского комитета. После установления дипломатических отношений между СССР и Израилем Жемчужина на приеме в МИДе 8 ноября 1948 года по случаю 31-й годовщины Октябрьской революции вела неосторожные разговоры с израильским послом в Москве Голдой Меир. Последняя вспоминала: «После того как я пожала руку Молотову, ко мне подошла его жена Полина. — Я так рада, что вижу вас наконец! — сказала она с неподдельной теплотой, даже с волнением. И прибавила: — Я ведь говорю на идиш, знаете? — Вы еврейка? — спросила я с некоторым удивлением. — Да! — ответила она на идиш. — Их бин а идише тохтер (я — дочь еврейского народа). Мы беседовали довольно долго. Она знала, что произошло в синагоге (где приветствовать Голду Меир на праздновании еврейского Нового года собралась пятидесятитысячная толпа. — Б. С.), и сказала, как хорошо было, что мы туда пошли: «Евреи так хотели вас увидеть», — сказала она. Потом мы коснулись вопроса о Негеве, обсуждавшегося тогда в Объединенных Нациях. Я заметила, что не могу отдать его, потому что там живет моя дочь, и добавила, что Сарра находится со мной в Москве. «Я должна с ней познакомиться», — сказала госпожа Молотова. Тогда я представила ей Сарру и Яэль Намир; она стала говорить с ними об Израиле и задала Сарре множество вопросов о кибуцах — кто там живет, как они управляются. Она говорила с ними на идиш и пришла в восторг, когда Сарра ответила ей на том же языке. Когда Сарра объяснила, что в Ревивим все общее и что частной собственности нет, госпожа Молотова заметно смутилась. «Это неправильно, — сказала она. — Люди не любят делиться всем. Даже Сталин против этого». Прежде чем вернуться к другим гостям, она обняла Сарру и сказала со слезами на глазах: «Всего вам хорошего. Если у вас все будет хорошо, все будет хорошо у всех евреев в мире». Больше я никогда не видела госпожу Молотову и ничего о ней не слышала. Много позже Герни Шапиро, старый корреспондент Юнайтед Пресс в Москве, рассказал мне, что после разговора с нами Полина Молотова была арестована…». Несомненно, у той беседы Жемчужиной с Голдой Меир были очень внимательные слушатели, которые довели ее содержание до сталинских и абакумовских ушей. Иосиф Виссарионович наконец-то получил весомые доказательства для обвинения жены Молотова в «еврейском национализме». 28 января 1949 года, вскоре после того как в рамках продолжавшейся борьбы с «космополитами» в Москве закрыли еврейский театр, газету и издательство, Жемчужину арестовали — за «утрату секретных документов». Вместе с женой Молотова взяли ее технического секретаря Мельник-Соколинскую и еще нескольких сотрудников главка текстильно-галантерейной промышленности Минлегпрома, которым руководила Полина Семеновна. На этот раз Сталин придумал оригинальный ход. Двух подчиненных Жемчужиной путем побоев и помещения в карцер-холодильник (что это такое, я расскажу ниже) вынудили признаться в том, что они были ее любовниками. Под диктовку следователей несчастные подробно описали все детали интимных встреч, вплоть до излюбленных поз. На очной ставке с Жемчужиной оба сломленных пытками мужчины покорно зачитали свои показания. Полина Семеновна, которой уже перевалило за пятьдесят, от стыда и потрясения разрыдалась. Протоколы с пикантными показаниями о жене Молотова явно предназначались для зачтения на Политбюро перед снятием давнего сталинского соратника. После такого унижения Вячеслав Михайлович, естественно, уже не смог бы оставаться среди вождей. А дальше все пошло бы по накатанной дорожке: арест — признание — суд — расстрел. Но Сталин по каким-то причинам не стал выводить Молотова в расход и ограничился тем, что в марте 1949-го снял его с поста министра иностранных дел и из первых заместителей перевел в просто заместители председателя Совмина. Жемчужину же судить не стали, а решением Особого совещания при МГБ отправили в пятилетнюю ссылку в Кустанайскую область. В январе 1953 года, уже после падения Абакумова, ее вновь арестовали и привезли в Москву. Сталин решил, что настало наконец время перевести Молотова в разряд «врагов народа». Очевидно, Полину Семеновну готовили к большому процессу над главными обвиняемыми — ее мужем и Абакумовым. Но смерть диктатора его предотвратила. Жемчужина была немедленно освобождена и реабилитирована, Молотов занял место в новой правящей четверке, а Абакумов остался дожидаться суда и неминуемого расстрела в камере № 77 Бутырской тюрьмы. Преследования жены Молотова начались после того, как Сталин решил разогнать Еврейский антифашистскийкомитет (ЕАК). Ранее, в 1947 году, Советский Союз поддерживал создание государства Израиль в Палестине, рассчитывая на то, что удастся оказывать преобладающее политическое влияние на местную элиту, среди которой были популярны социалистические взгляды. Однако вскоре стало ясно, что новое государство ориентируется на США, а не на СССР — деятельность ЕАК, с точки зрения Сталина, утратила смысл. Членам комитета инкриминировали предложение, сделанное еще в феврале 1944 года, о создании в Крыму Еврейской социалистической республики как некой альтернативы палестинскому Израилю. Тогда советское правительство в идее «Калифорния в Крыму» видело средство привлечения еврейских капиталов для восстановления советской экономики. С началом же «холодной войны» Сталин усмотрел в сионистском движении канал влияния буржуазной идеологии и распорядился свернуть деятельность еврейских организаций в СССР. По его приказу еще 13 января 1948 года Абакумов организовал убийство председателя ЕАК великого режиссера и актера Соломона Михоэлса, причем непосредственным исполнителем преступления был заместитель Абакумова генерал-лейтенант С. И. Огольцов. А 20 ноября 1948 года Политбюро одобрило постановление Бюро Совмина, которым Министерству госбезопасности поручалось немедленно распустить ЕАК, поскольку, «как показывают факты, этот комитет является центром антисоветской пропаганды и регулярно поставляет антисоветскую информацию органам иностранной разведки». Членов комитета предписывалось пока не арестовывать. Аресты начались в январе 1949-го, когда взяли бывшего начальника Совинформбюро С. А. Лозовского, поэта Исаака Фефера, писателя Переца Маркиша и других членов ЕАК. Дело о «сионистском заговоре» начинал Абакумов, которому удалось выбить из арестованных признательные показания. Однако еще до суда над членами ЕАК Виктора Семеновича арестовали. Дело заканчивал новый министр госбезопасности С. Д. Игнатьев. Последний 24 августа 1951 года жаловался Маленкову и Берии: «Почти совершенно отсутствуют документы, подтверждающие показания арестованных о проводившейся ими шпионской и националистической деятельности под прикрытием ЕАК». С точки зрения Сталина, Абакумов гораздо хуже, чем покойный Ежов, умел воплощать в жизнь сценарии больших политических процессов. Не хватало фантазии и образования. В результате процесс ЕАК пришлось делать закрытым. Он продолжался необычно долго — с 8 мая по 18 июля 1952 года. Даже всегда послушная Военная коллегия усомнилась в виновности подсудимых. Ее председатель А. А. Чепцов предложил вернуть дело на доследование, но его заверили наверху, что в Политбюро вопрос решен, и продиктовали приговор: 13 человек — к высшей мере наказания. Только одна из членов ЕАК — академик Л. С. Штерн — отделалась тремя с половиной годами тюрьмы и пятью годами ссылки. Серьезным испытанием для Абакумова стало «ленинградское дело». Возможно, поведение министра госбезопасности в этот период вызвало в конечном счете его падение в июле 1951 года. Предыстория «ленинградского дела» такова. В 1946 году, после дела о браке в авиапромышленности, Маленков, Берия и другие деятели прежней четверки были временно оттеснены на второй план. Новым фаворитом Сталина оказался Жданов, ставший его фактическим заместителем по партии и главным идеологом. Выдвижению Андрея Александровича способствовал брак его сына Юрия с дочерью Сталина — Светланой. Вместе со Ждановым на первый план выдвинулись члены «ленинградской команды». Алексей Александрович Кузнецов, бывший первый секретарь Ленинградского обкома и горкома партии, в марте 1946 года был произведен в секретари ЦК и назначен курировать МГБ и МВД. Он также сменил Маленкова в качестве начальника Управления отдела кадров Центрального Комитета. Близкий к «ленинградской группе» и, в частности, к Кузнецову, Михаил Иванович Родионов, бывший секретарь Горьковского обкома, в 1946 году возглавил Совет Министров РСФСР. Николай Алексеевич Вознесенский, чья карьера в 1935–1937 годах была связана с Ленинградом и который, благодаря протекции Жданова, в свое время с поста председателя ленинградского комитета по планированию прыгнул в заместители председателя, а потом и в председатели союзного Госплана, в 1947 году был переведен из кандидатов в члены Политбюро. При этом функции Госплана значительно расширились. Однако Сталин вскоре разочаровался в новых выдвиженцах. Жданов много пил и в последние два года жизни был практически недееспособен. После его смерти в августе 1948 года на почве алкоголизма Сталин расправился со ждановцами в руководстве. Первым поводом для недовольства стареющего вождя послужила прошедшая в январе 1949 года в Ленинграде Всероссийская оптовая торговая ярмарка, на которой собирались распродать излишки промышленных товаров. Она была организована по инициативе Родионова, Кузнецова и Вознесенского без санкции центральных партийных органов. Бюро Совмина разрешило проведение лишь межобластных оптовых ярмарок, а Родионов и ленинградские руководители сделали ярмарку всероссийской и лишь после начала ее работы известили об этом Маленкова. Политбюро осудило проведение ярмарки. Сталин решил, что пора ликвидировать «ленинградскую группу». В феврале 1949 года последовал новый сигнал: в ЦК поступила анонимка о фальсификациях при выборах Ленинградского обкома партии. На ленинградской партконференции руководители обкома П. С. Попков, Г. Ф. Бадаев, Я. Ф. Капустин и П. Г. Лазутин получили по нескольку голосов «против», но было объявлено, что они прошли единогласно. 15 февраля 1949 года Политбюро приняло постановление об антипартийных действиях Ленинградской парторганизации. Срочно прибывший в Ленинград Маленков снял всю местную партийную верхушку. На объединенном заседании бюро Ленинградских горкома и обкома партии Георгий Максимилианович обвинил Попкова и его товарищей в антипартийной групповщине и противопоставлении Ленинградской парторганизации Центральному Комитету, а также в попытке создать Компартию России и тем самым расколоть ВКП(б). Одновременно попали в опалу и покровители ленинградского руководства. В январе 1949 года Кузнецов, а в марте Родионов и Вознесенский лишились своих постов. Арестовали их лишь спустя несколько месяцев: Капустина в июле, а Кузнецова, Родионова и Попкова 13 августа — в кабинете Маленкова. Вознесенский же оставался на свободе до 27 октября. Его аресту предшествовало постановление Пленума ЦК от 12 сентября 1949 года об исключении Вознесенского из членов ЦК и необходимости привлечения его к судебной ответственности за утрату служебных документов в бытность его главой Госплана. Всего по «ленинградскому делу» было снято с работы более полутора тысяч представителей ленинградской номенклатуры, из которых несколько сот человек осудили, а несколько десятков — расстреляли. Министерство госбезопасности начало собирать компромат на «ленинградцев» только тогда, когда они были низвергнуты с политического Олимпа. Сам Абакумов был в хороших, дружественных отношениях с Кузнецовым. После ареста Виктору Семеновичу это вменили в вину. За министром следили, и агентура докладывала вождю, что Виктор Семенович и Алексей Александрович дружили семьями. И Сталин решил испытать министра, поручив ему разработать обвинения против «ленинградцев», инкриминировать старому другу расстрельную статью. Но Абакумов все же попытался помочь Кузнецову, стремясь отвести от него наиболее опасное обвинение в шпионаже. Надопросе бывший следователь Комаров показал: «Когда я доложил Абакумову план расследования дела Кузнецова и заговорил про шпионаж, тот, расхаживая по кабинету, принялся рассуждать вслух: «Собственно, какой у этих арестованных шпионаж? Они давно на виду, постоянно находились под охраной МГБ, каждый их шаг был известен… Начни мы ставить вопросы об их связи с заграницей, в ЦК будут смеяться…» Абакумов часто говорил мне: «Мы солдаты, что прикажут, то и должны делать». Оттого я и не стал допрашивать Кузнецова про шпионаж — кто же осмелится пойти наперекор министру?» Тем не менее Абакумов, видимо, опасался, что МГБ могут обвинить в «попустительстве шпионам», после чего его самого легко посадят на одну скамью подсудимых с Кузнецовым. Первого арестованного по «ленинградскому делу», Капустина, также обвинили в шпионаже. Было хорошо известно, что Я. Ф. Капустин, находившийся в 1935–1936 годах на стажировке в Англии, где изучал паровые турбины, вступил в интимную связь с англичанкой-переводчицей. Однажды ее муж, внезапно вернувшийся домой, застал жену и Якова Федоровича в костюмах Адама и Евы. Разразился скандал, который стал предметом разбирательства партийной организацией советского торгпредства в Лондоне. Абакумов счел, что этот факт дает основание подозревать бывшего второго секретаря ленинградского горкома в связях с английской разведкой, и обвинил начальника Ленинградского управления МГБ генерал-лейтенанта П. Н. Курбаткина в попытке замять это дело. В 1936 году Виктор Семенович не возглавлял органы госбезопасности и за любовные похождения инженера-стажера в туманном Альбионе никакой ответственности не нес. Поэтому объявить Капустина английским шпионом Абакумов мог без всякой видимой угрозы для себя. Однако поскольку в отношении Кузнецова и других фигурантов дела министр госбезопасности тему шпионажа развивать не стал, на процессе вопрос о связях подсудимых с иностранными разведками, к огорчению Сталина, не поднимался. Это выпадало из классического сценария постановок такого рода, и вождь очень обиделся на Абакумова. После расстрела «ленинградцев» Виктор Семенович оставался на свободе всего девять месяцев. Кстати, в 1947 году казнь за общеуголовные преступления была отменена и к смерти на политических процессах приговаривали только тех, кого обвиняли в сотрудничестве с немцами. Можно было и дальше играть в милосердие. Тем более что в обвинительном заключении не говорилось ни о терроре, ни о шпионаже, которые безусловно гарантировали высшую меру наказания. Но поскольку на этот раз речь, в отличие от «дела авиаторов», шла не о генералах и технократах-наркомах, вроде Ша-хурина, а о деятелях высшего эшелона — членах Политбюро и Оргбюро, — Иосиф Виссарионович решил не оставлять лидеров «ленинградской группы» в живых. В чем же их обвиняли? Обвинительное заключение, составленное на основании показаний, добытых людьми Абакумова, и отредактированное Сталиным, в частности, гласило: «Кузнецов, Попков, Вознесенский, Капустин, Лазутин, Родионов, Турко, Закржевская, Михеев признаны виновными в том, что, объединившись в 1938 году в антисоветскую группу, проводили подрывную деятельность в партии, направленную на отрыв Ленинградской партийной организации от ЦК ВКП(б) с целью превратить ее в опору для борьбы с партией и ее ЦК… Для этого пытались возбуждать недовольство среди коммунистов Ленинградской организации мероприятиями ЦК ВКП(б), распространяя клеветнические утверждения, высказывали изменнические замыслы… А также разбазаривали государственные средства (на организацию злосчастной Ленинградской ярмарки. — Б. С.)». Насчет Кузнецова Сталин собственноручно вписал в текст обвинительного заключения фразу, что он, «обманным путем пробравшись в ЦК ВКП(б)… повсюду насаждал своих людей — от Белоруссии до Дальнего Востока и от Севера до Крыма». Родионов предлагал создать не только Компартию Российской Федерации, но и учредить собственный российский гимн и флаг — традиционный триколор, но с серпом и молотом. Этого хватило, чтобы приписать подсудимым «русский национализм», намерение перенести столицу из Москвы в Ленинград и чуть ли не отделить Российскую Федерацию от СССР. Думаю, в этом как раз и заключалась истинная причина постигшей «ленинградцев» опалы. Разумеется, никакого заговора они не устраивали. Однако намерения придать Российской Федерации большую самостоятельность в рамках СССР, поднять роль Ленинграда и Ленинградской области, передав «северной столице» некоторые функции центральной власти, а в будущем сделав даже столицей РСФСР, были налицо. В проведении Ленинградской оптовой ярмарки Сталин усмотрел проявление центробежных тенденций. А этого стареющий диктатор больше всего боялся. Он видел угрозу существованию государства в том, что русский патриотизм будет противопоставляться советскому. Для Иосифа Виссарионовича даже в пору беспощадной борьбы с «безродным космополитизмом» эти понятия совпадали. Просто понятие «советский» следовало очистить от «инородческих влияний» и «низкопоклонства перед Западом». Украинскому, узбекскому или литовскому патриотизму в сталинском СССР не было места. Пример же выделения РСФСР в такую же республику, как Украина или Узбекистан, грозил превращением СССР из фактически унитарного государства в настоящую федерацию и ростом центробежных тенденций по всему Союзу. Распад же СССР неминуемо вел и к концу коммунистической власти. И ведь действительно, в 1991 году распад Советского Союза стал концом правления Коммунистической партии. Опыт предшественников, главных фигурантов московских процессов 1936–1938 годов, однозначно свидетельствовал, что признания в заговорах и шпионаже — верный путь в могилу. К тому же «Ленинградцы» по складу своему были прагматиками-технократами — и убедить их во имя высших интересов партии взять на себя ответственность за несовершенные преступления было невозможно. Страх смерти понуждал подследственных отрицать выдвинутые против них чудовищные обвинения. Преодолеть его можно было только пытками. Вознесенский, Кузнецов и их товарищи на следствии и на суде признали свою вину. Как выбивались эти признания, рассказал 29 января 1954 года следователям, пересматривавшим «ленинградское дело», один из немногих уцелевших, бывший второй секретарь Ленинградского обкома Иосиф Михайлович Турко, получивший 15 лет лагерей: «Я никаких преступлений не совершал и виновным себя не считал и не считаю. Показания я дал в результате систематических избиений, так как я отрицал свою вину. Следователь Путинцев начал меня систематически избивать на допросах. Он бил меня по голове, по лицу, бил ногами. Однажды он меня так избил, что пошла кровь из уха. После таких избиений следователь направлял меня в карцер, угрожал уничтожить меня и мою жену и детей, а меня осудить на 20 лет лагерей, если я не признаюсь… В результате я подписал все, что предлагал следователь…» Как уже говорилось, в целом поведением Абакумова во время «ленинградского дела» Сталин остался неудовлетворен. Виктор Семенович не проявил инициативы, все время оглядывался на партийное руководство и явно смазал обвинения в шпионаже. Приходилось его подгонять, из-за чего непосредственное участие в следствии пришлось принимать Маленкову. После того как Георгий Максимилианович — член «антипартийной группы» — лишился всех своих высоких постов, вмиг прозревший Комитет партийного контроля констатировал: «С целью получения вымышленных показаний о существовании в Ленинграде антипартийной группы Маленков лично руководил ходом следствия и принимал в допросах непосредственное участие. Ко всем арестованным применялись незаконные методы следствия, мучительные пытки, побои и истязания». По некоторым данным, в сейфе Маленкова хранились черновые материалы, представлявшие собой предварительную схему развития «ленинградского дела». Однако в 1957 году, навсегда покидая ЦК, Георгий Максимилианович эти бумаги предусмотрительно уничтожил. Хрущев решил Маленкова, в отличие от Абакумова, за фабрикацию обвинений против Кузнецова, Вознесенского и других «ленинградцев» к суду не привлекать, ограничившись исключением из партии.Донос и арест
Абакумов любил футбол, фокстрот и шашлыки, которые ему доставляли на службу прямо из ресторана «Арагви». Любил женщин. Длинный список его любовниц был составлен следователями МГБ после ареста Абакумова в июле 1951 года. Через них пытались выйти на мифические «еврейские связи» Виктора Семеновича. Донос на Абакумова принес старший следователь Следственной части по особо важным делам подполковник госбезопасности Михаил Дмитриевич Рюмин. Писал он его в кабинете заведующего отделом партийных, профсоюзных и комсомольских органов Семена Денисовича Игнатьева, человека, близкого к Маленкову (по другим данным — в кабинете помощника Маленкова Дмитрия Николаевича Суханова). Но вряд ли тот или другой действовал самостоятельно. Руководитель органов государственной безопасности не мог быть смещен со своего поста иначе чем по воле Сталина. Рюмин утверждал, что по вине Абакумова не расследуются «террористические замыслы» вражеской агентуры. При этом грубо нарушается постановление ЦК от 17 ноября 1938 года, требующее в обязательном порядке протоколировать все допросы свидетелей и подследственных. Следователи делали лишь черновые заметки по ходу беседы с арестованными, а потом уже составляли обобщающие протоколы, что, естественно, облегчало фальсификацию дел. Поэтому люди Абакумова и не в состоянии, мол, разоблачить многочисленные происки «империалистических» разведок. Еще Рюмин писал, что министр госбезопасности присвоил немало трофейного имущества и проявил нескромность в быту. В этих пунктах Михаил Дмитриевич ничуть не отклонился от истины. При разводе с первой женой, Т. Смирновой, Абакумов щедро оставил ей пятикомнатную квартиру в Телеграфном переулке. С новой женой, Антониной Николаевной, своей бывшей секретаршей, Виктор Семенович поселился в квартире общей площадью свыше 300 квадратных метров в Колпачном переулке. На одно только расселение проживавших там ранее 16 семей, насчитывавших 48 человек, потратили более 800 тысяч рублей. При обыске на квартире и даче Абакумова нашли 1260 метров различных тканей, 16 мужских и 7 женских наручных часов, в том числе 8 золотых (у Ягоды, как мы помним, золотых часов нашли только пять штук), много столового серебра, 65 пар запонок, чемодан мужских подтяжек, 100 пар обуви и много разного другого имущества — полная опись изъятых вещей до сих пор не опубликована. После смерти Сталина и возвращения в МВД Берии Рюмин сам был арестован. На допросе он изложил начальнику Следственной части генерал-лейтенанту Влодзимирскому обстоятельства, при которых появился донос на Абакумова: «К лету 1951 года я очутился в довольно неприятном, шатком положении. Помимо объявленного мне по партийной линии взыскания за допущенную мною халатность (Михаил Дмитриевич забыл в служебном автобусе папку со следственными делами; очевидно, в связи с этим делом Рюмин и попал в поле зрения отдела партийных, профсоюзных и комсомольских органов как подходящая кандидатура на роль главного героя затеваемой интриги против Абакумова. — Б. С.), в конце мая месяца Управление кадров МГБ заинтересовалось неправильными сведениями, которые я давал о своих близких родственниках. От меня потребовали объяснения — почему я скрываю компрометирующие данные о них? 31 мая я написал рапорт, однако и в нем скрыл, что мой отец торговал скотом, что мой брат и сестра осуждены за уголовные преступления, а мой тесть Паркачев в годы Гражданской войны служил интендантским офицером в армии Колчака. Обдумывая сложившееся положение, я пришел к выводу, что мне удобно… выступить в роли разоблачителя Абакумова. Так я и поступил, обвинив Абакумова не в известных мне фактах фальсификации следствия, а в смазывании дел и, прежде всего, в злонамеренном сокрытии показаний по террору…» О роли Маленкова Михаил Дмитриевич благоразумно умолчал, признав только, что писал донос в кабинете Игнатьева. В июле 1951 года Абакумова сняли с поста главы МГБ за недостаточную активность в разработке «дела врачей», за то, что проглядел развитие «еврейского заговора». 12 июля Виктор Семенович был арестован. Деятельность МГБ проверяла комиссия ЦК в составе Маленкова, Берии, Шкирятова и Игнатьева. Рюмина произвели в полковники, назначили начальником Следственной части по особо важным делам, а затем и заместителем министра госбезопасности. На одном из первых допросов, которые вел первый заместитель Генерального прокурора СССР К. Моки-чев, Абакумов заявил: «У меня были ошибки, недостатки и неудачи в работе. Это все, в чем я виноват… Утверждаю, что никаких преступлений против партии и Советского правительства я не совершал. Я был весь на глазах у ЦК ВКП(б). Там повседневно знали, что делается в ЧК…» Бывшему министру МГБ инкриминировали, в частности, недостаточное внимание к «террористическим замыслам» Якова Гиляровича Этингера, одного из плеяды «врачей-вредителей», умершего в тюрьме во время следствия. В закрытом письме ЦК «О неблагополучном положении в Министерстве государственной безопасности СССР» на основе выводов комиссии подследственный характеризовался как матерый враг советской власти и был поставлен в один ряд с фигурантами процесса «правотроцкистского блока»: «В ноябре 1950 года был арестован еврейский националист… врач Этингер. При допросе старшим следователем МГБ т. Рюминым арестованный Этингер, без какого-либо нажима (избиение резиновыми дубинками серьезным средством давления, разумеется, не считали. — Б. С.), признал, что при лечении т. Щербакова А. С. имел террористические намерения в отношении его и практически принял все меры к тому, чтобы сократить его жизнь. ЦК ВКП(б) считает это признание Этингера заслуживающим серьезного внимания. Среди врачей несомненно существует законспирированная группа лиц, стремящихся при лечении сократить жизнь руководителей партии и правительства (стареющий Сталин все чаще задумывался о смерти и подозревал, что кто-то из докторов может искусственно укоротить его век. — Б. С.). Нельзя забывать преступления таких известных врачей, совершенные в недавнем прошлом, как преступления врача Плетнева и врача Левина, которые по заданию иностранной разведки отравили В. В. Куйбышева и Максима Горького (Вячеслав Менжинский и Максим Пешков в перечне выпали из-за малозначительности этих фигур с точки зрения начала 50-х. — Б. С.)… Однако министр государственной безопасности Абакумов, получив показания Этингера о его террористической деятельности… признал показания Этингера надуманными и прекратил дальнейшее следствие по этому делу… Таким образом, погасив дело Этингера, Абакумов помешал ЦК выявить безусловно существующую законспирированную группу врачей, выполняющих задания иностранных агентов по террористической деятельности против руководителей партии и правительства…» На следствии Мокичев допытывался: «Почему вы долго не арестовывали Этингера, а после ареста запретили допрашивать его о терроре, сказав Рюмину, что Этингер «заведет в дебри»?» Абакумов в ответ резал правду-матку: «Руководство 2-го управления (занимавшегося контрразведкой. — Б. С.) доложило мне, что Этингер является враждебно настроенным. Я поручил подготовить записку в ЦК. В записке были изложены данные, которые убедительно доказывали, что Этингер — большая сволочь (о том, что Яков Гилярович, являвшийся также личным врачом Берии, не питает ни малейших симпатий к «отцу народов», свидетельствовали его разговоры с сыном, записанные МГБ на магнитофон с помощью подслушивающих устройств. — Б. С.). Это было в первой половине 1950 года, месяца не помню. Но санкции на арест мы не получили… А после того как сверху спустили санкцию, я попросил доставить Этингера ко мне, так как знал, что он активный еврейский националист, резко антисоветски настроенный человек. «Говорите правду, не кривите душой», — предложил я Этингеру. На поставленные мною вопросы он сразу же ответил, что его арестовали напрасно, что евреев у нас притесняют. Когда я стал нажимать на него, Этингер сказал, что он честный человек, лечил ответственных людей. Назвал фамилию Селивановского, моего заместителя, а затем Щербакова. Тогда я заявил, что ему придется рассказать, как он залечил Щербакова. Тут он стал обстоятельно доказывать, что Щербаков был очень больным, обреченным человеком…» Насчет болезни Щербакова доктор был совершенно прав. Александра Сергеевича преждевременно свел в могилу тяжелый алкоголизм. На 44-м году жизни он умер у себя на даче во время очередного запоя. Думаю, не случайно алкоголизм так сильно проявлялся у соратников Сталина. К этому располагала атмосфера в Политбюро: все гадали, кто следующий окажется на плахе. Абакумов продолжал: «В процессе допроса я понял, что ничего, совершенно ничего, связанного с террором, здесь нет. А дальше мне докладывали, что чего-то нового, заслуживающего внимания, Этингер не дает». «Вам известно, что Этингер был переведен в Лефортовскую тюрьму с созданием необычного для него режима?» — поинтересовался первый заместитель генерального прокурора, которого трудно было заподозрить в человеколюбии. По сути, он обвинял Абакумова в том, что тот устранил важного свидетеля, который не вынес тяжелейших условий содержания в карцере и умер от сердечного приступа. Абакумов оправдывался: «Это неправильно. И Внутренняя, и Лефортовская тюрьма одинаковы, никакой разницы нет (Виктор Семенович сделал вид, что забыл разницу: на Лубянке подследственных били редко, а вот в Лефортове творили что хотели. — Б. С.). «Вы давали указание о том, чтобы содержать Этингера в особых, опасных для его жизни условиях?» «В каких — особых?» — прикинулся незнайкой Абакумов. «В более жестких, чем всех остальных, — пояснил следователь-прокуратор. — Ведь Этингера поместили в сырую и холодную камеру». «Ничего особенного здесь нет, потому что он — враг», — демонстрируя непримиримость к «большой сволочи» Этингеру, отрубил Виктор Семенович. И напомнил прокурору, как оказалось, на свою голову: «Мы можем и бить арестованных — в ЦК ВКП(б) меня и моего первого заместителя Огольцова неоднократно предупреждали о том, чтобы наш чекистский аппарат не боялся применять меры физического воздействия к шпионам и другим государственным преступникам, когда это нужно… Арестованный есть арестованный, а тюрьма есть тюрьма. Холодных и теплых камер там нет. Говорилось о каменном полу — так, насколько мне известно, пол везде каменный… Я говорил следователю, что нужно добиваться от арестованных правды, и мог сказать, чтобы тот не заводил нас в дебри…» Так Абакумов пытался объяснить неосторожно сорвавшуюся с языка фразу про дебри, которую «доброжелатель» Рюмин интерпретировал как нежелание разоблачать «еврейский заговор». А насчет того, что в тюрьме нет холодных и теплых камер, Абакумов врал. Сам ведь изобрел камеры-холодильники, все прелести которых ему очень скоро пришлось испытать на собственной шкуре. Бывший министр госбезопасности также отверг обвинения в попустительстве «террористическим намерениям» хирурга академика Сергея Сергеевича Юдина, будто бы примыкавшего к контрреволюционному заговору, которым руководил Главный маршал артиллерии Воронов. Последний якобы собирался передать власть в стране маршалу Жукову. Замечу, что оба маршала так и не были арестованы. Не признал Виктор Семенович за террористов и членов подпольной группы «СДР», состоявшей из старшеклассников и студентов-первокурсников. У многих из них родители были репрессированы, поэтому ребята не слишком жаловали партийное руководство и «великого кормчего». Члены «СДР» считали себя настоящими «марксистами-ленинцами» и мечтали о возвращении к «ленинским нормам». Абакумов, однако, полагал, что они всего лишь болтуны, и их разговоры, вроде того что неплохо было бы убить Маленкова за антисемитские высказывания, не воспринимал всерьез. Вообще надо признать, что на посту министра госбезопасности Виктор Семенович находился в сложном положении — словно на минном поле. Если недостаточно усердствовать в репрессиях, как Ягода, обвинят в том, что опоздал на несколько лет с разоблачением очередного заговора, и расстреляют. Если же, как Ежов, отдаться всей душой делу истребления «врагов народа», то все равно расстреляют, чтобы было на кого свалить ответственность за «перегибы». Абакумов черной завистью завидовал Берии, который еще в войну успел перескочить на руководство военно-промышленным комплексом, а потом возглавил атомный проект и вовсе отказался от «плохой должности» руководителя карательных органов. Виктор Семенович еще не знал, что на целый год переживет Лаврентия Павловича. Абакумов понимал, что единственное спасение может прийти от Сталина. Вскоре после ареста, в конце июля, он написал покаянное письмо вождю, где отвергал утверждение Рюмина, что «я якобы намекнул Этингеру, чтобы он отказался от показаний по террору. Этого не было и быть не могло. Это неправда. При наличии каких-либо конкретных фактов, которые дали бы возможность зацепиться, мы бы с Этингера шкуру содрали, но этого дела не упустили бы… Должен прямо сказать Вам, товарищ Сталин, что я сам не являюсь таким человеком, у которого не было бы недостатков. Недостатки имеются и лично у меня, и в моей работе… В то же время с открытой душой заверяю Вас, товарищ Сталин, что отдаю все силы, чтобы послушно и четко проводить в жизнь те задачи, которые Вы ставите перед органами ЧК. Я живу и работаю, руководствуясь Вашими мыслями и указаниями, товарищ Сталин, стараюсь твердо и настойчиво решать вопросы, которые ставятся передо мной». Виктор Семенович по-своему переиначил известное стихотворение Маяковского «Разговор с товарищем Лениным»: «Товарищ Ленин, я вам докладываю, не по службе, а по душе. Товарищ Ленин, работа адовая будет сделана и делается уже… Вашим, товарищ, сердцем и именем думаем, дышим, боремся и живем!..» Но скрытая цитата из «лучшего, талантливейшего поэта нашей советской эпохи» Сталина ничуть не растрогала. Виктор Семенович продолжал: «Я дорожу тем большим доверием, которое Вы мне оказывали и оказываете за все время моей работы как в период Отечественной войны — в органах Особых отделов и СМЕРШ, так и теперь — в МГБ СССР (Абакумов делал вид, что ничего не случилось и его арест лишь досадное недоразумение, которое вот-вот должно благополучно разрешиться. — Б. С.) Я понимаю, какое большое дело Вы, товарищ Сталин, мне доверили, и горжусь этим, работаю честно и отдаю всего себя, как подобает большевику, чтобы оправдать Ваше доверие. Заверяю Вас, товарищ Сталин, что, какое бы задание Вы мне ни дали, я всегда готов выполнить его в любых условиях. У меня не может быть другой жизни, как бороться за дело товарища Сталина». Узник Матросской Тишины надеялся, что Сталин вызовет его к себе и в разговоре удастся убедить Иосифа Виссарионовича, что ему, Абакумову, можно доверять, что его не надо расстреливать, а, подержав для острастки какое-то время в тюрьме, вновь призвать на службу. Но Сталин Абакумова не вызвал, ограничившись тем, что затребовал к себе протоколы допросов. Судьба «не оправдавшего доверия министра» тем самым была окончательно решена. Но начавшаяся вскоре кадровая чехарда в МГБ, а потом и новые политические потрясения, связанные со смертью Сталина и падением Берии, оттянули развязку на три с половиной года… Абакумов пытался объяснить Мокичеву, почему сроки следствия в МГБ «недопустимо затягивались»: «Есть такие дела, групповые и одиночные, которые затягивались. Делалось это по специальному указанию ЦК ВКП(б) или же диктовалось оперативными соображениями. Приведу примеры… Имеется дело генерала Телегина и других — 8 человек. Дело это весьма важное, и его впредь тоже следует держать и не заканчивать. Оно связано с маршалом Жуковым, который является очень опасным человеком…» Не ведал Виктор Семенович, что и в его случае «специальные соображения» затянут следствие на несколько лет. А от бывшего друга Жукова, зная, что он в немилости у Сталина, отрекся легко, прекрасно понимая, кто будет самым внимательным читателем протокола допроса. И заодно объяснил, почему в бытность его главой МГБ протоколы писались задним числом: «В Следственной части по особо важным делам есть хорошие следователи, но такие, которые не умеют писать. И есть, напротив, грамотные следователи, которые не умеют допрашивать. Отсюда и «обобщенные» протоколы». В переводе на общечеловеческий язык это значило примерно следующее. Один следователь, «молотобоец», превращая подследственного в хорошую отбивную, добивается признательных показаний. Другой, «писатель» (некоторые, вроде Льва Шейнина, по совместительству были профессиональными литераторами), пишет протокол, где эти показания выстраиваются в стройную схему очередного заговора. Абакумова решили сделать главой «сионистского заговора». Но он ни в чем не сознавался. 22 февраля 1952 года дело было передано из прокуратуры в МГБ, а курировать следствие стал все тот же Рюмин. Теперь подследственных, а кроме Абакумова были арестованы начальник Следственной части Леонов, следователи Комаров, Шварцман, Лихачев, работники секретариата МГБ Броверман и Чернов, перевели в Лефортово, где их уже начали допрашивать с применением всех мер физического воздействия — вплоть до кандалов и резиновых дубинок. Арестовали также бывших заместителей Абакумова Питовранова и Селивановского, ряд ответственных сотрудников центрального аппарата МГБ — Шубнякова, Райхмана, Белкина, Эйтингона и др., кремлевских врачей — Виноградова, Вовси, Егорова, Майорова и др. По свидетельству сотрудника Следственной части полковника Федотова, подавшего специальный рапорт Берии 24 марта 1953 года, «бывший министр госбезопасности тов. Игнатьев сообщил нам на совещании, что ход следствия по делам, находившимся в нашем производстве, оценивается правительством как явно неудовлетворительный, и сказал, что нужно «снять белые перчатки» и «с соблюдением осторожности» прибегнуть к избиениям арестованных… Тов. Игнатьев дал понять, что по этому поводу имеются указания свыше. Вскоре во Внутренней тюрьме было оборудовано отдельное помещение для избиения, а для осуществления пыток выделили группу работников тюрьмы…». Бывший начальник Внутренней тюрьмы МГБ Миронов на допросе 4 декабря 1953 года показал, что избивали Абакумова и его товарищей не только на Лубянке, но и в Лефортове: «Меня вызвал заместитель министра полковник Рюмин и предложил подобрать двух надежных и физически сильных сотрудников… для выполнения важных оперативных заданий. На другой день я вместе с отобранными сотрудниками Кунишниковым и Беловым зашел к Рюмину, который разъяснил, что важное оперативное задание состоит в том, что мы по указанию его, Рюмина, будем применять меры физического воздействия к арестованным. За это он пообещал в будущем предоставлять нам путевки в дом отдыха, денежное пособие и присвоить внеочередные воинские звания. В нашем присутствии Рюмин вызвал одного из сотрудников Следчасти по особо важным делам и предложил собрать и передать нам резиновые палки, что и было выполнено… В Лефортовской тюрьме мы разместились в кабинете № 29 и по указанию Рюмина подвергли избиению арестованных Абакумова, Бровермана, Шварцмана, Белкина и других…» С резиновыми дубинками следствие пошло веселее. «Врачи-вредители» признались, что злодейски залечили до смерти Щербакова и Жданова, а чекисты согласились с тем, что собирались совершить государственный переворот в интересах международной шпионской организации «Джойнт». Абакумову 3 ноября 1952 года предъявили обвинение в том, что он «вынашивал изменнические замыслы и, стремясь к высшей власти в стране, сколотил в МГБ СССР преступную группу из еврейских националистов, с помощью которых обманывал и игнорировал ЦК КПСС, собирал материалы, порочащие отдельных руководителей Советского правительства, а также отгораживал чекистский аппарат от руководящих партийных органов; опираясь на своих сообщников, проводил вредительскую подрывную работу в области контрразведывательной деятельности…». С ловлей шпионов у Виктора Семеновича действительно не очень получалось, но захватывать высшую власть в государстве он и в мыслях не держал. Тем более что данный сценарий со всех точек зрения выглядел абсурдным. Взять власть, опираясь лишь на силы МГБ, без участия или хотя бы благожелательного отношения со стороны армии, не было никакой возможности. Для правдоподобия требовалось пристегнуть к «сионистскому заговору» армейских генералов. Однако Иосиф Виссарионович, основательно почистивший и попугавший генералитет в первые послевоенные годы, в новой перетряске военных кадров пока не нуждался и не собирался жертвовать генералами и маршалами. Поэтому стройность картины была все же не такой, как в почти образцовом в этом отношении деле «правотроцкистского блока». И хуже всего было то, что главный обвиняемый никак не сознавался. Чернов вспоминал, как заставили признаться его самого: «Сколько-то дней я держался, а потом… Был у них отработан садистский прием — перевернут тебя на спину, снимут брюки, раздвинут ноги и давай хлестать сыромятной плетью. Боль невыразимая, особенно если бьют с оттяжкой. После такой пытки я графин воды выпивал, жажда была — все внутри полыхало. Тут подпишешь даже то, что придушил собственную маму годика за три до своего же рождения…» Абакумову еще повезло. Вопреки утверждению Федотова, всех мер физического воздействия к нему не применяли. Поскольку в первые же недели в Лефортове переборщили с одной из пыток. О том, как это произошло, Абакумов 18 апреля 1952 года поведал в письме Берии и Маленкову: «Со мной проделали что-то невероятное. Первые восемь дней держали в почти темной, холодной камере. Далее в течение месяца допросы организовывали таким образом, что я спал всего лишь час-полтора в сутки, и кормили отвратительно (конечно, Лефортово — это тебе не «Арагви». — Б. С.). На всех допросах стоит сплошной мат, издевательство, оскорбления, насмешки и прочие зверские выходки. Бросали меня со стула на пол… Ночью 16 марта меня схватили и привели в так называемый карцер, а на деле, как потом оказалось, это была холодильная камера с трубопроводной установкой, без окон, совершенно пустая, размером 2 метра. В этом страшилище, без воздуха, без питания (давали кусок хлеба и две кружки воды в день), я провел восемь суток. Установка включалась, холод все время усиливался. Я много раз… впадал в беспамятство. Такого зверства я никогда не видел и о наличии в Лефортово таких холодильников не знал — был обманут… Этот каменный мешок может дать смерть, увечье и страшный недуг. 23 марта это чуть не кончилось смертью — меня чудом отходили и положили в санчасть, впрыснув сердечные препараты и положив под ноги резиновые пузыри с горячей водой. Я все время спрашивал, кто разрешил проделать со мной такую штуку. Мне ответили: «Руководство МГБ». Путем расспросов я узнал, что это Рюмин, который делает что и как хочет… Прошу Вас, Л. П. и Г. М. закончить все и вернуть меня к работе… мне нужно лечение… Может быть, можно вернуть жену и ребенка (к моменту ареста Абакумова его сыну было всего два месяца от роду. — Б. С.) домой, я Вам вечно буду за это благодарен. Она человек очень честный и хороший. Уважающий Вас — В. Абакумов». Насчет того, что карцеры-холодильники оказались для него новостью, Виктор Семенович лукавил. Вот воспоминания актрисы Татьяны Окуневской, которая отвергла любовные домогательства Виктора Семеновича и за это поплатилась: «Следователь Соколов: — Ну, что, опомнились? Пришли в себя? Подписывайте — и к стороне. — Я подписывать не буду. — Тогда поведем вас в подвал пороть! — Я покончу с собой. — Дудки! Ишь ты какая умная! У нас это не получится. Привели в камеру, приказали одеться на улицу… фургон «Овощи ~ фрукты», автоматчик запихивает в заднюю дверь фургона… остановка, фургон подогнали к какой-то железной двери, спускают по крутой, узкой, осклизлой лестнице в подвал, железная дверь, с той стороны кто-то разглядывает меня и автоматчика в глазок, скрежещет замок, надзиратель в тулупе до полу принимает меня, дверь захлопнулась, полутьма, могильный холод, камера номер 3. — Раздевайтесь до рубашки. — Я не ношу рубашек. Дверь захлопнулась, приносят отвратительную рубашку, грязные тапочки. — Раздевайтесь до рубашки. Уносят мои вещи, камера захлопнулась. Если будут пороть, покончу с собой. Начинаю замерзать. Где я? Ехали долго. Может быть, это и есть подвал той знаменитой Лефортовской тюрьмы. В могильной тишине слышу какой-то тихий, однотонный звук, как будто мотор рефрижератора, стены покрываются изморозью. Я в холодильнике. Двигаться, прыгать, танцевать, чтобы не замерзнуть! Это глупо и смешно, они же до конца замерзнуть не дадут. Согревание только продлит муки. Ни рук, ни ног не чувствую. Камера — квадратная коробочка, в углу крошечный откидной треугольник, сесть на него, так чтобы поднять от пола ноги, невозможно, соскальзываешь или примерзаешь спиной к стене… Ноги совсем протезы… Кости, мои кости, их не ломают, их выкручивают, выворачивают, и всю меня начинает корежить — Соколов посадил меня к раскаленной голландской печи, я начала оттаивать… — Что, больно? Подпишите, и все кончится, а то ведь на днях вашей любимой дочери исполнится шестнадцать лет, мы и ее арестуем вам в подмогу!.. В голову ударил дикий женский вскрик из коридора, Соколов наклонился надо мной. — Надо подписывать, нечего из себя корчить Зою Космодемьянскую, не таких козявок, как ты, ломаем, маршалов ломаем, которые уже видели смерть в глаза! Какая разница, говорила ты что-нибудь или не говорила! Здоровье надо сберечь, дура! Подписывай, и скорее в лагерь на воздух, там можно выжить, твой идиотский героизм — писк мышонка при взрыве!.. Я в камере, около меня кто-то в белом халате, укол, хочу спать, спать, спать… Ничего себе меня отработали, увидела свое отражение в оконном стекле и отшатнулась». Следователь Соколов, допрашивавший Окуневскую, позднее входил в бригаду следователей по делу Абакумова. Татьяну Кирилловну, арестованную по распоряжению министра, не могли поместить в холодильник без его ведома. Но на следствии, что характерно, Виктор Семенович, признавая, что в его бытность в МГБ арестованных частенько били, напрочь отрицал, что знал о существовании карцеров-холодильников. И на это была своя причина. Ведь Абакумова обвиняли в том, что он специально засадил Этингера в холодильник, чтобы тот поскорее помер и не смог рассказать о террористических планах «сионистской банды». Рюмин в ответ зло подшутил над своим поверженным шефом, поместив его в карцер-рефрижератор. Одно дело, когда ты отправляешь неугодных проветриться в ледяной камере, и совсем другое, когда сидишь в холодильнике сам, да еще целыхвосемь дней. Но тут люди Рюмина переборщили. Абакумов на вид был настоящий богатырь, и пыточных дел мастера переоценили крепость его здоровья. В результате из холодильника Виктор Семенович вышел полным инвалидом. 24 марта 1952 года начальник санчасти Лефортовской тюрьмы подполковник медицинской службы Яншин констатировал: «Заключенный № 15 еле стоит на ногах, передвигается с посторонней помощью, жалуется на боли в сердце, слабость, головокружение… Бледен, губы и слизистые с цианотичным оттенком. При пальпации спины болезненность мышц в области межреберных промежутков… Стопы гипермированы, пастозны… По состоянию здоровья нуждается в переводе из карцера в камеру». Абакумов так основательно посадил сердце, что врачи пришли к заключению: «Допрашивать только лежа в течение 2-х часов». Теперь и речи не могло быть ни о резиновых дубинках, ни тем более о средстве, обеспечивающем абсолютную откровенность пытаемого, — битье с оттяжкой сыромятной плеткой по яйцам. Иначе подследственный свободно мог сыграть в ящик и Рюмина обвинили бы в гибели ключевого фигуранта дела. Волей-неволей пришлось ослабить физическое воздействие. Осенью 1952-го Абакумов написал «дорогим Лаврентию Павловичу и Георгию Максимилиановичу» еще два письма. Лефортовский узник сетовал: «Прошло уже более года, а меня по-прежнему беспрерывно допрашивают… Все это время мне ставили большое количество вопросов — странных, нелепых и просто провокационных. Например, вопрос о суде над «ленинградцами»: «Почему я добился расстрела Вознесенского, Кузнецова и других?» Вы же хорошо знаете, как все было. Следователь Рюмин должен знать, что такие вопросы решает ЦК, но почему-то спрашивает об этом у меня… Теперь новая линия. Продолжают меня мучить, называя «узурпатором». Приводят умопомрачительные показания различных лиц. Многие сидели в холодильнике и лгут кто как может. Об этом страшилище-холодильнике я писал Вам в прошлый раз…» Виктор Семенович возмущался поведением коллег и подельников: «Сколько вранья, клеветы и грязи написано на бумаге. Они, очевидно, должны взять отказные протоколы от людей, которые врали и клеветали. Иначе как можно оставить бумаги с такими записями…» И тут же робко предлагал: «Может быть, было бы лучше закончить всю эту историю до отъезда тов. Сталина в отпуск? Говорю это потому, что иногда в период отпуска некоторые вопросы решались острее. Поймите мое положение и поэтому извините меня за такой совет». Адресаты Абакумова прекрасно знали, что во время отпуска Иосиф Виссарионович склонен применять более радикальные и беспощадные решения. Напомню, что смещение Ягоды произошло как раз в тот момент, когда Сталин отдыхал в Сочи. Абакумов напрасно клялся, что «всем сердцем любит тов. Сталина и тов. Берия», напрасно уверял, что Лаврентий Павлович — самый близкий для него человек, напрасно убеждал, что его опыт «крепко пригодится в будущем». Виктора Семеновича окончательно и бесповоротно списали в отработанный шлак, и теперь решался лишь вопрос, в какой форме и когда вынести ему смертный приговор.Заключенный № 15
Между тем Сталин проявил недовольство затягиванием сроков следствия. Поскольку главный фигурант Абакумов все никак не хотел «разоружаться», нечего было и думать об организации нового открытого процесса. Последовали оргвыводы. 14 ноября 1952 года Рюмин был снят с поста заместителя министра государственной безопасности и переведен под начало Меркулова в Министерство госконтроля старшим контролером. На положении Абакумова эта перемена отразилась в лучшую сторону. 15 ноября он был переведен из пыточного Лефортова в Бутырскую тюрьму. В рапорте от 17 ноября 1952 года заместителю начальника Следственной части по особо важным делам МГБ СССР уже знакомому нам полковнику госбезопасности Соколову помощник начальника Следчасти подполковник Гришаев описал условия, в которых теперь содержался секретный узник: «Арестованный № 15 помещен в камеру № 77 Бутырской тюрьмы… из шести камер, расположенных в конце коридора, где размещена камера № 77, выведены все заключенные, и, таким образом, по соседству с арестованным № 15 других заключенных нет. В целях конспирации эта часть коридора отгорожена специальной портьерой. У двери камеры выставлен круглосуточный пост из числа наиболее проверенных надзирателей… Надзиратели предупреждены, что арестованный № 15 способен допустить любую провокацию и может прибегнуть к самоубийству. Поэтому за ним необходимо вести особо тщательное наблюдение… Также в целях конспирации принято решение прикрепить к арестованному № 15 наиболее проверенного, умеющего держать язык за зубами врача и вызов других врачей к арестованному производить только в экстренных случаях. Согласно указанию Министра, арестованный № 15 закован в наручники (чтобы исключить попытку самоубийства, а также в качестве единственного доступного в тот момент вида пытки. — Б, С,), которые будут сниматься только во время приема пищи. Все остальное время арестованный № 15 будет сидеть в наручниках, причем в дневное время с руками за спину, а в ночное время — с руками на животе. Материалы тюремного дела арестованного № 15, из которых можно догадаться о характере и содержании дела, переданы на хранение начальнику Внутренней тюрьмы тов. Миронову, а остальные материалы, по которым содержание и характер дела понять нельзя, переданы начальнику Бутырской тюрьмы…» Теперь следователи в допросах Абакумова основной упор делают на его связи с арестованными кремлевскими врачами. Виктору Семеновичу ставили в вину, что он не отреагировал на донос врача Лидии Тимашук, в августе сообщавшей, что кремлевские доктора неправильно лечат товарища Жданова. Правда, письмо было адресовано начальнику Главного управления охраны МГБ генерал-лейтенанту Николаю Сидоровичу Власику. Но тот, арестованный 16 декабря 1952 года за злоупотребление служебным положением и попустительство «врачам-вредителям», сразу же признал, что переслал письмо Тимашук Абакумову. Однако Виктор Семенович отрицал, что пытался извести Сталина и потому «замазал» сигнал патриотки. 16 января 1953 года секретарь партбюро Следчасти по особо важным делам Цветков обратился к сменившему Рюмина на посту замминистра генерал-лейтенанту Гог-лид зе с рапортом, проникнутым трогательной «заботой» о состоянии Абакумова: «Мне кажется, целесообразно было бы… предпринять необходимые меры в направлении получения от арестованного № 15 признательных показаний. Такой мерой, по-моему, может быть тщательное медицинское освидетельствование арестованного № 15 и в случае необходимости — применение срочных медицинских средств для быстрого восстановления его здоровья с тем, чтобы после этого можно было бы активно допрашивать и обязательно пользоваться нри этом острыми методами». Однако спешно созванный медицинский консилиум разбил все эти надежды гуманистов в серебряных погонах с синим кантом вдребезги. Врачи разрешили только увеличить время допросов с четырех до шести часов в день. В заключении консилиума от 26 января 1953 года отмечалось, что «больной ходит пошатываясь в разные стороны, пользуется при этом либо поддержкой окружающих, либо опирается на стены и предметы… Жалобы на боли в сердце, иррадирующие в левую руку, на боли в ногах и отеки ног, отмечают слабость, быстрое утомление… Данные обследования указывают на наличие у больного кардиоартериосклероза и атеросклероза с возможным склерозом коронарных сосудов; выявленная на ЭКГ недостаточность миокарда может быть отнесена также за счет общей астении… Выявленные изменения не требуют постельного режима и диетпитания; больной работоспособен в течение нормального рабочего дня (до 6 часов), ночная работа противопоказана». Иными словами, весь букет заболеваний, выявленный у Виктора Семеновича, требовал длительного лечения, далеко выходящего за все мыслимые сроки следствия. Абакумов прекрасно понимал, что пытать его больше не будут, а потому ушел в полную несознанку. Заодно это позволяло потянуть время, что давало хоть какие-то шансы на спасение. Сегодня, когда мы знаем финал, можно предположить, что единственный шанс остаться в живых для Абакумова заключался в том, чтобы квалифицированно симулировать сумасшествие. Правда, косить под психа ему, очевидно, пришлось бы вплоть до падения Хрущева и прихода к власти Брежнева. Никита Сергеевич, вероятно, будь его воля, все равно расстрелял бы Абакумова, хоть после XX, хоть после XXII съезда партии. Слишком уж много знал бывший министр ГБ. Надо сказать, что один из абакумовских подельников, Шварцман, пытался изобразить помешательство, но оказался плохим актером, был разоблачен и расстрелян. Виктор Семенович изображать помутнение рассудка не стал, то ли не надеясь на свои артистические способности, то ли рассчитывая выскочить на одном только безоговорочном отрицании собственной вины. Не вышло. Абакумов, отдадим ему должное, оказался единственным из высших руководителей советских органов госбезопасности, который на следствии и на суде так и не признал своей вины в придуманных следователями преступлениях. Не испугался угрозы пыток. А может, не успел испугаться? Не исключено, что в карцер-холодильник Абакумова бросили без предупреждения и на восемь суток забыли о нем — и вытащили только тогда, когда экс-министр госбезопасности чуть было не отдал концы. Потом же пытать его, из-за слабости здоровья, не было никакой возможности. Вот он и продержался до «оттепели», когда политических противников еще расстреливали, но уже не пытали. В последние недели жизни Сталина, когда в Политбюро и МГБ всерьез обсуждали планы покушения на Тито, Абакумова попытались сделать «титоистом», утверждая, что в 1945 году он умышленно не принял во внимание агентурные сообщения о предательстве «югославской клики». Виктор Семенович с легкой душой ответил, что СМЕРШ разведкой не занимался, а потому он сам в 1945 году ничего о предательстве Тито не слышал. После смерти Сталина и слияния МГБ с МВД под началом Берии допросы Абакумова прекратились впредь до особого распоряжения нового министра. О том, в каком ракурсе виделось Лаврентию Павловичу развитие дела бывшего главы СМЕРШа, поведал 7 сентября 1953 года на допросе бывший заместитель начальника Следчасти по особо важным делам МГБ полковник Коняхин: «11–12 марта 1953 года я был на докладе у министра (Берии. — Б. С.), и когда дошла очередь до дела Абакумова, Берия, не расспрашивая о виновности Абакумова, иронически произнес: «Ну, что еще нашли у Абакумова, кроме его квартиры и барахольства?» Я ответил, что подтверждены факты обмана ЦК ВКП(б) и, помимо этого, Абакумов ничего не сделал по заявлению врача Тимашук в выявлении обстоятельств смерти тов. Жданова. Берия сразу же напустился на меня: «Как Абакумов ничего не сделал по заявлению Тимашук? А вы знаете, что Абакумов передал это заявление Сталину? Почему вы меня обманываете? Неужели вас учили в ЦК обманывать руководство? (Теперь Абакумова, в связи с изменением политической конъюнктуры, обвиняли уже не в недостаточном, а чрезмерном рвении в расследовании «дела врачей»; при этом Берия то ли не знал, то ли умышленно исказил обстоятельства того, как попало к Сталину заявление Лидии Тимашук. — Б. С.)». Я промолчал и, в частности, не сказал Берии о замечании товарища Сталина, которое им было сделано в моем присутствии 20 февраля 1953 года, а именно: «Это Берия нам подсунул Абакумова… Не люблю я Берию, он не умеет подбирать кадры, старается повсюду ставить своих людей…» Выходит, что в последние дни жизни вождь рассматривал возможность приобщить к делу Абакумова Лаврентия Павловича. Вероятно, Сталина останавливала только роль, которую играл Берия в атомном и водородном проектах. До того как будет взорвана первая советская водородная бомба, менять коней на переправе было рискованно. Маленков и Берия решили инкриминировать Абакумову не только «дело врачей», все фигуранты которого в апреле были реабилитированы по инициативе Лаврентия Павловича, но и «дело авиаторов» 1946 года, где инициатором реабилитации выступил Маленков, а также чтобы порадовать военных, фальсификацию «дела» бывшего начальника кафедры Высшей военно-морской академии вице-адмирала Леонида Георгиевича Гончарова. 73-летнего старика арестовали в апреле 1948 года и за две недели допросов с применением «острых методов» довели до смерти от сердечного приступа. Абакумов по-прежнему отрицал свою вину, утверждая, что действовал по приказу Инстанции, то есть ЦК и Сталина. После ареста Берии в деле Абакумова наступила новая пауза. Теперь у следователей родилась мысль объединить в одну группу заговорщиков Виктора Семеновича и Лаврентия Павловича. Это выглядело форменным издевательством над здравым смыслом, поскольку было хорошо известно: Берия и Абакумов еще с войны друг друга терпеть не могли. Допрошенный новым Генеральным прокурором СССР Романом Андреевичем Руденко, Абакумов наличие тесных связей с Берией отрицал: «На квартире и на даче у Берии я никогда не бывал. Отношения у нас были чисто служебные, официальные, и ничего другого». Никаких показаний о дружбе с Абакумовым не дал и Берия. Это не помешало Руденко на суде назвать его «членом банды Берии». Подобные кульбиты следствия только укрепляли Абакумова в намерении твердо отрицать все обвинения. Несговорчивого арестанта 3 августа 1953 года вернули в Лефортово, но тамошние суровые условия грозили тяжелобольному Абакумову скорой смертью. Поэтому 26 сентября его перевели во Внутреннюю тюрьму на Лубянку. Чтобы хоть как-то восстановить силы, Абакумову разрешили покупать продукты в тюремном ларьке на сумму 150 рублей в месяц. Но бумагу для писем в ЦК КПСС ему по-прежнему не давали.Совершенно секретный «открытый» процесс
Суд над Абакумовым, Леоновым, Лихачевым, Комаровым, Броверманом и Черновым (дело симулянта Шварцмана выделили в отдельное производство) начался 14 декабря 1953 года в ленинградском Доме офицеров. Судила бывшего главу МГБ и его товарищей Военная коллегия Верховного Суда СССР. Судебные заседания считались открытыми, однако стенограмма процесса была снабжена грифом «совершенно секретно», из чего можно заключить: вся публика в зале окружного Дома офицеров была бравая и присяжная, из числа бывших подчиненных Абакумова, заранее давших подписку о неразглашении. Абакумов сразу же заявил ряд ходатайств, ни одно из которых удовлетворено не было. Виктор Семенович требовал приобщить к делу его докладные записки в ЦК и Совмин; постановления ЦК о расследовании преступной деятельности фигурантов «ленинградского дела»; его, Абакумова, собственные приказы о ликвидации недостатков в работе следственного аппарата министерства; постановления директивных органов о сокрытии бывшим главой МГБ Меркуловым ряда материалов по «авиационному делу». Абакумов также потребовал вызвать в суд бывшего первого заместителя министра госбезопасности генерал-лейтенанта С. И. Огольцова, курировавшего Следственную часть по особо важным делам, рассмотреть факты применения к нему и другим подсудимым в период следствия мер физического воздействия и занести в протокол судебного заседания, что в период следствия ему, Абакумову, не разрешали писать заявления в Президиум ЦК КПСС. Суду все было ясно, приговор написали заранее, а задачей прокурора и судей было не допустить, чтобы в ходе заседаний упоминались фамилии действующих руководителей партии и правительства или говорилось о причастности ЦК к фабрикации политических дел. Некоторые вольности позволялись лишь в отношении второстепенных участников процесса. Так, прокурор Руденко потребовал для Чернова 25 лет тюрьмы, а судьи, посовещавшись, дали ему «только» 15 лет лагерей. Впрочем, это похоже на заранее запланированное милосердие, дабы продемонстрировать объективность и беспристрастность суда. Абакумов отказался от адвоката. В начале судебного заседания он заявил: «Виновным себя не признаю. Это дело провокационное, оно сфабриковано Берией, Кобуловым и Рюминым». Остается загадкой, почему Виктор Семенович в числе главных виновников своих злоключений назвал бывшего покровителя — Богдана Кобулова. Абакумов признавал факт фальсификации «ленинградского» и других дел, но утверждал, что сам он за это ответственности не несет, поскольку действовал по прямым приказам Сталина и ЦК. В своей защитительной речи Виктор Семенович ответственность за свой арест возлагал на уже осужденных чинов МВД и МГБ: «Я заявляю, что настоящее дело против меня сфабриковано. Я заключен под стражу в результате происков Берии (на самом деле, скорее — в результате происков Маленкова, хотя основное решение принимал, конечно, Сталин. — Б. С.) и ложного доноса Рюмина… Все недостатки в органах ЧК, скопившиеся за длительный период, вменяются мне как преступления… я ничего не делал сам. В ЦК Сталиным давались указания, а я их выполнял. Государственный обвинитель ругает меня, с одной стороны, за допущенные перегибы, а с другой — за промахи, смазывания. Где же тут логика? Дело «СДР» расследовано правильно. Мне же в течение трех с половиной лет и пытались доказать, что я «смазал» террористические намерения у 15-16-летних юношей и девушек… Недостатки у меня были, я их не скрывал. Утверждать, что я использовал такой орган, как Особое совещание, для расправы, — значит забывать о том, что я никогда не председательствовал в Особом совещании… Я считаю, что суд должен справедливо разобраться в моем деле». На судей — председательствовавшего генерал-лейтенанта юстиции Е. Л. Зейдина и членов суда генерал-майора юстиции В. В. Сюльдина и полковника юстиции В. В. Борисоглебского речь подсудимого не произвела никакого впечатления. Это были люди, закаленные в борьбе с «врагами народа» и в штамповании таких приговоров, какие предпишет Инстанция. Последнее слово Абакумова было для них пустым звуком. Напрасно бывший министр убеждал присутствующих: «Меня оклеветали, оговорили. Я честный человек. В войну я был начальником контрразведки, последние пять лет на посту министра. Я доказал свою преданность партии и Центральному Комитету…» За преданность партия и ЦК отплатили Абакумову и его товарищам сполна. Всем подсудимым, кроме двоих, 19 декабря 1954 года был вынесен смертный приговор. Только Чернов получил 15 лет лагерей, а Броверман — 25. Расстреляли Абакумова 19 декабря в 12 часов 15 минут, о чем сохранился рапорт начальника Внутренней тюрьмы КГБ подполковника Таланова, лично казнившего осужденного. Характерно, что расправа последовала всего лишь через час с четвертью после вынесения приговора. Таланов рассказывал, что последними словами Абакумова, которому даже не дали возможности подать прошения о помиловании, были: «Я все, все напишу в Политбюро…» Бедняга не знал, что его ведут на расстрел, и слово «Политбюро» на половине оборвала пуля, пущенная в затылок подполковником Талановым. На суде Абакумов ничего не сказал о найденных у него при аресте документах, компрометировавших не только поверженного Берию, но и остававшегося членом Политбюро и председателем Совета Министров Маленкова. Эти документы даже не отразились в материалах дела. Очевидно, их сразу же уничтожили — от греха подальше. О них Абакумов упоминал в одной из записок Маленкову и Берии. Судя по всему, имелись в виду некие милицейские протоколы, где отразились связанные с Лаврентием Павловичем сексуальные скандалы. В отношении же Георгия Максимилиановича Абакумов, как он сам писал, хранил «копии старых заявлений (1946 г.)… по линии брака самолетов… Как вы знаете, Л. П., вопрос в отношении тов. М. обстоял тогда крайне туго, и, несмотря на сильный нажим, я показал себя как честный человек». Возможно, и тогда, в 1952-м, и теперь, на суде, Абакумов надеялся, что Георгий Максимилианович оценит молчание и выхлопочет ему жизнь. Но «товарищ М.» честности Виктора Семеновича не оценил. Вероятно, Абакумова и расстреляли-то так спешно для того, чтобы он не успел огласить содержание компрометирующих Маленкова заявлений. Как и его предшественники, Виктор Семенович Абакумов погиб потому, что слишком много знал. Сменившие Сталина партийные вожди — активные участники преступлений прошедших десятилетий, естественно, не испытывали ни малейшего желания нести ответственность за невинно пролитую кровь… Вдова Абакумова была освобождена вместе с малолетним сыном 9 марта 1954 года. Девять месяцев спустя ее выслали из Москвы и лишь в 1957 году разрешили вернуться в столицу. Самого Виктора Семеновича в 1997 году частично реабилитировали. Верховный суд России пришел к выводу, что Абакумов и другие, проходившие по его делу, не виновны в измене Родине, терроризме, не являются участниками антигосударственного заговора. Теперь их признают виновными только в превышении власти, повлекшем гибель сотен невинных людей и выразившемся в фальсификации уголовных дел и применении пыток к подследственным. Но поскольку в тот период, когда были совершены эти деяния, смертная казнь полагалась только за государственные преступления вроде шпионажа или заговора, расстрел Абакумову и другим казненным был заменен на 25 лет лагерей. Не знаю, порадовался ли Виктор Семенович на том свете этой новости. Абсурдность нового решения по делу Абакумова — следствие стремления нынешней российской власти сохранить правопреемство по отношению к советской власти. Хотя, в отличие от Ягоды, Ежова и Берии, Виктора Семеновича судили не только за вымышленные преступления, но и за действительную фальсификацию уголовных дел.Заключение
Все четыре главных сталинских подмастерья в осуществлении политики террора истребили сотни тысяч людей и кончили одинаково плохо. При этом никто из них по природе своей не был извергом, хотя и сотворил много зла. Трое из четверых, Ягода, Берия и Абакумов, хотели по возможности ограничить масштаб репрессий. Но и четвертый, Ежов, самый кровавый, лишь максимально усердно выполнял указания генсека — и отнюдь не из жестокости или ненависти к кулакам и оппозиционерам, полякам или немцам, дворянам и интеллигентам. Просто общественно-политическая система, установившаяся в нашей стране после 1917 года, в первые десятилетия своего существования нуждалась в массовом терроре, чтобы утвердить свою легитимность в глазах всех слоев населения и подавить как действующую, так и будущую потенциальную оппозицию. Страх, вызванный репрессиями, позволил системе продержаться последние три с лишним десятилетия уже без массового террора. В условиях почти полной информационной блокады, только страхом можно было убеждать нищее и голодное население, что оно живет все лучше и веселее, что мы вскоре догоним и перегоним «загнивающий Запад». Ягода и Ежов, Берия и Абакумов в разные годы возглавляли «Министерство страха». Это делало их особенно ненавистными в глазах народа и обрекало на роль козлов отпущения, призванных принять на себя все грехи партии и коммунистической идеи. Преемников — Серова и Семичастного, Шелепина и Щелокова — помнят куда хуже. Времена после Сталина были вегетарианские, вот и «Министерство страха» отошло несколько на второй план. Бытует мнение, что Ягода, Ежов, Берия и Абакумов пусть с некоторым опозданием, но получили заслуженное возмездие. Однако повторю: подобные суждения — форменное издевательство над принципами права и здравым смыслом. Ведь Ягоду, Ежова и Берию судили вовсе не за фальсификацию уголовных дел и гибель невинных людей, а за мифические заговоры и убийства, к которым они никак не были причастны. Только Абакумова осудили за фабрикацию политических процессов, но сама форма следствия и суда и в этом случае представляла собой лишь пародию на юстицию. А партийные лидеры, пролившие ничуть не меньше невинной крови, отделались лишь принудительной отставкой, персональной пенсией и, в худшем случае, исключением из рядов КПСС. И бессмысленно ставить вопрос об их реабилитации или, наоборот, о подтверждении справедливости приговора, раз государство, их выносившее, умерло и не воскреснет.Использованная литература
Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ). Ф. 558, оп. 11 (И. В. Сталина); ф. 157, оп. 5 (М. Цхакая); ф. 17, оп. 120 (Общий отдел ЦК ВКП(б)). Агабеков Г. С. ЧК за работой. М.: Книга; Просвещение; Милосердие, 1992. Бажанов Б. Г, Воспоминания бывшего секретаря Сталина. М.: Инфодизайн, 1990. Батов П. И, В походах и боях. 2-е изд. М.: Воениздат, 1966. Беломорско-Балтийский канал имени Сталина. История строительства 1931–1934 гг. / Под ред. М. Горького, Л. Авербаха, С. Фирина. М.: ОГИЗ, 1934 (2-е изд. М., 1998). Берия С. Л. Мой отец — Лаврентий Берия. М.: Современник, 1994. Бобренев В. А., Рязанцев В. Б, Палачи и жертвы. М.: Воениздат, 1993. Волкогонов Д. А. Семь вождей. Кн. 1, 2. М.: Новости, 1995. Волкогонов Д. А. Триумф и трагедия. Политический портрет И. В. Сталина. Кн. 1, 2. М.: Новости, 1989. Воронов Н. Н. На службе военной. М.: Воениздат, 1963. Гальдер Ф. Военный дневник. Т. 3. Кн. 1, 2. М.: Воениздат, 1971. Гриф секретности снят. Потери Вооруженных Сил СССР в войнах, боевых действиях и военных конфликтах. М.: Воениздат, 1993. Дьяков Ю. Л., Бушуева Т. С, Фашистский меч ковался в СССР: Красная Армия и рейхсвер. Тайное сотрудничество. 1922–1933. М.: Советская Россия, 1992. Жуматий В. И. Боевые действия Краснознаменного Балтийского флота в советско-финляндской войне (1939–1940 гг.). М.: Военный университет, 1995. Залесский К. А. Империя Сталина. Биографический энциклопедический словарь. М.: Вече, 2000. Земсков В. Н. ГУЛАГ: Историко-социологический аспект // Социологические исследования. М., 1991. № 6, 7. Зенькович Н. А. Маршалы и генсеки. Смоленск: Русич, 1997. Зенъкович Н. А, Покушения и инсценировки: От Ленина до Ельцина. М.: Олма-пресс, 1998. Зенькович Н. А, Тайны уходящего века — 4. М.: Олма-пресс, 2000. Каганович Л. М. Памятные записки. М.: Вагриус, 1996. Казаков К П. Всегда с пехотой, всегда с танками. М.: Вое-низдат, 1969. Карпов В. В. Расстрелянные маршалы. М.: Вече, 1999. Катынское дело // Военные архивы России. М., 1993. Вып. 1. Колесник А. Д. Генерал Власов: предатель или герой? М.: Техинвест, 1991. Кузнецов Н. Г. Курсом к победе. М.: Воениздат, 1976. Кузнецов Н. Г. Накануне. М.: Воениздат, 1966. Лаврентий Берия. 1953: Документы. М.: МФ Демократия, 1999. Литвин А. Л. От анархо-коммунизма к ГУЛАГу: к биографии Генриха Ягоды // 1917 год в судьбах России и мира. Октябрьская революция: от новых источников к новому осмыслению. М.: Институт российской истории РАН, 1998. М. Н. Тухачевский и «военно-фашистский заговор» // Военно-исторический архив. М., 1997. Вып. 1, 2. Маршал Победы: К 100-летию Г. К. Жукова. М.: Воениздат, 1996. Меир Г. Моя жизнь / Пер. с иврита. Чимкент: Аурика, 1997. Мерецков К А. На службе народу. 2-е изд. М.: Политиздат, 1971. Микоян А. И. Так было. М.: Вагриус, 1999. Муранов А. И., Звягинцев В. Е. Досье на маршала. М.: Андреевский флаг, 1996. Мусафирова О. Лаврентий Палыч Берия не оправдал доверия. Интервью с С. Л. Берией // Комсомольская правда. 1997. 26 декабря. Накануне войны. Материалы совещания высшего руководящего состава РККА 23–31 декабря 1940 г. // Русский архив: Великая Отечественная. Т. 12 (1). М.: Терра, 1993. Некрасов В. Ф. Тринадцать «железных» наркомов. История НКВД-МВД от А. И. Рыкова до Н. А. Щелокова 1917–1982. М.: Версты, 1995. Обзор материалов о банддвижении на территории бывшей ЧИАССР // Кавказские орлы (Библиотека альманаха «Шпион». Вып. 1. М., 1993). Окуневская Т. К. Татьянин день. М.: Вагриус, 1998. «Очень высоко ценит т. Берия»: Записка И. П. Павлуновского И. В. Сталину «О т. Берия» // Источник. 1996. № 3. Пестов С, В, Бомба: Тайны и страсти атомной преисподней. СПб.: Шанс, 1995. Поварцов С. Причина смерти — расстрел. Хроника последних дней Исаака Бабеля. М.: Терра, 1996. Полянский А. И. Ежов: История «железного» сталинского наркома. М.: Вече, 2001. Приказы и директивы наркома ВМФ в годы Великой Отечественной войны // Военно-исторический архив. Вып. 1. М., 1997. Рапопорт В, Н, Геллер Ю. А. (Алексеев Ю.). Измена Родине. М.: Стрелец, 1995. Ротмистров П. А. Стальная гвардия. М.: Воениздат, 1984. Самсонов А. М. Знать и помнить. Диалог историка с читателем. М.: Политиздат, 1989. Сахаров А. Д, Воспоминания. Т. 1–2. М.: Права человека, 1996. Скрябина Е. Л. Страницы жизни. М.: Прогресс — Академия, 1994. Смирнов Н. Г Вплоть до высшей меры. М.: Московский рабочий, 1997. Соколов Б. В, Михаил Тухачевский: Жизнь и смерть красного маршала. Смоленск: Русич, 1999. Соколов Б. В. Правда о Великой Отечественной войне: Сборник статей. СПб.: Алетейя, 1998. Соколов Б. В. Тайны Второй мировой. М.: Вече, 2000. Сталин И. В. Вопросы ленинизма. 11-е изд. М.: Политиздат, 1939. Сталин И. В. Выступление на расширенном заседании Военного Совета при Наркоме Обороны 2 июня 1937 г. // Источник. 1994. № 3. Столяров К. А. Игры в правосудие. М.: Олма-пресс, 2000. Столяров К. А, Палачи и жертвы. М.: Олма-пресс, 1997. Судебный отчет по делу антисоветского «право-троцкистского блока». М.: Юриздат, 1938. «Товарищу Ягоде от поэта, с гордостью носящего имя литературного чекиста» //Архив Лубянки. М.: Красная Гора, 1994. Трехсвятский А. Дело Люшкова // Россия и АТР. Владивосток, 1998. № 1. Троцкий Л. Д. Моя жизнь. М.: Панорама, 1991. Троцкий Л. Д. Портреты революционеров. М.: Московский рабочий, 1991. Хлевнюк О. В. Политбюро. Механизмы политической власти в 1930-е годы. М.: РОССПЭН, 1996. Хрущев Н. С. Воспоминания. М.: Вагриус, 1997. Чеченцы и ингуши // Шпион. М., 1993. № 1,2. Шенталинский В. А. Рабы свободы: В литературных архивах КГБ. М.: Парус, 1995. Штеменко С. М. Генеральный штаб в годы войны. М.: Воениздат, 1968. Яковенко М. И. Агнесса. Устные рассказы Агнессы Ивановны Мироновой-Король о ее юности, о счастье и горестях трех ее замужеств, об огромной любви к знаменитому сталинскому чекисту Сергею Наумовичу Миронову… М.: Звенья, 1997.INFO
Соколов Б. В. С 59 Наркомы страха. Ягода. Ежов. Берия. Абакумов. — М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2001. - 384 с.: ил. — (Историческое расследование).
ISBN 5-7805-0779-1
УДК 947 ББК 63.3(2)6-8
Историческое расследование Соколов Борис Вадимович НАРКОМЫ СТРАХА ЯГОДА. ЕЖОВ. БЕРИЯ. АБАКУМОВ Научно-популярное издание
Взгляды авторов серии не всегда совпадают с мнением редакции
Разработка серийного дизайна Т. Кудрявцевой Технический редактор Г. Жильцова Корректор О. Селиванова Компьютерная верстка И. Алёхиной
ИД № 0446724 от 09.04.2001 г.
Подписано в печать 24.08.01. Формат 84x108/32. Бумага газетная. Гарнитура Newton. Печать высокая. Печ. л. 12,0 + 0,75 цв. вклейка. Тираж 10 000 экз. Заказ № 2151. С-206.
Налоговая льгота — общероссийский классификатор продукции ОК-005-93, том 2 — 953 000.
Гигиенический сертификат № 77.99.02.953.Д.003869.07.01 от 11.07.2001 г.
ООО «АСТ-ПРЕСС КНИГА» 109202, Москва, ул. Фрезерная, д. 3, стр. 1.
При участии ООО «Издательский дом «АСТ-ПРЕСС».
Отпечатано с готовых диапозитивов на ФГУП Тверской ордена Трудового Красного Знамени полиграфкомбинат детской литературы им. 50-летия СССР Министерства Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. 170040, Тверь, проспект 50-летия Октября, 46.
…………………..
FB2 — mefysto, 2023
Последние комментарии
3 часов 39 минут назад
5 часов 58 минут назад
7 часов 47 минут назад
13 часов 33 минут назад
13 часов 38 минут назад
13 часов 42 минут назад