Два измерения... [Сергей Алексеевич Баруздин] (fb2) читать онлайн
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]


СЕРГЕЙ БАРУЗДИН
Два измерения…
ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ
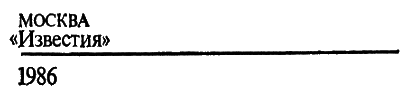
*
Художник В. МЕДВЕДЕВ
© Оформление. Послесловие. Издательство «Известия», 1986 г.
ПОВЕСТИ
САМО СОБОЙ…
Из жизни Алексея Горскова
I
Искусство не только реальность, а и сплав идеала с реальностью. Или: искусство — слияние правды окружающей жизни с идеальным.Человек видит в искусстве то, что хочет.
Безнравственного искусства быть не может. Оно — зов нравственных и гражданских идей.
Художник — капля воды из моря общества.
Реализм — не низложение, не ниспровержение отставшего, умирающего. Ниспровержение не может быть идеей. Реализм — утверждение.
Идея не телеграфный столб, то есть отредактированная сосна. Идея — сама сосна.
В настоящем искусстве я себя познаю, себя узнаю. Познать себя — одна из самых прекрасных возможностей человеческого бытия. Искусство старого живо до тех пор, пока оно обновляется новым мышлением. Абстракцию нельзя ничем оживить. Человек выражает в искусстве себя помимо своей воли. И в жизни так. Можно нарисовать луч солнца и не увидеть радугу. Хуже: нарисовать радугу и не увидеть солнца. Произведение искусства само по себе никакой цены не имеет. Только когда искусство сталкивается с человеком, который им пользуется, оно приобретает цену. Если человек ничего не может прочесть в искусстве, это — не искусство.
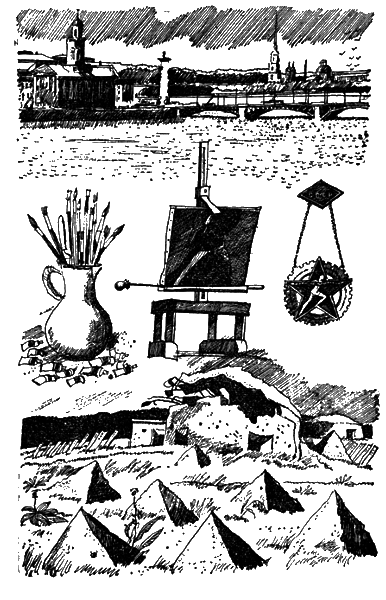
Сотворчество мое воображение — я рисую в чужом «свое».
Из Гоголя: — Где нашли такие типы? — В себе.
Христос и Пилат. Встреча двух миров, двух начал. И во мне то же самое. «Избранное» не для избранных, а для всех. «Полное собрание» — для избранных.
Что значит сказать свое слово в искусстве? Имею ли я право?
Борисов-Мусатов отличался от Репина не почерком, а мировоззрением. Как и Толстой — от Достоевского.
Начиная борьбу со злом, начни с себя.
В пятнадцать лет он плакал, читая Шиллера, Блока, Пушкина… В двадцать мечтал о службе в Красной Армии, а попал в Академию художеств.
А потом — год 1940-й и год 1941-й… Тогда на фронте было не до живописи.
Без биографии нет человека, а художника — тем более.
II
Боже! не слишком ли он умный? Все это и не совсем так. Это — цитаты из монографии о нем, вроде бы признанном сейчас художнике. А если бы он писал сам?.. Впрочем, так написать он, наверное, не смог бы. Милая женщина, даже дама, весьма образованная, но уж больно, ему казалось, молодая, часто и помногу говорила с ним, время от времени что-то незаметно записывая в маленький блокнот, и вот появилась монография. Даже Гоголя, Христа и Пилата использовала. Толстого и Достоевского. Шиллера вспомнила, Блока… К слову, почему здесь Борисов-Мусатов рядом с Репиным? Книга вышла к юбилею, да еще шестидесятилетнему. Издана вроде бы неплохо. Репродукции, конечно, отвратительные. На обложке монографии выходные данные и фамилия — Е. М. Кайдарова. А в конце — Кайдарова Евгения Михайловна. Ее зовут Евгения Михайловна. И она снится ему по ночам — умная, легкая, обворожительно простая. Хотя виделись они раз пять-шесть, не больше. Сейчас 1977 год. Юбилейный. Ему скоро будет шестьдесят, как Октябрю. Много? Мало? Ничего не сказал автору монографии о том, что он — ровесник Октября. Впрочем, она знает. Старый? Что же с ним происходит? Ведь, казалось бы, жизнь прожита, а его постоянно тревожит и зовет эта женщина!.. Любовь? В шестьдесят? А ведь до юбилея дожить надо. И конечно, удрать от него! Некоторые этого не поймут. Но так будет лучше! Персональная выставка — потом! Потом! Потом! Так и порешили! С детьми советоваться! Глупо! Катюше — тридцать пять. Сходится, расходится. Косте — двадцать. Ничего не создал и, главное, не стремится. В армии и то не служил… А когда мать умирала… Дети не лучшим образом суетились вокруг себя… Телефон бы Евгении Михайловны узнать. Встречались не раз, не записал. Надо позвонить в издательство. И адрес, и телефон должны там быть. А пожалуй, мысли его об искусстве она изложила правильно. Не так уж глупо! И она снится, снится ему. Со своими задумчивыми глазами, с ясным лицом, с веснушками на коже, со светлыми льняными волосами, со своим запахом… Она многое поняла в нем. Интеллигентна. Не так уж много сейчас интеллигентных людей! Хотя сегодня легко быть интеллигентным. Внешне, по крайней мере. И есть тут противоречие. В его годы, кажется, все было не так. Вот и опять он ворчит. И дети его, и даже обаятельная Евгения Михайловна — все под эту старую гребенку!.. А новая? Где эта новая гребенка?.. Но в Евгении Михайловне не просто интеллигентность. Есть в ней что-то другое, завораживающее. Он никогда не думал, что так может случиться. Или с Верой у них было не то? Нет, с Верой, хотелось думать, все было настоящее, но, наверное, по-другому. И все-таки чего же им не хватало? Может, духовной близости? Она была стойкая. А он? Когда он слушал теперь так редко исполняемый «Интернационал», плакал. И когда видел по телевизору детей, тоже часто плакал. Так и при Вере было, даже когда она тяжело умирала. А вот то, что в двадцать мечтал о Красной Армии, Евгения Михайловна правильно написала. Хотя, кажется, не очень поняла то простое, что без биографии вообще нет ничего… Все остальное — верно. За малыми исключениями. Сталинскую премию получил третьей степени, а в монографии — Государственная без степени. А она все равно — третья степень. Все титулы — прекрасно, но работать надо. И попытаться что-то создать еще. Об этом Евгения Михайловна написала. С его слов. Но «Алексей Горсков» хорошо! Звучит! И работать, работать! Надо! Надо! Надо! И не так, как прежде!..III
Алеша Горсков родился в 1917 году, в Петрограде. В 1940 году ему было двадцать три. Да, в пятнадцать он страдал, читая Шиллера. И не только Шиллера, а Пушкина, Блока… И в двадцать три только казался себе взрослым, а был глуп и восторжен и не по возрасту наивен. Хотя, впрочем, во всем ли? Сейчас он накануне шестидесятилетия. За спиной — война. За спиной — семья. Вера, ушедшая из жизни. Впереди — персональная выставка к юбилею, от которого он хочет удрать. Алексей Михайлович Горсков — действительный член, лауреат, народный художник… Монография — чепуха, думает он. А вот автор монографии?.. Умница! Найти ее обязательно — и побыстрее! Или он полный дурак? Да еще в таком-то возрасте! После Веры… Пожалуй, он разыщет Евгению Михайловну!.. Это не будет неприлично? Ну, пошло, что ли?IV
Алеша читал маме стихи:Ленинград. 1940 год. Всюду, даже из окна видно, рекламы. Многие из них сделаны студентами Академии художеств. Огромные рекламы на все стены старых домов:
V
С Верой они познакомились случайно. Во время учебной тревоги. Были носилки, и был он. Его уложили на эти носилки. На Петроградской стороне. На улице Лахтинской. На захудалой какой-то улочке попался! Он возмущался. А она, худенькая дурнушка, командовала. Эксперимент закончился благополучно. При его-то робости! Он увлекся Верой, как мальчишка, с первого взгляда. Первая девушка, с которой он познакомился всерьез. Первая женщина, которую узнал. Тогда они долго бродили по городу. Вышли к Неве. И даже поцеловались на набережной. Второй раз — на улице Воинова, около Дома писателей. Потом была еще встреча. У «Европейской», а точнее — у Русского музея. Кажется, она назначила, а может, и он. Сейчас не помнит… Он привез ее домой. На Марата. Он любил свою улицу, улицу Марата, тихо жившую своей тайной жизнью недалеко от шумного парадного проспекта 25-го Октября, бывшего Невского. Любил свой темный большой дом с его гулкими большими подъездами и широкими мраморными лестницами. Совсем рядом с домом — красивая церковь девятнадцатого века, выстроенная по проекту архитектора Мельникова и недавно превращенная в Музей Арктики. Недалеко была Пушкинская улица, уютная и какая-то домашняя, с малоизвестным памятником Пушкину. Он наизусть знал все надписи на нем. «Александръ Сергеевичъ Пушкинъ» — вязью. Даты рождения и смерти. Скульптор Александр Опекушин. Отлито на заводе А. Маран в 1884 году. И строки из «Памятника» и «Медного всадника». И «воздвигнуть Стъ. Петербургскимъ Общественнымъ Управлением!»». Мама, Мария Илларионовна, и баб-Маня, мать отца, приняли их хорошо. Суетились как могли и не знали, что с Верой делать; где посадить, чем угостить… Вера рассказывала, что работает в Ленсовете машинисткой (курсы окончила), а по совместительству — библиотекарем (подменным) в Российской Академии художеств, куда он собирается поступать. Мама, две младших сестры и совсем маленький брат… Только в Ленсовет далеко ездить. Баб-Маня поражалась. — Неужто так? Мама, Мария Илларионовна, говорила: — Вы, Верочка, — прелесть! Это было в тридцать седьмом. Они встречались и в тридцать восьмом, и в тридцать девятом. Стали близки, но о свадьбе разговора не было. Отец молчал, мама курила. Алеша уже учился в Академии и видел Веру ежедневно. Вечером дожидался ее после работы. Приходил специально, поскольку лекции часто заканчивались раньше. А потом — финская. Город, привыкший к учебным тревогам, стал рядом с войной. Раненые. Маскировочные шторы. Нет очередей, но в магазинах продукты выдаются по норме: в одни руки — 500 граммов масла, 1 килограмм хлеба, крупы — по 1 килограмму, сахар — 1 килограмм. Патрули. А там, на «линии Маннергейма», — отец… Это — рядом; слышны выстрелы, взрывы. По ночам особенно хорошо слышны. У Веры сестренка болела, а потом и у младшего брата — свинка… Ленсовет бросила, поскольку в Академии теперь постоянная работа. Интереснее. Алеша проводил отца в армию. Вера обиделась, что он не сказал ей об этом. — Как же так? — Не знаю… — Ты обо мне забыл? — Не знаю… Уход отца отодвинул в сторону все, в том числе и Веру. Три года Академии и первые сомнения угнетали его, и он не мог ни с кем поделиться ими. Ни с мамой, ни с баб-Маней, ни тем более с Верой. Или эта война перевернула в нем все? Он не видел Веру с неделю, и вот они словно чужие. — Не знаю, — сказал он. Да что у него с Верой? Кроме встреч, поцелуев, торопливой близости? — Почему так? — Забыл? А сейчас ему как-то чудно и безразлично, что он вновь встретил ее. Странно! А может, нет? И он вспомнил последнюю размолвку. Это было год или полтора назад. Кажется, два. У кинотеатра «Титан», когда они вышли оттуда. Смотрели какой-то отличный фильм с поцелуями, и он завелся. — Хотела бы быть актрисой, как Ладынина! — сказала она, выходя из кино. — Глупо, — пробурчал он, вспоминая Крючкова, Андреева и Алейникова. — Что — глупо? — спросила она. — Целоваться, как Ладынина! — выпалил он. — Сегодня со мной, завтра с актером… Кино! — Ну и что? — сказала она. — Актер должен уметь целоваться. У Ладыниной, наверное, муж есть, а она… Это почему-то его взорвало. Вздор. Но так было. Теперь все это позади. И Вера вновь была близкой, желанной, только не хотелось говорить с ней об Академии и о своих сомнениях. Он и сам пока плохо разбирался в своих тревожных мыслях, но чувствовал, что в его теперешней жизни должен произойти какой-то решительный поворот. Город уже становился другим. Они ходили по затемненным улицам и более светлым набережным. Кажется, в кино были раза три и сколько-то раз — дома, на Марата. Говорили о пустяках. …Стоял декабрь тридцать девятого. Мама не читала газет, а Алеша по утрам схватывал «Ленинградскую правду», быстро пробегал заголовки и информации… «Красная Армия несет свободу и мир трудящимся Финляндии», «За родину, за Сталина — вперед!», «Каллио объявил состояние войны с Советским Союзом», «Обращение ЦК компартии Финляндии (радиоперехват. Перевод с финского) «К трудовому народу Финляндии», «Кировские дни в Ленинграде и области», «Успехи кировских многостаночников», «Доклад «100 лет работы Главной астрономической обсерватории в Пулкове» сделает профессор В. В. Шаронов», «Злостное нарушение правил светомаскировки», «Семья, родственники и друзья умершего художника Ивана Георгиевича Дроздова благодарят все организации и всех лиц, почтивших память покойного…» Алеша не знал такого художника. «14 декабря в 11 часов утра в клубе Невхимзавода (правый берег Невы, дом № 70) начинается слушание дела по обвинению М. Сытдикова и П. Иванова, совершивших бандитское нападение на младшего командира Ожигова и ранивших красноармейца Шутова». Почему-то в каждом номере уголовная хроника. Стихи Твардовского «Кто друг, кто враг»:VI
В июле 1940 года они шли с Верой по проспекту 25-го Октября, а потом — возле Марсова поля и дальше — Медного всадника. Алеша молчал. Город после ночного дождя лежал в ясной солнечной дымке. Серебрился. Зеленели парки и газоны. На газонах застенчиво красовались цветы. Анютины глазки и снова анютины глазки. По Неве спешили речные трамвайчики, плыли буксиры с баржами. За рекой дымили заводские трубы, виднелись башни портовых кранов. Вера, стараясь быть веселой, явно что-то хандрила. Он, чудак, чувствовал это и тоже хандрил. «Не заводись!» — сказал он сам себе и попытался отвлечься:— А ты знаешь, — сказала она, — я, кажется, очень люблю тебя. У меня был до тебя один человек. Не хитрю, не скрываю. Но ты!.. Глупый ты мой, никем не признанный… Он был счастлив, а сказал, кажется, чушь: — Откуда ты взяла? — А отовсюду: твои картины в порту, лозунги и плакаты. И — Академия. Ты ведь не такой, как все… Вот так. А я — семь классов. Зачем я тебе такая?.. А может быть, именно это и нужно? Для кого художник? Не для себя же!.. А в городе словно был праздник света. И никаких штор на окнах домов. И никаких учебных тревог. День сегодня был солнечный, ясный. Сквозь ажурные решетки Летнего сада на фоне зелени ярко выделялись скульптуры. На улицах шумели поливальные машины. Звенели трамваи. Бойко гудели автомобили и автобусы. Бесшумно ползли троллейбусы. Провода светились в солнечных лучах. Пахло бензином и почему-то свежей краской. Он повел Веру к себе домой. Путь был неблизкий, но для молодых ног — ничего. И они уже освоили его. Ходили только пешком. Несколько раз Алеша проводил Веру мимо своего любимого Пушкина и уже потом в обход, через Кузнечный, на Марата. — Ты у меня дома не был… Мы с тобой еще сходим! Ладно? Надо же… Она оборвала разговор. — Куда, на твою Лахтинскую? — Почему бы и нет? — сказала она. — Ведь мы там с тобой познакомились — на носилках!.. Обратно он проводил ее до дома, до ее дома — на Лахтинской. Настал вечер. Вспыхнули огни на улицах и в витринах магазинов. Засветились окна домов, трамваев, автобусов и троллейбусов. На Неве замелькали огоньки кораблей и буксиров. В ярких лучах света зашагали над рекой мосты. Шли опять по празднично, необычно празднично освещенному Ленинграду. Обнимались, иногда целовались, не обращая внимания на прохожих. Она счастливо и легко поддавалась его поцелуям — в губы, в лицо, в глаза — и только без конца повторяла: — Ну, хватит, Алеш, хватит! Милый мой! Серенький мой, хватит! Ладно?! У дома своего спросила: — А что у тебя было раньше? — Что — раньше? — Ну, до меня. Я ведь, Алеш, о тебе ничего не знаю… — Дай поцелую! Он стал совсем смелым. — Но тут — народ… — К черту народ! Я хочу — тебя! Всю — такую!.. Вера, кажется, растерялась, и ему понравилось это, что она растерялась. Он знал, чего хочет сейчас, и не знал, что ему нужно от нее вообще. Но он, приняв ее заново, вроде бы ревновал к кому-то… И не потому, что она призналась, что у нее кто-то был до него… Жениться? Этого теперь он не мог предложить. Жениться и уехать, все бросить? А как бы хотелось! Страшный эгоист ты, Алеша! — Алеш! Хватит! Он вновь ее целовал. — Подожди, подожди! Ты и на вопрос мой не ответил… — На какой? — Ну, подожди же! Я спросила, а что у тебя было раньше… — Увлечения? — Не о том я, Алеш… — А? — Ты — художник, знаю! В Академии все запустил, знаю. Деньги зарабатываешь такие, что никому не снятся, знаю. И бросишь Академию… Мама твоя волнуется, бабушка… Папа погиб… Он опять промолчал. Они чуть не поссорились. Но положение спасла Вера. Посмотрела на него снисходительно-ласково и припала губами к его щеке. А он ей так и не сказал про военкомат.
VII
В День Военно-Морского Флота всюду висели плакаты: «Все — на флот!» «Молодежь — на флот!» Это была традиция. И прежде — в День авиации: «Все — в авиацию!» «Молодежь — на самолет!» День авиации еще не наступил. День Военно-Морского Флота был вчера, а сегодня… Сегодня — Витебский вокзал. Утро хмурое. Над городом пелена тумана. Асфальт блестит. Моросит мелкий, занудный дождь. Впрочем, не дождь даже, а какая-то мокрая пыль. Улицы полупусты. Только на вокзале, как всегда, людно. Все куда-то спешат, торопятся. Другие дремлют на длинных деревянных лавках, будто пришли сюда просто отдохнуть, посидеть. Между ногами суетятся дети. У касс длинные очереди. Хриплый динамик вздрагивает, что-то объявляют, но что — понять невозможно, и снова сплошной треск и шум. Под козырьком платформы тоже мокро, но хотя бы нет дождя. Здесь людей больше. Они не бегут, не спешат. Все толкутся у вагонов. Их команда — восемь человек. Трое — из Академии. Недоучившиеся студенты. Он, Саша Невзоров и Женя Болотин. Остальные — кандидат каких-то наук, преподаватель текстильного института, инженер, историк и инженер-гидравлик. Все старше. Года на два, на три, но это было заметно.
Длинный, в очках, инженер-гидравлик спросил: — Отчислили? — Откуда? — Из Академии художеств, — пояснил он. — Откуда вы знаете?! — возмутился Женя Болотин. — Так, догадываюсь, — сказал инженер-гидравлик. — А может, мы — добровольцы? — парировал Саша. Алеша не знал, что сказать. — Моя фамилия Кривицкий, — представился инженер-гидравлик. — Проля! Не удивляйтесь! Такое дурацкое имя! Спасибо папе с мамой! — А почему женского рода? — спросил Женька. — Как это? Ты же! Вы, простите, му… — Революция — женского рода, а мои родители — старой революционной закалки… Так и получилось, что я — Пролетарская революция. Их провожал какой-то военный из военкомата с медалью «За боевые заслуги». Такая награда в те годы — большая редкость. И посему это обстоятельство придавало проводам особую торжественность. Из восьмерых выбрал почему-то Невзорова и вручил ему какие-то документы. Долго объяснял. Может, потому, что Сашу никто не провожал. Провожающих и тех, кого провожали, военный, казалось, стеснялся. На вокзал они приехали с мамой загодя. Нашли третий вагон, около него и стояли. Сейчас собралась вся команда — восемь. Мама сразу же отметила: — Смотри: на каком уровне вас провожают!.. Дома мама обещала не плакать. Поэтому он и взял ее с собой на вокзал. Иначе вообще не хотел. А тут не мог отказать, хотя бы ради отца. Баб-Маня вела себя дома совсем плохо. Всю ночь листала Евангелие, искала что-то, утром перед отходом сказала: — Нашла, Алешенька, нашла! Вот слушай. «И в свой дом, здоров и невредим, он зашел»! Пусть так будет! Это про тебя! — Почему про меня? — спросил Алеша. — Чтоб вернулся… — Не война же сейчас… — Война не война, а в солдаты, в красноармейцы… Баб-Маня долго плакала. И не по нему, как он понял сейчас на вокзале, а по сыну — его отцу, о котором он и помнил, конечно, и горевал после его гибели на Карельском перешейке, но баб-Маня — мать ему. И как она все перенесла!.. В суете вокзала он думал о многом. Но суета есть суета. Рядом мать. Рядом друзья по Академии… Рядом незнакомые члены команды. Кривицкий этот, как его, Проля — любопытен как тип. Их родственники. У Женьки Болотина — трое провожающих. Третий вагон. «Ленинград — Киев» — написано. Значит, они едут на Украину. Военный из военкомата продолжает что-то говорить Саше Невзорову. Потом Саша: — Ребята, чемоданчики занесите в вагон! Есть время еще… До отхода поезда полчаса. Все занесли чемоданы. Вагон был старый. Типичный пригородный. В таких в Гатчину ездили, в Петергоф, в Лугу, где когда-то они очень давно жили на даче. В вагоне сидели штатские веселые люди и пели.
VIII
Спали они плохо. Поезд сильно трясло. Какие-то бесконечные остановки. Малые станции и полустанки. Разъезды и переезды. Старый вагон вздрагивал, скрипел, его заносило то влево, то вправо, дергало то назад, то вперед. За окном пробегали скошенные поля, леса и перелески, реки и озера, деревеньки, приютившиеся по косогорам и вложбинах, с облезлыми, полуразрушенными церквами. Мелькали станции, полустанки и разъезды, захламленные, какие-то неприбранные, наводящие тоску. И так от самого Ленинграда. По редким асфальтовым дорогам ползли машины и тракторы, а по грунтовым — телеги и стада. Перед Витебском их обогнал военный эшелон с танками на платформах и веселыми обветренными танкистами в теплушках. У некоторых на груди белели медали. «За финскую», — отметил про себя Алеша. До Киева ехали сутки с ночью. Потом — пересадка. Саша командовал. Поняли главное: у него — предписание. Еще более поняли, что он старший, когда хотелось есть. Пока были свои, домашние запасы, с этой его ролью никто не считался. Когда запасы пошли на убыль, оказалось, что Невзоров — маг и волшебник. После Киева пересадки стали чаще. Ждали очередного поезда. Часы, а иногда и больше. Пейзаж пошел повеселее. Больше зелени. Много белых хат и аккуратных домиков. На прудах, озерах и вдоль рек — птицы. Стада бродили по полям тучные, не то что в России. И машины чаще на дорогах, и люди по-праздничному одетые в национальные костюмы. Промелькнуло несколько свадебных шествий с гармошками, баянами, а одно даже с духовым оркестром. Саша был на высоте: — Ребята, жратва обеспечена! Секунду — внимание! Вот!.. И появлялись сало, и хлеб, и сахар, и соленые огурцы, и чуть ржавая селедка — вкусная, на редкость вкусная в дороге. За кипятком Саша направлял Пролю. Пролетарскую революцию Кривицкого. Отчества его, правда, никто пока не знал. Проля исправно выполнял все по части кипятка. И горячего, как говорили, ибо иногда кипяток становился единственным горячим блюдом. Острили на тему — гидравлик. Пролино превосходство было в имени, связанном с революцией, и в родителях его, давших ему такое имя. В долгом пути с трясками и бесконечными пересадками перезнакомились. Каждому и дело нашлось. О биографиях не говорили. Какие там биографии, когда они — мамины, папины, бабушкины, дедушкины! Говорили о прежних занятиях. О том, как и где работал и что зарабатывал. Тут выяснилось, что скромный кандидат каких-то наук Ваня со странной фамилией Дурнусов — самый материально обеспеченный член команды. Он защитил диссертацию, а это, оказывается, что-то дает, и он… В общем, страдает от обеспеченности. Ему стыдно… Ему двадцать восемь… — Ребята, я старше вас, но… Оказывается, именно он, этот гениальный человек, принес в вагон две бутылки портвейна. Бутылки давно распили, а инициатива кандидата наук Дурнусова осталась в доброй памяти. Где-то при очередной пересадке Женька Болотин спросил: — А на чем вы, простите, погорели? — Я никогда в жизни не горел, — непонимающе и удивленно признался Дурнусов. Это было странно. Мы недоучки, пусть и мнящие о себе, а тут новобранец — кандидат наук! Мы и он! Он оказался отличным парнем. Кандидат наук! По рыбному хозяйству… И опять поезд и пересадки. Инженер Слава Холопов оказался с Кировского. Конечно, он не знал и не может знать его, но ведь Алеша на Кировском работал… Самой странной личностью оказался историк — Костя Петров. Шиллер когда-то волновал Алешу, но, когда в поезде он спросил Костю, учившегося в «Петерпаульшуле», о стихах, тот застеснялся и ничего не мог сказать. Костя Петров оказался простым парнем. Значит, и среди историков есть свои ребята. А команда у них — неплохая. Отличная команда. И значки «ГТО», «ГСО», а у Женьки Болотина и детский «БГТО» плюс ко взрослым. У Алеши есть и «Ворошиловский стрелок». У других нет, а у него есть. Едет команда в составе восьми человек куда-то к месту службы. Куда? Никто не знает. Маму он обнял на вокзале как-то неловко, за спину. Веру даже не поцеловал как следует. Не решился. Военный из военкомата крепко пожал ему руку.IX
96-я горнострелковая дивизия. 141-й артиллерийский полк. Алеша даже не слышал такого прежде и не думал, что такое может быть. «Горнострелковая дивизия»! Проезжая Львов, они смотрели на этот город как на диковинный. На перроне мальчишка лет десяти торговал папиросами «Норд». Саша пытался устыдить его: — Ты что, мальчик? Учиться надо, а ты… За мальчишку сразу же вступилась какая-то потертая дама: — А вы побеспокойтесь, — как вас, товарищ? — чтобы папиросы были в магазине! — Между прочим, мадам, — выкрутился Сашка, — папиросы «Норд» — советские. Не знаю, чем у вас раньше торговали… Проехали и город Станислав. Ощущение заграницы, пусть бывшей, польской, вчерашней, — никуда от него не деться! Горсков почему-то неотвязно думал о красках. О тех, которых боялся в Академии, да и раньше, наверно… О тех, которые так просто ложились, когда он с ребятами рисовал рекламы. Но все это — зыбкие воспоминания. Вчера, позавчера, а точнее — сто лет назад. А сейчас — 96-я горнострелковая дивизия, 141-й артполк. В картах они, все восемь из команды, плохо разбирались. Их познания были на школьном уровне — контурные карты, хотя и они когда-то доставались с огромным трудом. Глобусы — не карты, но и их не было. А тут городок Долина. Видимо, недалеко от Станислава. Тут — дивизия и полк. — Можно было приехать и позже, товарищи инженеры, доктора и академики, — бросил им какой-то военный, который потом оказался начальником клуба. Их ждали и не ждали. Так можно было понять. — Вас, академиков, трое? Прошу в клуб! Остальные по особому распоряжению… Возможно, в учебную батарею, раз вы — необученные… Или повыше — в полковую школу. При самом штабе! Всем — обмундироваться! А в клуб к нам заходите! Долина — маленький, зеленый, уютный и какой-то очень домашний городок. Белые мазанки, немощеные улицы, куры, гуси, небольшой костел или просто часовенка рядом с пустырем. Окна заросли сиренью, акацией. На палисадниках, сделанных из прутьев, сохнут кувшины и кринки. В середине городка — площадь с огромным раскидистым дубом. Тут же несколько больших кленов с крупными пятипалыми листьями, чуть-чуть уже задетыми приближающейся осенью, а точней, уходящим летом. Под дубом розовый поросенок смешно выискивает желуди. Их военный городок рядом с Долиной. Зелень здесь вытоптана. И все по-военному. И песочек посыпан между строениями, а у клуба — асфальтированная дорожка. Строения — казармы, дома начальства с семьями, плацы с препятствиями, склады и орудия под навесами, конюшни. У конюшен нет ни песка, ни дорожек… Один взбитый чернозем. Они прибыли в Долину первого августа 1940 года. Было жарко и сухо. Терпко пахло солдатским и лошадиным потом. Историк Костя Петров, Константин Михайлович, учившийся когда-то в Москве в «Петерпаулыпуле», все время шумно восхищался лошадьми. И он, Алеша Горсков, восхищался. Но, признаться, немного побаивался этих лошадей. — Кость, а война с немцами будет? — этот вопрос почему-то чаще всего адресовали Косте. — Не думаю, — говорил историк. — Там такая компартия! Тельман! А песни? Эйслер! Брехт! Эрнст Буш! И договор, наконец! С Германией! А не с кем-то! Молотов в Берлин ездил. Риббентроп — в Москву… — О договоре не трепись! — рубил Саша. — Это дипломатия чистой воды. Может, нам выгодно, но все равно… Немцы уж пол-Европы захватили, а ты «не думаю». …С лошадьми они уже познакомились. Драили и чистили конюшни. Лошади с непривычки брыкались. Может, потому, что они, тогда новобранцы, приехавшие из Ленинграда, еще были в штатском. Своих, старослужащих, лошади совершенно не трогали. А к новичкам относились настороженно. Алеша, Саша и Женя пробыли в клубе полдня. Но вдруг их неожиданно попросили оттуда. Начальник клуба был доволен ими, но ничего не мог поделать, чтобы оставить их здесь. — Я говорил: учебная батарея! Раз вы необученные… Начальству видней! Их вернули из клуба в казарму — чистить конюшни, а потом вместе со всеми, такими же штатскими, как и их ленинградская команда, повели в город, в баню. — Смирно! — крикнул старшина. — Ш-ша-гом арш! — И добавил совсем по-мирному: — Пошли, ребята! На улицах города люди попадались редко. Но все-таки на них смотрели. Даже из окон. Смотрели со страхом, некоторые с удивлением, а может быть, и с любопытством: ведь они — советские. Алеша и ленинградцы были одеты как-то еще прилично. Остальные новобранцы (откуда они? Никто пока не знал!) — ужасно. Было ощущение, что, уходя в Красную Армию, они натянули на себя самое худшее… В Ленинграде Алеша ходил с отцом в Щербаковские бани. Женька Болотин тоже вспомнил Щербаковские бани: — Отец там любил пиво попить. И бани, конечно, классные! Саша Невзоров говорил уже скромнее: — А я в Щербаковских ни разу не был… Зато был на улице Некрасова в Бассейнах. Там тоже неплохо. Говорят, раньше буржуи мылись. Все они, конечно, сникли, попав в армию. Но Сашу как-то особенно было жаль. В дороге он главный — со всеми предписаниями и документами. Сам военный из военкомата в Ленинграде так решил. А тут… — Буржуи и в Сандуновских мылись, и в Центральных в Москве, — азартно продолжал банную тему историк Костя. — Я с отцом туда ходил, когда жил в Москве, но Сандуновские, ясно, лучше, чем Центральные! Там, ну, как в Елисеевском! Историка Петрова, Костю, Константина Михайловича, тут же в бане быстро разоблачили: — По части «Петерпаульшуле» ты все придумал. Какая «Петерпаульшуле» после революции?.. — А у меня там отец учился. Правда! — пытался оправдаться Костя. — А я в немецкую группу ходил. А потом в двадцать девятую школу. Она в Старосадском… Как хотите, проверьте!.. Но эта баня — в зарубежном (бывшем зарубежном!) городе Долина — очень интересно. В бане их остригли. И не только головы. Остригли все. А парикмахер каждый сам себе. Потом они мылись и парились… И свою прежнюю гражданскую одежду уже больше не видели. Ее сложили в мешки с бирками. Старшина батареи ругался, запихивая в очередной мешок старое барахло. К одежде ленинградцев он относился спокойнее. — У вас хоть одежда приличная! Старшина выделялся по-прежнему, он запарился, да и хлопот у него хоть отбавляй! Как зовут его, никто не знал, хотя Алешу очень подмывало спросить его, но он не решился. «Товарищ старшина» и «товарищ старшина» — и так ладно. Обмундирование старое, стираное-перестираное, ношеное-переношеное. Выданная одежда оказалась не по размеру. А нижнее белье… Оно или лопалось на тебе, или болталось, как на огородном пугале. Старшина предусмотрительно принес иголки и нитки. Кто умел, тот что-то подшивал. В казармы возвращались уже в форме. Чистые. Старшина, кажется, доволен. — Сорок минут отдыха, а потом — обед, — сказал он негромко, распуская строй перед казармой. Они завалились на двухэтажные нары и сразу же уснули. На обед их еле подняли. После обеда опять сон — «мертвый час». А после сна — конюшня. Они драили их как могли. Но лошади по-прежнему брыкались.Х
А лошади все-таки были прекрасны! Почему-то ни в детстве, ни потом, в Академии, Алеше никогда не приходилось рисовать лошадей. Только бронзовых гордых красавцев барона Клодта на Аничковом мосту. Да мало ли что он раньше не рисовал. Портреты стахановцев писал, а — Веру? Даже в голову не пришло. А сейчас, в первые дни красноармейской службы, вспомнил, пожалел. Маму не рисовал. Баб-Маню. И главное — отца. А ведь рисовал тогда других. И — запросто, шутя. Если в присутствии Женьки Болотина, то он и дружеские хохмы в стихах писал. Домой он еще не собрался написать. А Вере написал — кратко. Сообщил и о лошадях. Совсем как бы между прочим: «У нас тут лошади. И я рад…» Старослужащих лошади спокойно подпускали к себе. Старослужащие — это те, кто в армии второй год. Ну, а Хохлачева — подавно. Мягкий Хохлачев, который сопровождал их в баню, на самом деле был суров. В казарме и особенно на конюшне: — Красноармеец Горсков! Что вы делаете! — И следовали страшные слова: — Два наряда вне очереди! Наряды сыпались как из рога изобилия, и никому пощады не было. Чистили лошадей… У Алеши скребница и щетка. Он ездовой. Он — «корень» у зарядного ящика. Это вне конюшни, на занятиях. А тут две лошади его. Костыль — жеребец, Лира — кобыла. Две лошади. Они его пока еще не принимают. А между ними надо не только пройти, но и почистить их. — Заходи! — командует старшина Хохлачев. И они заходят. У каждого, «академика» и не «академика», по две лошадиных персоны… Лошади бьют задами. — Что вы делаете! — кричал Хохлачев, уже не ему, а, кажется, Косте Петрову, но лошади не пугались его крика. Наоборот, успокаивались и переставали брыкаться… — Милая, хорошая моя, стань спокойно! И ты, милая, хорошая… — так Алеша разговаривал со своими двумя подопечными. Чистка каждой — полтора часа. Выскрести, помыть, шерсть привести в порядок. Стремена чистили толченым кирпичом. Надо растолочь кирпич, а потом им выдраить стремена до блеска. Иначе Хохлачев забракует. И тогда снова: — Два наряда вне очереди! Поначалу еды хватало. Казалось, даже много. После, уже если и были наряды вне очереди, считалось счастьем попасть на кухню… Они принимали эти наряды как благо. Верховая езда каждый день. Первый раз Алеша упал. Ушибся, но обошелся без санчасти. Другие падали хуже. И каждый день шагистика на плацу. Плац, вытоптанный сотнями солдатских сапог, пылил. Лишь по краям его росла чахлая травка, тоже насквозь пропыленная. У заборов заросли крапивы и кусты малины без ягод. Тоже все в пыли. И опять конюшни. Постепенно лошади стали к ним привыкать. Алешины уже признавали его, когда он сыпал им овес в торбу — одну на двоих. — Мне начальник клуба говорил, что вы все — художники, академики, — как-то сказал старшина Хохлачев. — А посмотрю на тебя: стараешься. Значит, понимаешь наше красноармейское дело…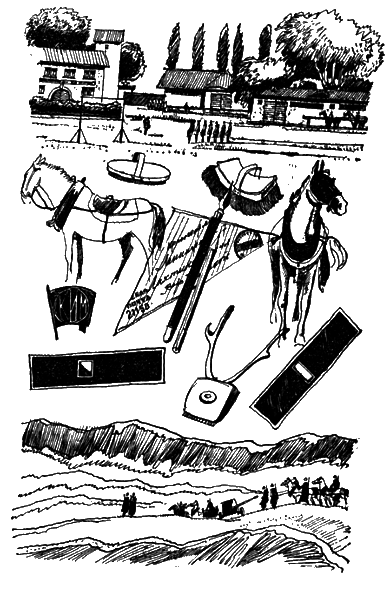
Алеша был в тот день дневальным по конюшне. Вечером он написал письмо маме и баб-Мане. Что-то еще рассказал о новой своей жизни. И второе письмо — Верочке. Тоже короткое. И с намеками, чтобы она ему писала. Но пока писем ни от кого не было. Впрочем, сам виноват: только сейчас сообщает свой адрес… Прошли летние месяцы. Прошли осенние. Постепенно к армейской службе привыкли. И Костя Петров со своей придуманной «Петерпаульшуле» стал другим… Освоили коновязь. Костыль и Лира Алешу признали. И Мирон, Взятка, Полуша, Сноб признавали тоже. А еще ребята узнали, как даются лошадям имена. По родословной и по алфавиту. Кто мать, кто отец… Оказывается, у лошадей своя система. Освоили команды, самые страшные: — На вьюки! Восемь минут. Пушка в разборном виде грузится на лошадей. — На колеса! Семь минут. Колеса — ноги. Лошадиные и их, человечьи. Кажется, слова «колеса-ноги», а может быть, «ноги-колеса» выдумал Слава Холопов или Ваня Дурнусов… В декабре 1940 года — поход. Вся 96-я горнострелковая дивизия. Их — 141-й артиллерийский полк. Боевая тревога. Первый настоящий поход! Почти боевой! Куда, что, зачем? Никто не знает. Но командиры знают, конечно. Мороз. Страшный снег. Места горные, точнее — холмистые. Дороги никудышные. Лошади скользят, вязнут в снегу. Зарядный ящик прыгает, тоже скользит, тянет назад… А он, Алеша, — «корень» у зарядного ящика. Пожалуй, только сейчас он понял, что такое «корень», и слова старшины, бывшие ранее абстрактными, обрели свое реальное содержание… Тем, кто с пушками, было еще трудней. Они с Женей, Сашей и Костей останавливались, чтобы помочь другим. Лошади выдыхались, а они тянули… Снег глубокий, до полуметра. Настоящая целина. Небо в тучах. Леса, припорошенные белым. Возвышенность и овраги, в которых легко утонуть. Лошади падали, проваливались. Приходилось тащить их на себе. Марш-бросок, как потом узнали, был в Каменец-Подольск. Триста километров по снегу, по холмам, по непроезжим дорогам. На ночь из двух плащ-палаток делали одну. Костров разводить не разрешали. Согревались как могли. Две бессонных ночи и третья. Потом дождь, и ночью опять холод. Старшина Хохлачев рычал: — Лошади набиты! Понимаете? Думайте хотя бы о лошадях! Ведь у набитой лошади шерсть сбивается, потертости, кровь… Пора уж научиться заседлывать. Не мальчики! Война же рядом! В походе были обмороженные. Истертые до крови ноги. Но до Каменец-Подольска все же дошли. Их расчет без особых потерь: трое ездовых с пушкой на лошадях, трое — у зарядного ящика, который тянули Костыль с Лирой, командир, замковый и заряжающий. И шесть лошадей. В Каменец-Подольске собрали пушку. Стрелять не пришлось. Командир взвода Дудин похвалил: — Молодцы, особенно — новички! Политрук Серов поддержал: — Ваш расчет справился… И помкомроты Валеев: — Толково!
XI
Декабрь. Январь 1941-го. Февраль, март и апрель. Зима выдалась, как весна, мягкая, с легкими морозцами по ночам, с яркими зорями, с голубым солнечным небом днем. В апреле лопнули почки и нежно засверкала молодая листва. Сквозь сырую черную землю пробилась травка, и пошли звенеть-зеленеть свежие ковры. Птицы прилетели рано, а может, и совсем не улетали никуда. Заголосили, запели, зачирикали, радуясь теплу. Появились аисты. Осели на сараи и конюшни, не обращая внимания на людей, и занялись своим делом — сооружением гнезд. Закипела работа в полях и на огородах, в садах и прямо на улицах. Люди выравнивали разбитые за зиму дороги, вывозили навоз, перекапывали грядки. Мальчишки и девчонки бегали в школу уже раздетые. Приходили письма от мамы и от Веры. И он отвечал на них, хотя писал по-прежнему кратко. Опять на какое-то время Алешу забрали в клуб. Ему было неловко перед Сашей и Женей, но приказ есть приказ. И конюшни было жаль, и своих лошадей — Костыля и Лиру, к которым привык. И хотя лошадей в конюшне сто двадцать, а дневальных четверо — но все равно, когда он был дневальным, там было лучше… В клубе пришлось заниматься наглядной агитацией. Одновременно осваивать и шрифты — надо было переписывать уставы, уставы, уставы, в выдержках и подробно. Начальник клуба с одним кубиком в петлицах, лет под тридцать, опекал Алешу всячески. Фамилия оказалась — Кучкин. Он благоволил к Алеше и тем больше смущал его. — Горсков, — говорил он, почти извиняясь, — а у нас конно-спортивные соревнования… Ты знаешь. Что делать? Значки можешь? Я, сам понимаешь, без тебя пропаду… Начальство… Надо же что-то вручить победителям. Вместе с Кучкиным делали значки для победителей конноспортивных соревнований. Вроде получилось. Значки делали из консервных банок, благо жесть была хорошая. А он, Алеша, тем временем познавал службу. Стал хорошо разбираться в знаках различия: помкомроты Валеев — два кубика в петлицах. Командир батареи — три. Командир дивизиона — шпала… Дудин — командир расчета, а так — командир взвода — лейтенант. А начальник клуба Кучкин — один кубик. У них же, рядовых красноармейцев, в петлицах не было ничего, и потому каждый кубик — начальство. А шпала — высшее! Конноспортивных соревнований пока не было, хотя значки были сделаны, но к Первому мая в клубе готовился вечер с присутствием гражданского населения, и тут Алеше вместе с Кучкиным тоже пришлось поработать. Дни и ночи. Алеша не успевал не только в казарму к отбою, а иногда и поесть. Ели вместе с Кучкиным наспех, из его командирских харчей. И еще Первого мая предстоял парад в Каменец-Подольске. И там предстояло снова рисовать плакаты и лозунги для гражданского населения. Пришел перевод от мамы на тридцать рублей; и он, чтобы как-то отблагодарить начальника клуба, купил у какого-то гуцула, пусть дорого, поросенка, зажарил его, пригласив всех, кого посчитал нужным пригласить Кучкин, и с его же согласия — Невзорова, Болотина и теперь уже старых друзей — Дурнусова, Шумова, Холопова, Петрова. Посидели, выпили, а разговор все крутился вокруг наглядной агитации в клубе к Первому мая и той же самой агитации для гражданских лиц на параде в Каменец-Подольске. Говорили-говорили, и все было хорошо, как вдруг в клуб ворвался Хохлачев: — Вы что здесь делаете? Лошади без овса, конюшни не убраны, а вы тут, — он презрительно повел краем рта, — рассиживаетесь… Да еще с вами этот… Он явно намекал на начальника клуба… — Вам дорого это обойдется! — истерично выкрикнул прежде ласковый старшина Хохлачев. И выскочил из клуба. — Что-то мы не так сделали, — сказал начальник клуба Кучкин. — Или пригласить его надо было заранее!.. Не знаю, не знаю. Алеша считал себя более виноватым, чем все. Поросенок — его. И откуда у него вдруг такая явилась прыть, чтобы придумать этого поросенка и вообще подвести всех, но Кучкина прежде всего… На следующий день Алешу отозвали из клуба, и он отсидел пять суток на гауптвахте, на «губе», — со снятыми обмотками и ремнем. На «губе» сидел еще один красноармеец, неизвестно за что пострадавший, и они говорили почему-то только на одну тему: «Будет война, не будет?..» Ребята приходили на «губу», но их не пускали. А «губа» была отличная, не хуже обычной службы, только часовой стоял возле. Кормили лучше и больше, чем на воле, а тут, в Красной Армии, все время хотелось есть. Может, отсюда и родился этот проклятый поросенок, купленный на мамин перевод у скаредного гуцула?.. Но бессмысленность и бездеятельность угнетали страшно. Алеша знал, что характер у него — отвратный, говорил себе сто раз: «Не заводись!» — и опять внутренне мучился на этой «губе». Жалел товарищей, которых подвел, жалел Кучкина, жалел лошадей своих — Костыля и Лиру. Накануне Первого мая Алеша вернулся в казарму. На улице было жарко. Вот-вот зацветут черемуха и сирень. Из травы лукаво тянули свои головки лютики и одуванчики. Окна домов уже скрылись в листве деревьев и кустарников, по стенам вился плющ. Скрипели журавли колодцев, гремели цепи ведер, гоготали и крякали на улицах гуси и утки, копошились в пыли куры. Плохо смазанные телеги везли мешки с семенным зерном и рассаду, и мальчишки-возчики и солидные дядьки лихо замахивались кнутами. И вот поход в Каменец-Подольск на парад… Костыль и Лира, его лошади, вели себя прекрасно. И в походе, и на параде прошли отлично. На вторые сутки вернулись в Долину. В клубе были речи, танцы и его наглядная агитация. Только Кучкина не видно. Говорили, что его посадили под домашний арест. А у него семья — жена и дочка двух лет… Никто, Алеша тоже, не знал об этом. Красноармейцы почти не танцевали. Младшие командиры решались, но робко. Местное население — девочки и девушки — веселились, ждали кавалеров. Не дождавшись их, танцевали друг с другом. Духовой оркестр играл вальсы. Потом переходил вдруг на современное танго и утесовские, одесские мелодии. И песни из «Веселых ребят» и популярной «Моей любви». Танцевали, шутили, смеялись, но в разговорах все так или иначе возвращались к одному. — А как война, будет? Вернулись в казармы поздно, после отбоя, и, только легли, задремали, дневальный крикнул: — Подъем! Товарищ командир дивизиона!.. Все вскочили с нар — с первого и второго этажа… — Тише, дневальный! — сказал командир дивизиона. — Зря вы их разбудили. Мне не всех нужно… Пусть ребята спят. А вот Горсков мне нужен. Болотин, Невзоров… А Кучкин здесь? — Так точно! Кучкин стоял за спиной дневального. — Хорошо, — сказал командир дивизиона. — Я просил вас освободить… А теперь давайте выйдем… Спасибо, дневальный! Пусть ребята отдыхают. Они вернулись в казарму. Долго не спали. Все обсуждали случившееся. — А «шпала» — умница! — повторял Женька Болотин. «Шпала» — командир дивизиона Сухов, так его была фамилия, — явно всем пришелся по душе. За окнами стояла глубокая ночная тишина. Мерно шелестела листва деревьев, изредка пели какие-то птицы. Небо высветило звездами. Лунный свет просачивался сквозь крону деревьев, блестками падал на крышу казармы, на дорожки и тропинки вокруг. Пахло свежим лесом, травой, прелой прошлогодней листвой, лошадьми, сапожной ваксой… Назавтра утром, третьего мая 1941 года, по всем подразделениям дивизии, полка, дивизиона, батарей была команда: — Строиться! Такие команды повторялись часто. К ним привыкли. А поначалу всякое случалось. И Алеша не раз попадал впросак с обмотками, когда срочно поднимали ночью, и другие ребята тоже. Чаще после Алеши — Проля Кривицкий и Сережа Шумов. У них с обмотками не лади-лось не только в ночные подъемы, но и по утрам. Были, конечно, наряды вне очереди. Тут команда «строиться» прозвучала как-то особо. Кроме своих командиров, перед строем были политрук Серов и командир дивизиона Сухов. Комбат Егозин сказал: — С сегодняшнего утра мы — пятая батарея. Четыре орудийных расчета, взвод связи, разведка. Лейтенант Дудин и помкомроты Валеев вам доложат подробности. После обеда отбываем в новое месторасположение. Сна не будет. В пятнадцать тридцать команда: «На вьюки!» Через восемь минут: «На колеса!» Все ясно? Грузились в эшелон. Сначала — лошадей, следом технику, позже — самих себя. Команды «На вьюки!» и «На колеса!» выполнили. На станции команды последовали уже другие: развьючить, отделить пушки от лошадей… — Куда едем? — Война? В пути узнали: ближе к границе. Кажется, в Черновицы. Бывшая заграница уже не воспринималась так, как в начале службы. Они и старослужащие наконец-то смешались и стали ровней. Командиры уже не делили их на старых и молодых, а если что-то случалось, то чаще защищали молодых… Ехали долго. В пути кормили лошадей. Торба овса — на одну лошадь. Раньше торба шла на двоих. Алешины Костыль и Лира признавали его теперь даже в тряском поезде. Вздрагивали, тянулись мокрыми губами к рукам. Лошади были настороженны, но спокойны. Ни одного приключения. Местечко, куда они наконец-то приехали, называлось Куты. Где граница, никто не знал, но то, что командир их, 141-го, полка стал комендантом гарнизона, узнали сразу. Другая часть дивизии уехала куда-то в другое место. В Кутах только их полк. И дивизион, конечно. Маленький городок. Деревянные домики. Реже — мазанки. Крыши — солома. Редко — шифер. Еще реже — железо. Людей почти не видно. Но зелени здесь еще больше, чем в Долине. Город буквально утопал в листве кленов и грабов, ясеней и дубов, каштанов и невесть откуда выросших здесь берез. Березки были молодые, тонкоствольные, с мелкими, клейкими, блестевшими на солнце листьями. Куты лежали будто в огромном лесу или парке. Единственная дорога — через городок, а так тропки-тропинки, скрывающиеся меж стволов деревьев и кустарников, среди могучих корней. Корни старых деревьев пробивались то тут, то там и были похожи на каких-то чудовищных змей. Палисадники домов увиты плющом, за ними сады и огороды. Солнце заглядывало в окна домов и отражалось десятками зайчиков на стеклах, над колодцами вдруг вспыхивали маленькие радуги и так же быстро исчезали, когда хозяйки уходили с ведрами по домам. В середине городка стояла крошечная, почти игрушечная часовенка с католическим крестом, внизу еще сохранилась скульптура Святой Девы, выкрашенная в яркие тона. Христос был тоже аляповато раскрашен и резко дисгармонировал с почерневшим, в трещинах, деревянным крестом. Запомнилось, как чистили конюшни и сараи — под казармы. Строили нары, уже в три этажа. И коновязи. Спали пока на улице — было тепло. Только под утро накрывались шинелями, хотя на ночь не раздевались. Да, по сравнению с Долиной… Там жили как боги! Но был июнь, хороший месяц, сады еще цвели, все зеленело вокруг, и светило раннее солнце, которое не давало спать по утрам. Ложились поздно, а в пять, шесть уже приходилось вставать. Только на Костю Петрова раннее солнце не действовало. Спал, как суслик в норе. Никто уже не вспоминал вчерашних ленинградских «академиков», и наглядную агитацию на территории военного городка делал кто-то другой. Возились у коновязи. Лошади спокойно привыкали к новому месту, но все же иногда вдруг взбрыкивали. Были учения. Опять — «На вьюки!», потом — «На колеса!». Разработали свою систему, о которой начальство не знало. Главное в системе — рост красноармейца. Те, кто ниже ростом, вроде Саши, Жени, Сережи Шумова, разбирали пушку, будущие «вьюки», Те, что покрупнее или подлиннее — Алеша, Костя, Ваня, — поднимали пушку в разобранном виде, по частям, на лошадей. Они, лошади, высокие, и с малым ростом до них не просто дотянуться. Через Куты протекала маленькая, узенькая речушка без названия, с очень холодной водой, которая, видимо, начиналась где-то в горах. В этой речушке купали лошадей. И сами — закалялись, мылись. На политзанятиях все чаще и откровеннее говорилось: — Фашистская Германия… Адольф Гитлер… Экспансия… Мюнхенский сговор… Англо-французский блок… Поражение Франции… Предательство Петена… Козни мировой буржуазии… Польша — только начало… Костя Петров уже не говорил ни о каком договоре с Германией. Занятия продолжались и днем и по ночам. Если днем срывались из-за учений или боевых тревог (теперь тревоги назывались только боевыми), политзанятия проводили ночью, после отбоя. — Что-то будет, — говорил благодушный прежде Про-ля Кривицкий. — Гидравлики тебе не хватает? — шутил Слава Холопов. — Да при чем тут гидравлика? — начинал сердиться Проля. — Текстиль теперь будет главным, а не гидравлика, так? Это — слова Сережи Шумова. — Текстиль не текстиль, а положение действительно серьезное. И напрасно вы зубоскалите… Это — слова Вани Дурнусова. — Умница! — отвечал ему Саша Невзоров. — Вот уж правда кандидат наук, профессор. Все почему-то обращались к Алеше, к его опыту: — У тебя же отец погиб на финской… А Женька еще добавлял: — И у Веры твоей — отец. Где-то здесь, под Гродно… Получилось, что опыт его, потерявшего близкого человека еще прежде, но тоже на войне, мог в чем-то помочь. Или подсказать что-то. Даже Хохлачев спрашивал: — А ты, Горсков, как думаешь, война будет? В разговорах этих, конечно, было много от ожидания, по без страха, скорей наоборот: а вдруг не будет ничего? Двадцать первого июня, поздно вечером, снова была объявлена боевая тревога. Разбирали пушки и вьючили лошадей. Потом наоборот — развьючивали. Долго, до часа ночи, приводили в порядок конюшни. В три Алеше предстояло заступить дневальным по казарме. До трех все равно не уснешь, и Алеша засел за письма. Алеша написал два письма. Маме и баб-Мане и Вере. На том и на другом письмах поставил даты: 22 июня 1941 г. Ведь двадцать второе уже наступило, а утром он опустит письма в почтовый ящик… Зыбко дрожала темнота летней ночи. По черно-серому, невидимому, но явственно ощутимому небу время от времени пробегали светлые тени уже поднимающегося за горизонтом солнца… Эта смутная, легкая игра красок неожиданно вызвала у Алеши похожее на озноб желание сейчас же, немедленно взять в руки кисть или карандаш. Показалось, что ему открылась тайна того самого одно-го-единственного мазка, которого так не хватало раньше. Он судорожно нащупал в кармане маленький карандаш, вытащил блокнот и быстро сделал набросок Веры. Потом подошел ближе к свету, посмотрел на него и тут же разорвал. Пора было идти на дежурство.ХII
Ночь. Ничто не шевельнется, не шелохнется. Чуть скрипят стволы деревьев. Каким-то внутренним чутьем ощущаешь, что скоро начнет светать. Но рассвет в здешних краях приходит не сразу, а медленно. Чуть побледнеет небо. За лесами и холмами вспыхнет нечеткая полоска зари. А потом уже начнут оживать лес и окрестные поля, громче запоют птицы и тени запляшут между стволов деревьев. В три ночи он заступил на пост. По казарме. Ходил босиком. Ботинки прохудились, и он подготовил их для ремонта. Точнее, оставил у нар. Зачем надевать, если здесь тепло. Утром бросит письма в полковой почтовый ящик и сразу же сдаст ботинки. Сидел у входа в казарму. Ребята храпели и сопели. Кто-то вскрикивал. Кто-то вздрагивал. В пять утра в казарму неожиданно вошел дежурный по полку помкомроты Валеев в сопровождении двух младших командиров. — Тихо, тихо… Алеша хотел доложить. — Не надо, пусть спят, — сказал он. — Как дела? Устали? — Ребята устали, — доложил Алеша. — Почему без обуви? — спросил Валеев. — Ботинки в ремонте, — признался Алеша. — Не вовремя, — сказал Валеев. Алеша промолчал. Ботинки, хоть и худые, были. — Дневальный Горсков, — мягко сказал Валеев, — ну, бывай! Пока! Только неизвестно, как долго нам спать осталось… Грозой пахнет. И они вышли. На улице светало. Какой-то серенький день. В шесть утра Горсков прокричал подъем. Впервые была команда не «на физзарядку!». Так распорядился Егозин: — На конюшни! И — коновязь! Не все лошади умещались в недостроенной конюшне. Многие стояли на улице. Алеша после ухода ребят драил казарму. Ботинки надел, пусть худые, и — обмотки. Швабра хорошая. За десять — пятнадцать минут выдраит. Где-то гремело. Словно гром. И в туманном утре — широкие сполохи. Пятнадцати, а может, и десяти минут не прошло, как в казарму ворвался Хохлачев: — Кончай, Горсков! Война. Алеша бросил швабру. — Ждали. Ну, вот и началось, — спокойно бросил Хохлачев. Вбежал политрук Серов: — Боевая тревога! — И добавил уже тише: — Подготовиться! Они собрали вещи. — Что дальше? Заходили помкомроты Валеев, так и не снявший красную повязку дежурного по полку, и комбат Егозин, и командир взвода Дудин, и другие. Все говорили одно: — Полная боевая готовность. Ждите! Женька Болотин спросил неопределенно Валеева: — А как там? И показал рукой куда-то в сторону границы. Спросил не по-армейски, но Валеев ответил серьезно: — Дивизия там уже воюет. Насмерть стоит. Наш полк — частично. Наш дивизион пока в полной боевой готовности… Будем ждать! А здесь было на редкость тихо. Смотрели через окно в небо. Голубое, спокойное, ясное. По-прежнему чуть слышно дышал лес, и солнце, пробиваясь на поляны и опушки, играло в паутине. Изредка проносились бабочки и стрекозы. Кипела работа в муравейниках. Где-то прогромыхал трактор, проскрипела телега, и опять безмолвие. Наконец издали послышалась канонада. Все встрепенулись: — Гром? — Может, и гром… И снова удручающая тишина. — Нет, не гроза это… — Может, и не гроза… Начальство приходило и уходило, а они пока оставались в казарме. Молчали и бегали к лошадям по приказу. Лошадей и в конюшне, и на коновязи оставалось все меньше. И пушек на плацу, рядом, 76-миллиметровых пушек, все меньше… Из лошадей уже исчезли Сноб, Палуша и Взятка. Алешины Костыль и Лира, Вани Дурнусова Мирон и Соня — остались. Лошади вели себя беспокойно. Они настороженно поднимали уши, вздрагивали, косили дикими испуганными глазами. — Война! Видно, лошади тоже чувствовали это. Алеша успел, несмотря на суету, бросить в почтовый ящик письма. Сбегал в Куты. Успел сменить ботинки и даже обмотки. В Кутах — два километра — куда он в новых ботинках и обмотках бегал на почту, не было людей. Редкие военные части — пешие, конные, броневики, торопливо идущие на запад, в сторону границы. А штатских никого. Словно исчезли все или скрылись по домам. Куры мелькали на улице, гуси и утки возле речки крутились, где они мыли лошадей и купались сами, а над домом почты мерно развевался красный, невыгоревший, словно вчера вывешенный, флаг. Но и тут удивительно пусто. Пока Алеша возвращался к себе в казарму, бежал, торопился, поскольку отпустили его на «две секунды», почти возле их военного городка встретился ему на пути красноармеец. Гимнастерка потертая, и все потерто, в грязи, пыли, голова забинтованная. — Браток, а санчасть у вас далеко? — Не знаю, — растерялся Алеша. — А ты? Вы — откуда? — Ладно, — сказал красноармеец, — найду. У меня, браток, знамя под этой гимнастеркой. Всех — начисто. А я — живой. Иди, иди, ты — необстрелянный. А я найду и дойду. Бывай, браток! В казарме им выдали по пятнадцать патронов для карабина. Каждому по пятнадцать. Их 96-я горнострелковая дивизия уже воевала. Их 141-й артиллерийский полк воевал. А их дивизион, их батальон остались здесь, в Кутах. Как говорили, командир-интендант стал начальником гарнизона. Почему не Сухов, уж если их дивизион остался здесь? Ведь раньше начальником гарнизона был командир полка… Вроде грохот вокруг стал тише. И сполохов — меньше. Теперь на улицах города появились гражданские. У военкомата шла мобилизация. Рядом с призывниками плакали женщины и дети. Наголо остриженные, белоголовые призывники чувствовали себя неловко. Днем и по ночам — тревоги. У себя. И в городе. Искали немецких парашютистов. Говорили: десант за десантом. Обыскивали в Кутах все — каждый домик, каждый огород… Стреляли. Радио у них не было. Газет не получали. На четвертые сутки услышали выступление Молотова от 22 июня. Им прочитал его политрук Серов. Оно было серьезное и спокойное: «Враг будет разбит! Победа будет за нами!» Спрашивали себя: — А что — Сталин? И сами себе отвечали: — Сталин, конечно, на посту! И уж со Сталиным, с товарищем Сталиным мы победим! Да и вообще война скоро кончится. В гражданскую куда труднее было, а победили. А тогда, помимо белых, сколько буржуев против нас воевало: и англичане, и чехи, и французы… Одно слово — Антанта!.. А потом — шпионы, самураи всякие и белофинны: победили! Это уже при нас. Все помнится. И Ленинград — самый фронтовой город в России. И лошадки, почти такие же, как сейчас, ползущие с ранеными по проспекту 25-го Октября… И отец, погибший там, на «линии Маннергейма»… Правда, лошадки там были какие-то другие: приземистые, выносливые, покрытые инеем и испариной. А тут — красивые, грациозные, крупные. Саша и Женя — старые друзья по Ленинграду — рядом. Каждый за эти месяцы красноармейской службы что-то открывает новое в себе и в других.
Дни и ночи тяжелые. Все стали взрослее и серьезнее. Костя Петров, которому уже давно забыли «Петерпаульшуле», говорил: — Я вот все думаю. Не товарищ Сталин, а Молотов выступил… Молотов ездил в Берлин. В Москве Риббентропа встречал. Товарищ Сталин не встречал Риббентропа. И не виделся с ним… Тут что-то есть… — Ты прав, Костя, — говорил Саша Невзоров. — Зря раньше спорил. Конечно, есть… Шли всякие разговоры. Но это — мельком. Остальное — серьезнее. Да и не до разговоров сейчас. После выдачи пятнадцати боевых патронов на человека выдали каски. Вместо буденовок. Каски металлические. Через Куты тянулись подводы и реже — машины с ранеными. Днем и ночью искали немецкие десанты. Подозревали всех, поскольку немцы выбрасывали десантников в красноармейской форме. Алеша все вспоминал: «А тот раненый с перевязанной головой, который искал санчасть, — не десантник, не немец? А говорил: «Бывай, браток!..» Рядом опять грохотало. Шел дождь. Дул ветер. Не холодно, но в лесу промозгло. Лес вздыхал и шумел. Скрипели стволы деревьев, шелестела листва кленов и вязов. Крупные капли падали на голову, на лицо. Под ногами качались папоротник и высокие травы, листья ландыша и лесные колокольчики. Алеша был часовым у артиллерийских складов. Ящики со снарядами покрыты листами железа. Караульное помещение далеко — километра полтора. Стоять два часа. Скорее бы смена! Предупредили о возможном десанте. О парашютистах, которые могут быть в красноармейском обмундировании. — Стой! Кто идет? Назвали пароль: «Верность». Их пароль. Горсков отозвался: — «Сила»! Это был его пароль, дежурного у артиллерийского склада. Подошел разводящий с какими-то командирами. Подъехали машины «ЗИС-5». Распломбировали склад. Стали грузить ящики со снарядами и патронами. Горсков не узнал поначалу одного из командиров, хотя тот и сказал: — Службу несешь хорошо, Горсков! А тут мы с машинами… Нашумели! Это был начальник клуба Кучкин. Горсков давно его не видел. Три-четыре дня, а может, и неделю. — Простите, не узнал, — сказал Алеша. — Чего там — узнал не узнал! Как ты? — А вы? — вырвалось у Алеши совсем не по-красноармейски. Он тайно питал к Кучкину самые нежные чувства. — Воюем, Горсков! Война! Сам знаешь, — сказал Кучкин. — Плохо там, на передовой… Вот за снарядами и патронами приехали… — А клуб? — Алеша явно произнес глупость. — Какой клуб, Горсков? Командира полка сегодня похоронили. Насмерть стоим, а ты… Командира полка, понимаешь?.. Погиб командир полка, который был начальникомгарнизона. Вот почему глухой грохот батарей и сполохи — все рядом! Три «ЗИС-5» погрузили. Склады опять запломбировали. — Бывай! — сказал Кучкин. И они уехали. Ветер глухо завывал в лесу, раскачивая деревья и травы. Дождь усиливался какими-то порывами, и с деревьев слетали крупные капли, а то и лились струи воды. До смены оставалось полчаса или минут двадцать. Часов у Алеши не было. Рядом шла война. На их границе, которую он пока не видел, и на всех других. Уже погиб командир их, 141-го, полка. И конечно, не только он. А они тут в Кутах? Как, что, почему? Почему не там? Он не слышал о всеобщей мобилизации по многим округам, о введении военного положения чуть ли не на трети территории страны, в том числе в Ленинграде и в Москве. А первая сводка Главного командования Красной Армии сообщала: «С рассветом 22 июня 1941 года регулярные войска германской армии атаковали наши пограничные части на фронте от Балтийского до Черного морей и в течение первой половины дня сдерживались ими. Со второй половины дня германские войска встретились с передовыми частями войск Красной Армии. После ожесточенных боев противник был отбит с большими потерями. Только на Гродненском и Кристынопольском направлениях противнику удалось достичь незначительных тактических успехов и занять местечки Кальвария, Стоянув и Цехановец, первые два в 15 км и последний в 10 км от границы. Авиация противника атаковала ряд наших аэродромов и населенных пунктов, но всюду встречала решительный отпор наших истребителей и зенитной артиллерии, наносивших большие потери противнику. Нами сбито 65 самолетов противника». Через неделю их дивизион выступил на соединение с войсками, которые были у границы. С их товарищами из дивизиона, из полка, которые уже воевали. Разбирали пушки. Вьючили лошадей. Костыль и Лира были на высоте. Алеша справился с ними почти запросто. Походя командир дивизиона бросил: — Как фамилия?.. Горсков — помню! И умчался. Они, дивизион, выступили. У старослужащих — сапоги кирзовые. У них — ботинки с обмотками. Алеша поменял ботинки, но они жали. До боли! Впрочем, какие ботинки, когда война!.. Он сменил три пары ботинок. Дурацкая нога. Сорок пятый! — Таких нет, Горсков, понимаешь?.. Он понимал. Нет так нет! Но ботинки у него сейчас чужие — более или менее подходящие, да жаль, что нужно обмотки мотать. А это — время! Кирзовые сапоги проще! Через Куты шли раненые и беженцы. Уже без машин. Шли пешком. Красноармейцы с повязками и штатские с детьми. На тележках, которых Алеша никогда не видел, везли и вещи, и ребят малых, и древних старух. Шли, отступая, от немцев. Шли на восток… В Кутах, где все было так пристойно, когда они приехали сюда, — и клуб, и танцы, и наглядная агитация! — вдруг сразу все изменилось. Безлюдные прежде улочки, сады, огороды, дома возле речки, где они купались и мыли лошадей, ожили. Появились странные люди, срывавшие флаги. «Что это значит? — беспокойно думал Алеша. — Мы же освободили их». Ругался Саша Невзоров. Матерились другие. И потом уже, когда их колонна вышла на окраины Кутов, благодушный Проля Кривицкий озадачил: — Ребята, вы плакат видели? Там, в Кутах? — Какой? Видели многое, а плакатов вот не заметили, в том числе и тех, которые сами совсем недавно рисовали для жителей города. — Плакат страшный, — сказал Проля. — Почему страшный? — не поняли. — Да потому, что на нем написано: «Геть большевиков, и войной — на Москву!» Это сообщение всех потрясло. — А что такое «геть»? — «Долой» по-украински. — А белые флаги видели? Простыни, простыни и прямо флаги — белые? Никто не видел. Проля заметил, а из них никто не заметил. Их обстреляли. Кто? Сообразили: со стороны города Куты, откуда они пришли. Заняли круговую оборону на высоте. Сняли с лошадей пушки, собрали… Копали позиции для пушек. Подкапывали землю, чтобы укрыть лошадей. Земля была сухая, песчаная, с корнями прошлогодних трав и прожилками чернозема. Саперная лопатка брала ее легко. Со стороны Кутов действительно стреляли. Ночью над их позициями эшелон за эшелоном проходили на восток немецкие самолеты. Шли куда-то дальше, их не бомбили. Под утро в траншеях появился командир дивизиона Сухов: — Где тут красноармеец Кривицкий? Проли Кривицкого рядом не было. — Кто ходил вчера в разведку? Ему доложили: Горсков, Болотин, Холопов, Кривицкий… — Кривицкий? Знаю, — отрезал командир дивизиона. — Всем благодарность! А Кривицкому — особо. За то, что он заметил в Кутах то, на что мы, к сожалению, не обратили внимания. Вот нам сейчас и аукается… Утром перестрелка стихла. Только немецкие самолеты эшелонами летели на восток и назад. Лейтенант Дудин послал троих — Пролю, Сашу и его, Алешу, — разведать, что в городе. Они сначала поползли, а потом двинулись спокойнее в сторону пшеничного поля, дабы оттуда незаметнее подойти к городу. Не стреляли. И вдруг — почти на выходе к городу — труп, и еще один, и уже три, четыре, пять… Изувеченные люди, а на груди каждого была аккуратно приколота английской булавкой бумажка с надписью «Активiст». Трое мужчин, две — женщины. — Опять по-украински? — Они ведь тоже, наверное, украинцы… Растерялись. Не знали, что делать. Даже забыли о своем задании. Саша сказал: — Надо похоронить. Как вы думаете? — А закон? — спросил Проля. — Ведь это же убийство, преступление… Похороним, а кто отвечать будет?.. Милиция с нас спросит? И как хоронить? Пять трупов. А у них даже саперных лопат нет. Не взяли. Сумки с противогазами взяли. Чем землю копать? Но солнце, и жарко, и как бросить этих людей с табличками «Активiст»? Решили: — На обратном пути… А сейчас в город!.. Так сказал Саша Невзоров. Они вышли из пшеничного поля к первым домам. В городе было все поразительно тихо и спокойно. Словно и войны нет. А кто же убил этих активистов? Людей не видно. Даже куры не бродят вокруг домов. Гуси и утки исчезли. Коровы не мычат. А кто же стрелял по ним, когда дивизион выходил из Кутов? А позже кто стрелял? Может, тут немцы, десант? Сейчас в Кутах тихо, и они спокойно прошли на главную улицу. Советских флагов действительно уже не было — ни у почты, ни у райвоенкомата, ни у других учреждений… Поток раненых на телегах. Страшное зрелище! По главной улице — с интервалами — ползли чахлые лошадки, очень редко — машины. И всюду перебинтованные красноармейцы… Увидели еще раз и белые флаги: флаги, и полотенца, и простыни, вывешенные из окон домов и на палисадниках, да не как-нибудь, а на специально поднятых палках. И плакат: «Геть большевиков, и войной — на Москву!» — заметили. Он висел на видном месте, рядом с почтой. Там, вероятно, было какое-то советское учреждение: может, райком или райисполком… — Проля! А ты был прав! — сказал Алеша. Уж очень спокойно на улицах городка. И потому еще более беспокойно. — Я, в отличие от вас, в очках, ребята, — отшутился Проля. — Лучше видно! — Его командир дивизиона за это хвалил. И так ясно! — сказал Саша. — Лучше подумаем, что делать… «Разведать, что в городе», — таков был приказ Дудина. — Может, лучше сюда было прийти в гражданском? — шепнул Проля. Алеша и сам думал об этом, хотя никакого опыта на этот счет у них не имелось. — Немецкие десанты в красноармейском, а мы, дураки, в своем, — подтвердил Саша. — И все же: выбираться надо. Доложим, что видели. А лопату по пути надо достать!.. Саша-умница вспомнил о том, о чем они с Пролей сейчас почти забыли. Лопата нужна, чтобы на обратном пути как-то похоронить этих активистов. — Ты же сам говорил, что милиция… — Ладно, милиция… А люди лежат… И жара! Вы хоронили когда-нибудь? Нет, Алеша никогда не хоронил. Даже отца, погибшего на Карельском перешейке. — А ты что — хоронил? — спросил Проля у Саши, когда они направились из Кутов в обратный путь. — Пришлось, — сказал Невзоров. — Лучше не надо! Выяснять подробности времени не было. Они шли обратно. А город был пуст. И флагов наших — нет. Есть белые простыни, полотенца, какие-то тряпки — все белое. Чего ради? Слова «капитуляция» они еще не знали. Это слово появится как законное не скоро, потом, в сорок пятом году… Они пришли сюда как свои… Кто кому сдается? Опять немецкая авиация появилась в небе. Не бомбили, а летели куда-то в глубь России, на восток… Мерно и нудно летели. Нашей авиации нет. Обидно, горько, но нет ни одного самолета. Поговаривали, что немцы разбили все наши самолеты па аэродромах. Так это или не так? На окраине Кутов появились странные парни. Те же, что встречались и раньше, — в праздничной национальной одежде. У одних — карабины. У других — автоматы. Судя по всему, автоматы не наши: у нас, даже в дивизии, таких автоматов не было. Стояли, улыбались, пропуская их, трех красноармейцев, о чем-то негромко разговаривая между собой. Так было и раз, и два, и три, пока они не подошли к последним домам и Саша снова не вспомнил: — А лопата? — Я сейчас, — сказал Проля. Он побежал в какой-то домик, который не походил на русскую избу, небольшой, чисто сделанный, и крыша — шиферная… Проли долго не было. Беспокоиться не беспокоились. Ждали. Проля вернулся с лопатой: — А сволочи! Лопаты пожалели! К ним явился как человек. И в дом зашел, чтобы попросить по-людски. А они: «Нет, нет и нет!» — твердят. Вышел, сам взял. Ну и гады! Пусть подавятся из-за нее! А когда сказал: «Похоронить надо ваших же, гражданских…» — так посмотрели на меня… Их самих бы перестрелять!.. Они выходили обратно в сторону пшеничного поля. Туда, где лежали активисты. — Сказать Дудину нечего… — Что видели, то и скажем… И вдруг их обстреляли. Опять оттуда, теперь со спины. Они не успели дойти до края пшеничного поля, как сзади раздались выстрелы. Автоматные. Залегли в сухую обочину. Опять растерялись. Только Саша бросил: — Говорил, сволочи! — Может, немцы? — спросил Проля. — Какие немцы?!! Посмотри! Из укрытия они увидели ребят в светлых праздничных рубахах с автоматами. Их было трое. Они довольно профессионально перебегали от бугорка до низинки и стреляли им вслед. — Вот они! За лопату мстят! Немцев, сволочи, ждут! — сказал Проля. Потом пояснил: — Когда я в дом этот за лопатой пришел, там такие были! Думал, ошибся… Сидели, улыбались!.. Они не отстреливались. Где уж им было с карабинами да чахлым запасом патронов! До поля, пшеничного поля, оставалось уже метров десять — восемь, не больше, когда случилось что-то непредвиденное и страшное. Они с Сашей были чуть впереди и вдруг услышали: — Ребята! Проля лежал скорчившись, держась одной рукой за живот, другой — за спину. Карабин и лопата валялись рядом. — Кажется, садануло, — тихо сказал он. И почему-то улыбнулся. Со стороны Кутов раздалась еще одна автоматная очередь. Они потащили Пролю в пшеницу. — Лопатку не забудьте, ребята, карабин, — виновато приговаривал Проля. — Что ж это такое… А-аа? И очки! — Подожди! Подожди! Молчи! Сейчас! Сейчас! — шептали они от волнения. Алеша первым заметил у Проли кровь на гимнастерке. Их руки тоже были в крови, в Пролиной крови. Что делать? Соображали плохо. Просто тащили Пролю в глубь пшеничного поля. А вслед — опять автоматная очередь. Рядом — трупы активистов, и по ним уже ползают мухи, зеленые, большие, и Проля все это видел. Он стонал, но улыбался: — Ничего, ребята, ничего… Сейчас все пройдет. Только попить бы… Воды у них с собой не было. Фляжек и то не взяли. Стянули с него гимнастерку, нижнюю рубаху. Она была вся в крови. Рана впереди и сзади. Вернее, наоборот. Ведь стреляли в спину. Сделали перевязку. Неумело, как прежде, на занятиях, сдавая нормы ГСО. Рвали Пролину рубаху, чистые от крови куски, ими пытались перевязать. Проля стонал и говорил уже только одно: — Попить, ребята!.. Попить бы!.. Ох, всем бы попить! Так было душно и жарко. Пшеница — высокая, красивая, с набухшими, тяжелыми колосьями, ни хотя бы легкого дуновения. Воздух словно тяжело замер под ярким страшным солнцем, и только мухи звенели и жужжали над трупами активистов. Кажется, Проля уже не замечал ничего. И не просил: «Попить!..» Лоб его и лицо покрылись холодной испариной. Дышал тяжело, закрыв глаза. Без очков он казался каким-то забавным, непривычным. А очки они так и не нашли. Лопату взяли, карабин… Про очки просто забыли, хотя Проля просил. Не до этого было. Вдруг, не открывая глаз, он засуетился, стал приподниматься. — Ребята, не вижу вас!.. Это было четко и ясно сказано, и они стали успокаивать его, укладывать, бездумно произнося обнадеживающие слова. Но он вроде и не слышал их: — Не вижу, понимаете, не вижу… Я ведь без очков и так… Был ограниченно годен, но это до войны… Понимаете, а сейчас, когда такое началось… Война скоро кончится, но мы… Как же я без очков? Ведь я вас не вижу, ребята. Алеша? Ты? Саша? Ты? Я не вижу вас!.. Понимаете, как это страшно!.. — Я сейчас, Проля! Сейчас! — Саша бросился туда, где Пролю ранило. Он исчез. — Проля, милый, славный наш Проля, — шептал Алеша. — Сейчас будут твои очки. Ты их потерял, Сашка Невзоров найдет. Сейчас… Потерпи, сейчас! Только исчез Саша, как со стороны Кутов снова ударила автоматная очередь. Проля продолжал что-то говорить, Алеша вздрогнул: опять!.. За Сашу боялся и за себя: остался с Пролей один, а вдруг?.. Вернулся запыхавшийся Саша, и, как ни странно, с очками. — Нашел?! Надели Проле очки. — Спасибо, ребята! Спасибо! — говорил он. — Теперь я ожил. Теперь до победы с вами… Не бойтесь, это не красивые слова, но мы этих немцев… Он открыл глаза, уже под очками, и сразу замер. В глазах, а может, в стеклах, блеснуло солнце, а потом что-то голубое… — Сними очки, — попросил Саша Алешу и заплакал. — Сними немедленно! Алеша в испуге снял. Его рука ощутила на лбу Проли вязко-липкий пот. Скорее выдохнул, чем сказал: — Все? — Да помолчи ты, Горсков! Дай в себя прийти!.. И они долго опустошенно молчали. Потом Алеша, по совету Саши, прикрыл веки Проле Кривицкому. Интуитивно — никогда не знал, что и как делают в таких случаях! — прижал Пролины веки двумя пальцами и долго держал свои пальцы на них, пока глаза не оказались закрытыми. При этом думал он, чудак, и об отце своем, и о Верином: как это все там было? А тут вот — он и война. Командир полка погиб. И Проля Кривицкий. И — многие, многие, многие… Сейчас Саша был потерян и обескуражен. Тела убитых активистов, и вот — Проля, Проля Иванович Кривицкий, который казался мудрее и разумнее их… Убит! Это для них первая близкая смерть. Хотя и слышали о командире полка, и знают все, что было и есть на их границе, где люди уже гибнут, и на всех фронтах войны — а сколько таких границ! — тоже воюют и гибнут, конечно, смерть Проли Кривицкого потрясла. Был человек — и нет. Только что был! Вместе ели, вместе спали, говорили, дышали одним воздухом, и вот его нет. Он ушел навсегда. Странно и страшно! Рядом активисты, убитые кем-то… Кто они — комсомольцы или работники советской власти? И убиты страшно… Только на их одежду посмотреть! И в Кутах — сорванные советские флаги… Лежит рядом с активистами Проля Кривицкий, инженер-гидравлик, пришедший сюда, на Западную Украину, считая, что она наша, советская… Его убили не немецкие десантники, а кто-то из своих. — Что делать? Это Саша Невзоров спрашивал Алешу. Алеша предложил: — Давай похороним! Лопатка же есть! А что? Сам Саша до того, как они попали в Куты, говорил, что трупы активистов хоронить нельзя: мол, закон, милиция и так далее. И Саша сказал: — Давай так. Лопата есть. Проля принес. Похороним активистов, а там будем думать… Они одной лопатой копали глубокую могилу. Прямо в пшеничном поле. Дождей, начиная со дня начала войны, не было. Земля сухая. И пшеничное поле — корни, корни, корни… Саша брал на себя больше, но и Алеша старался: — Глубже? — Чуть-чуть. Иначе пятерых не похороним… Когда яму вырыли, начали искать у убитых документы. Но ничего не нашли. — Что будем делать с Пролей? — Может, отнесем к нам, в часть? — неуверенно предложил Алеша. Саша взвился: — Горсков, не валяй дурака! Сам говорил глупости по поводу этих активистов. Куда нести Пролю? И как нести? Давай лучше подумаем… Шесть покойников, и среди них — Проля Кривицкий. Решили похоронить Пролю отдельно. Но когда выкопали большую могилу для пятерых активистов, передумали: — Саш, а может, Пролю сюда же? Невзоров не возражал. Засомневался, но возражать не стал. Сказал только: — А как же — могила? Безымянная? Сколько лет Алеша был знаком с Сашкой Невзоровым, а тут открытие: оказывается, Саша, помимо Академии и всего, о чем Алеша знал, всю жизнь, с детства, увлекался выжиганием по дереву. С помощью лупы выжигал на фанерках всякие рисунки и даже получал какие-то дипломы на ленинградских детских конкурсах… — Давай и Пролю вместе с активистами, — согласился Саша. Сняли с Проли медальон, который им недавно выдали. Взяли документы. — Гимнастерку, медальон, документы возьмем с собой, — сказал Саша. — Вот нам бы еще дощечку какую-нибудь… Впрочем, поищем. У меня лупа есть! А сейчас — давай!.. Присыпали сухой, с комьями, в корнями пшеницы, землей. Среди пшеничного поля вырос высокий бугор. Потом, в ходе войны, такие могилы будут называть братскими: и на шесть, и на шестьдесят, и на шестьсот… Пытались найти кол или дощечку, но ни того, ни другого поблизости не оказалось: Сашина лупа оказалась бесполезной… Закопав убитых, они по-пластунски добрались до крайних домов Кутов и искали там, на задворках, все, что им было сейчас нужно: фанерку и колышек. Над пшеничным полем и над Кутами продолжали мирно лететь немецкие самолеты. Но разнаряженные в национальную одежду парни с автоматами, которые стреляли по ним, которые убили Пролю, исчезли. Саша принес фанерку. Да не одну, а две. Алеша три колышка — на выбор. Невзоров достал лупу и под палящим солнцем стал выжигать: «Красноармеец П. И. Кривицкий (1918–1941). И пять безвестных активистов, погибших в Кутах. Слава героям!»
ХIII
В глазах у Алеши все стояли эти активисты и Кривицкий. И общая их могила. Все в трагическом цвете. За пшеничным полем начинались заросли дикого шиповника с небольшим ручейком и лес, из которого они вышли. Теперь их путь лежал обратно. В ручье умылись и попили. Лес встретил их глухой прохладой, спокойствием и величавостью. Ноги мягко ступали по мшистым тропинкам. Они умышленно шли не по дороге, сокращая путь. Изредка попадались земляника и ландыши. Земляника, пахучая, отлично утоляла жажду. Говорить не хотелось, шли молча. Могли спасти Пролю Кривицкого. Могли, наконец, принести его тело в часть. Могли, могли, могли… А его похоронили в поле с активистами, неизвестно как погибшими. Похоронили без гимнастерки и даже без нательной рубашки, которую изорвали на бинты. Дудин взял документы Кривицкого, медальон: «Жаль парня… Сообщим родным…» Командир батареи Егозин особенно интересовался, что в Кутах. Потом вызвал командир дивизиона Сухов. Слушал, долго расспрашивал: — Обстановка здесь, братцы, трудная, — сказал. — Да и украинские националисты, и влияние разное… Кого только тут не было: и венгры, и румыны, и поляки… Советская власть — без году неделя. А тут — война! Была бы возможность, наградил вас за разведку. Приказ по дивизиону отдам. А Кривицкого не забудем. Хорошо, что дощечку оставили. Вернемся, глядишь, не сотрется… Война идет серьезная, — продолжал Сухов. — Серьезнее, чем мы думали. Наши на границе потеряли больше чем две трети состава, не говоря о технике. Командир полка погиб. Шел врукопашную. Не сумели вынести. Будем отступать с боями, сохраняя живую силу и технику. Так! Алеша пошел к своим лошадям. Костыль, рыжий его Костыль, и Лира, тоже рыжая, но с голубым оттенком, а точнее с фиолетовым, встретили его ласково — обрадовались. Глаза их, встревоженные, непонимающие, доверчиво смотрели на Алешу. Лошади были запущены, нечищены, и Алеша взялся за них, чтобы привести в порядок. Раньше, в конюшне, это было проще, чем сейчас — на улице, под палящим солнцем. Над лошадьми крутились мухи, какая-то мошкара, слепни. Лошади без конца вздрагивали. Алеша чистил их, кормил свежей травой — овса сегодня не дали! — и все вспоминал пшеничное поле, на котором они с Сашей похоронили активистов и Пролю Кривицкого… На этой высотке, где они сейчас расположились, было две стороны. Западная, где держали лошадей, технику и где были они. Восточная сторона находилась под склонами горы. Выше, с этой правой, восточной стороны — траншеи и артиллерийские позиции. А там… Теперь-то Алеша знает, что там очень неспокойно. Другая сторона, левее от горы, была хозвзвода. Там и кухни. Готовили еду. Завтрак, обед, ужин. Вокруг было красиво. Горы и холмы, покрытые лесом и кустарником, буйное разнотравье, цветы — все это никак не вязалось ни с войной, ни с их пребыванием здесь. Но даже то, что они изрыли склоны траншеями и ячейками для лошадей, не испортило окружающей красоты. Каждый в дивизионе занимался своим делом. Алеша — лошадьми. А позже, по просьбе командира батареи Егозина, писал портрет командира полка. Правда, Алеша поначалу восстал: — Не могу… Не видел! Понимаете, не видел… — А он погиб, Горсков! Понимаешь, погиб! — Это сказал политрук Серов. И добавил: — Есть старые фотографии… Тридцатых годов. В Академии, а раньше на курсах политсостава. Тридцать четвертый. Наконец, Испания. Он там был. Подумай, Горсков! Может, и для истории это важно. Подумай! Он за ночь нарисовал портрет командира полка. Молодой, может, моложе их, нынешних красноармейцев, человек… Алеша рисовал его карандашом, хотя у него в чемодане были краски — масляные и акварельные. Сейчас он еще не смел взять их… У него не оказалось ножа, чтобы отточить карандаш, но нашлись лезвия для безопасной бритвы, и он стругал карандаши лезвиями. Грифель оказался сломанным, но он все-таки зачинил карандаш. Политрук Серов первым посмотрел, как казалось Алеше, странный портрет. Молодой человек в испанской форме (а он помнил испанские шапочки — и по фотографиям, и по испанским детям, которые приехали в Ленинград; тогда многие носили эти шапочки как знак международной солидарности) стоит на фоне Мадрида. Мадрид разрушен. Какие-то надписи на фоне погибающего города. Лицо у человека — русское, типично русское. Воля и сострадание. Вера и горечь поражения. Серову понравилось. — Ночь не спал? — спросил он. Алеша промолчал. — Мало понимаю в изобразительном искусстве, — сказал политрук, — но, по-моему, это то, что нужно, Сейчас, по крайней мере. Если не возражаешь, Горсков, покажу начальству. А время будет, размножим — по дивизии, по полку… Пусть люди видят командира полка таким — живым. И хорошо, что тут у тебя Испания. Просто здорово!
В двенадцать часов на следующий день тревога. Лошадей — под уздцы. Без вьюков. Пушки отдельно. Костыль почему-то рассердился и приложил Алешу задней ногой… Алеша отлетел в сторону. Лира смотрела на него грустными глазами и вроде сочувствовала. Их лошади — здоровые, битюги, как принято говорить, и седла у них тяжелые. С расчетом, чтобы грузить части пушек. За долгие годы службы лошади — а их было в полку тысяча голов, в дивизионе — триста пятьдесят, в батарее — сто двадцать — привыкли к своей тяжелой работе. Поэтому и седла были особые, дабы грузить на них части пушек. А тут лошадь восстала. Седла прежние, а лошадей впрягают в повозки. И кто-то садится на них. Не свои, а чужие. Лошади видели их, но эти были не те, которых они знали каждый день, кто чистил их, ласкал, ухаживал… Алеша не рассердился на Костыля. Уступил его комбату Егозину. Даже подсадил комбата. Костыль вздрогнул, но седока принял. Лира пошла вместе с Алешей к зарядному ящику. Колонна двинулась. Шли опять под гору и проселками… В деревнях горели избы, хотя немцев не было. Ни десантов, ни вообще — никаких. Были штатские (потом Алеша будет говорить по немецкому образцу: цивильные)’, одетые в нечто подчеркнуто национальное. Охотничьи ружья, немецкие автоматы, гранаты… Они не стреляли. Пропускали их колонну спокойно. Смотрели — страшно! Лица их Алеша запомнил, кажется, на всю жизнь! Советских флагов в деревнях, поселках и маленьких городках уже не было. Висели какие-то непонятные, рядом с белыми, трех-четырехцветные, с коронами и другими знаками, но никто не понимал сейчас значения этих странных флагов. Больше смущали белые. — Сдаются вроде? — сказал Костя Петров. — Кому? — спросил Сережа Шумов. В каком-то городке заметили еще флаги. Алеша узнал: — По-моему, румынские!.. Он собирал марки до войны и вспомнил цвет румынского флага. Красный-желтый-синий. А еще он как-то рисовал плакат в защиту румынских коммунистов — Георге Георгиу-Дежа и других… На плакате была и обложка книги Максима Горького «Мать» и обложка «Цемента» Федора Гладкова. Говорили, что румынские коммунисты читают в тюрьме тайно и любят именно эти советские книги. Он и нарисовал тогда этот плакат так: румынский флаг, две обложки советских книг и лозунг… По городку опять крутились штатские парни с винтовками. Было тихо, но вдруг появилась немецкая авиация. Команда: — Воздух! Они спешились и нырнули в обочины. Впрочем, что значит — нырнули. Лошадей, повозки — все срочно загоняли в стороны от дороги, благо слева и справа лес… «Чахленький, но все-таки лес. Командир колонны — военный с четырьмя шпалами — сам давал указания. Они его не знали, но он им нравился: спокойный, деловитый. Бросил: — В Кутах немецкий десант! Будьте бдительны. Немцы в красноармейской форме… Они не проходили обратно через Куты, но там остались Проля Кривицкий и пять активистов… Значит, в Кутах ждали немцев!.. Об этом они с Сашей перемолвились, когда загнали лошадей в лес и сами укрылись на обочине. Тут пахло прелой листвой, мхами и редкой хвоей сосен. Под ногами хлюпало — по обочине струился еле заметный ручеек. На дороге появилась стайка черных скворцов. Сойка, крупная, с широким размахом крыльев, перемахнула с дерева на дерево. Осторожно застрекотал кузнечик, квакнула лягушка. Над лесной дорогой появился немецкий «костыль». Низко, его нельзя было не заметить. За ним — «кукурузник» с желтыми крыльями и черными крестами на них, пролетел еще ниже. Потом подоспели «юнкерсы». Самолеты немецкие они знали по схемам и по контурам, изучали еще до войны. И сейчас вряд ли могли ошибиться. «Юнкерсы», летевшие прямо над лесной дорогой, выдали серию очередей. Вернулись, и опять — серия. Где-то заржали лошади, раздались крики. Кто-то стрелял по самолетам. Все неожиданно, как и началось, стихло. Оказалось, у них заметные потери. Добили трех раненых лошадей. Похоронили восемь красноармейцев. Командир колонны и командир дивизиона Сухов торопили, когда они копали могилу в лесу. Потом — митинг не митинг. Речь держал Сухов. Опустили погибших красноармейцев в могилу. Засыпали. — Слава героям! — закончил Сухов. Краткий салют. — Теперь — по коням! — приказал командир колонны. Рядом оказался Сухов. — Как, Горсков? Привыкаешь? Алеша промолчал. — Слежу за тобой, — сказал Сухов. Алеша опять промолчал. Вторая могила — эта. А раньше Проля Кривицкий и пять активистов… Что тут скажешь! — Чего молчишь! — спросил Сухов. — Да, товарищ комдив! — вспомнил Алеша. — А кто это командир колонны? С четырьмя шпалами? — Это, Горсков, — потрясающий человек! — словно обрадовавшись, сказал Сухов. — Героический! Гражданская война, Хасан, Халхин-Гол! Он, кстати, нашего командира полка пытался вынести, но не удалось, сам в окружение попал, чудом вырвался… Огромной стойкости этот Иваницкий. Нам учиться у него надо!.. …Шли в сторону Каменец-Подольска, к старой границе. В селах убитые активисты. Уже целыми семьями. Горели их дома. По улицам ходили наглые парни с охотничьими ружьями и гранатами. Те, что ходили открыто, не стреляли. Стреляли, как правило, из-за угла. Немецких флагов не видно. Румынские и венгерские встречались все чаще. В лесу под Каменец-Подольском соединились со своими, которые вышли сюда на сутки раньше, сильно потрепанные в боях на новой границе и по пути. Говорили, что потеряли третью часть состава, не считая техники и лошадей. Еще вчера начало поступать пополнение из местных жителей. Их обмундировали. Новичков называли «западниками». Все они казались какими-то пришибленными. И говорили на странном языке — смесь украинского с венгерским, польским, румынским, — понять их невозможно. По-русски — почти ни слова. Троих отправили в разведку на конях, Алешу, Костю Петрова и новобранца по фамилии Лада. Лошади чужие, но смирные: Кока, Тара и Весь. Поехали в сторону Хотина разведать дороги. Лада, хотя и плохо говорил, местность знал прекрасно. Поняли и то, что он комсомолец. Ехали лесами, стараясь избегать сел, как приказано: неизвестно, кто и что сегодня в селах. Наконец Лада произнес: — Ось туточки незабаром мое село. Старшим был на сей раз он, Алеша. — Слушай, Лада! На кой нам лях это село, твое оно или не твое! Нельзя ли его обойти? И командир так приказал. — Села не проминуты. Воно зараз по дорози, а инших шляхив немае… Пришлось ехать дальше. Лада объяснил, и его все поняли: здесь лучшие дороги в сторону Хотина. Это еще новая советская территория, и тут опасно, но красноармейские части пройдут. Люди, орудия, лошади и даже автомашины. Дальше, за старой границей, будет лучше. Они ездили на Советскую Украину, дружили с советскими комсомольцами… Там, конечно, все не так, как здесь. Тут пока трудно. Классовая борьба! А там, у вас, все давно решено. И тут, если бы не эта война, они тоже все скоро решили бы… Так Алеша и Костя приблизительно поняли Ладу. — А зовут-то тебя хоть как? — спросил Костя. Лада опять смутился: — Чо! — Имя твое? — сказал Алеша. — А то мы все: Лада, Лада! А имя-то у тебя есть? — Ивась! Ивась! — Ласковое имя, — сказал Горсков. Впереди засветились меж деревьями огоньки. Лес еще стоял слева и справа сплошной стеной, слева — выше, в гору, справа — вниз, под гору. Впереди замаячили огни. Смеркалось в этих краях рано. Но так и было рассчитано. Они проверят дорогу в сумерках, в ночь, и, переспав, — под утро. И не позже 10.00 вернутся и доложат. Перед селом спешились. Покурили. Ивась не курил, но у него была махорка — истый самосад, и он угостил Алешу и Костю. Костя затянулся первым. Он курил и до войны. Алеша закурил в армии, в прошлом году. Лошади отдыхали. Щипали свежую горную травку, чихали от удовольствия и преданно смотрели на своих новых седоков. Смотрели так, как будто всю жизнь Ивась, Костя и Алеша были рядом с ними!.. Видно, хорошие люди, раз армейская лошадь, привыкшая ко всему, так сразу принимает человека… — Поехали? Огоньки светили впереди, и вскоре они въехали в село, которое стояло слева от дороги, на горе. Тут оказалось довольно темно, хотя огоньки керосиновых ламп и свечек мерцали в окнах. Было очень тихо, хотя ночь еще и не настала. В небе сквозь вершины сосен всходила луна, и свет ее уже блуждал по крышам и по оконным стеклам. У второго крайнего дома они слезли с коней, и Ивась удалился. Здесь словно не было войны, которая захватила сейчас всю землю. Пели ночные птицы. Вроде и соловьи. Трещали цикады. С величавым спокойствием шумел лес… — Ивась — отличный парень! — сказал Костя. — Представляешь, как им тут нелегко… Но куда он пропал? Не успел подумать, прибежал Ивась, запыхавшийся, какой-то взбудораженный. — Поехали? — спросил Алеша. Опять оседлали коней, двинулись. В конце села позади вдруг раздалась очередь. Думали, пулеметная… Задело Коку — лошадь Ивася. Кока споткнулся, сбросил седока и упал на дорогу. Алеша с Костей были чуть впереди, соскочили с лошадей и схватились за карабины. Залегли, а когда к ним подбежал Ивась, начали отстреливаться. Впереди появился парень с автоматом. Его ясно было видно в свете луны, и рядом — Кока… Лошадь корчилась на дороге, задрав голову. Парень стрельнул ей в голову и бросился вперед. На нем была белая с вышивкой одежда… Но вроде кожаная, не полотняная… Никто из них не мог попасть в этого парня. Трое не могли попасть в одного! Парень мотался по дороге, бросался то влево, то вправо, наконец, скрылся за трупом Коки — конь уже не шевелился! — и стрелял оттуда. Тара и Весь стояли рядом, испуганно похрапывая. Костя вскочил и прогнал их в лес, с дороги. Они робко послушались и перемахнули через обочину, шурша сухими листьями. Вдруг Ивась поднялся во весь рост и пошел вперед. — Ты что, Лада? — крикнул Костя. — А ну, Ивась, назад! — приказал Алеша. Ивась посмотрел на них, улыбнулся и, что-то сказав, спокойно двинулся дальше. Парня с автоматом не видно. А дорога была светлая. Ивась прошел два-три метра, дважды выстрелил и вдруг упал. И все сразу, казалось, смолкло. Еще, наверное, минуту Костя и Алеша лежали ошеломленные. Тишина, тишина. Только лошади всхрапывали в кустах. Наконец схватились. — Пошли! Нельзя же так? Кто первым это сказал, неизвестно, но оба они вскочили и бросились к Ивасю. Он был еще жив. — То мий брат Грицько… Сволота! Хоче мени помстыти, що я до комсомолу пишов, а зараз до Червовой Армии… Коня жалко… Добрый кинь був… — шептал он. Изо рта у него, из ушей шла кровь. Они похоронили Ивася в кустах, где стояли Тара и Весь. Саперные лопатки теперь были. Кока остался на дороге. Взяли документы Ивася. Медальона у него не было. На могиле — теперь уже ничего не поделаешь — чернильным карандашом на сорванном куске бересты написали: «Красноармеец И. Лада. Комсомолец. 1941 г.». Даты рождения Ивася не знали. Усталые, долго гадали, что делать дальше. Даже поспорили. Правым, видно, оказался Костя. Он, Алеша, потом это понял. Оседлали коней и двинулись вперед, в сторону Хотина. Путь шел по лесу. Выше — ниже, горы — овраги, а потом — полями и опять в лес. Лес стоял какой-то мрачный, недоступный, а поляны особенно на возвышенностях, смутно белели ромашками и, кажется, незабудками. На одной поляне росла дикая яблоня с крошечными зелеными плодами, на другой высился корявый дуб. Его подножие было густо устлано сжавшимися прошлогодними желудями. На третьей виднелся огромный куст шиповника, а по краям поляны бузина и волчьи ягоды. Ни огней, ни сел по пути не встречалось. Где-то глубокой ночью остановились, почувствовав, что очень устали и лошадям надо дать отдохнуть, немного поели, хотя есть не хотелось. Поташнивало. Особенно после того, как опускали Ивася в могилу. Спали час-два, почти поминутно вскакивая и вздрагивая. Но все же спали. Проснулись, когда загудело небо, и в предрассветье увидели массу немецких самолетов, идущих на восток. Тара и Весь были настороже. Алеша с Костей быстро собрались. В ближнем ручье успели умыться. Стало немного легче. Сколько оставалось еще до города Хотина, никто не знал. А именно это и необходимо им узнать. Немецкие самолеты ушли. Стало тихо. Совсем как до войны. Алеша вспомнил почему-то дачу под Ленинградом, куда он выезжал на лето, и все это показалось ему таким далеким и невозможным, словно однажды привиделось в странном, далеком сне. Солнце уже давно поднялось, и даже без часов можно было понять, что сейчас семь — восемь утра, не меньше. Они вышли на опушку, к ложбине, и вдруг услышали грохот канонады и ружейные выстрелы. Ложбина была большая, свежезеленая, поросшая по краям кустарником, за которым, кажется, угадывалась речка или ручей. В небе редкие прозрачные облака, тихо плывущие к горизонту. Сразу же вернулись, спешились и залегли в кустах. Наверное, от волнения вдруг нестерпимо захотелось есть. У Алеши в сумке от противогаза остался хлеб. Пожевали. Корочки отдали лошадям. А внизу… Бой — не бой? Просто перестрелка? Ни самолетов в воздухе, ни артиллерии на земле, кажется, не было. Редкие вспышки взрывов. Может, минометы? И стрельба, винтовочная, автоматная, с перерывами… — Посиди! Я пойду! — сказал наконец Алеша. — Почему ты? — Я старший, в конце концов… Он выбрался из кустов и стал спускаться. Ложбина была не очень велика, впереди еще одинокие кусты и деревья, а дальше — поле и вдали какое-то селение или городок. Скрываясь меж кустами, он сначала шел в полный рост, а потом перебежками, пригибаясь. Карабин держал наготове. Стрельба усилилась, но была какая-то беспорядочная. Возле ручейка с молодым ивняком его окрикнули. Там оказались свои, красноармейцы. Их — четверо, один — тяжелораненый. — Мать пресвятая! Помогите кто-нибудь! — кричал раненый. — Только что ранило миной в живот, — объяснили красноармейцы. Узнав, что Алеша — разведка, объяснили: — Здесь венгры… Почему, черт их знает… Видно, с немцами вместе. Немцев пока не видно. Хотин километра три за селом… Там тоже венгры. Не очень много, но злые как собаки. Так что лучше убирайся отсюда, пока цел, а своим скажи, что на Хотин, видно, придется пробиваться с боем… Пока перестрелка поутихла, он попрощался с красноармейцами и вернулся в лес. Рассказал все Косте. Решили немедленно возвращаться к себе. Как-никак что-то узнали: и дороги, и обстановку. Ехали осторожно, особенно когда подъезжали к месту гибели Ивася. Взглянули на могилу: свежая, она была хорошо видна с дороги. Дальше объехали труп Коки. Над ним уже кружилась стая мух и деловито хлопотал ворон. Подул небольшой ветерок, и лес словно запел. Протяжно вели мелодию дубы и грабы, ясени и горные сосны, зашелестела в движениях неслышимого танца листва. Будто тихие, приглушенные звуки огромного органа за-звучали в ушах. — Слышишь? — спросил Алеша. — Слышу, — сказал Костя. — Словно Ивася отпевают. Теперь самое главное — миновать село. Кажется, прорвались.
XIV
Он видел Ивася совсем не таким, каким его положили в могилу, а красивым и статным, застенчивым и смелым. И пейзаж на месте гибели Ивася виделся ему не мрачным, а светлым, словно происходило все не в горах и в лесу, а на ясной поляне, в расцвете доброго летнего дня. Ему не было стыдно за портрет командира полка. Это вам не «Каторжный труд…»! Сюда вложено нечто большее, чем умение. Здесь есть идущее из тайных глубин сердца чувство, а не просто фотографическое сходство. Портрет был помещен в армейской газете и размножен политотделом армии листовкой. Ивась виделся Алеше живым, как и командир полка. Только более сильным, чем в жизни, будто Алеше удалось слить в нерасторжимое единство четкий, чеканно-красивый рисунок и ясную, прозрачную светосилу цвета. Алеша мысленно писал портрет Ивася… Поздно вечером 96-я горнострелковая дивизия, в том числе и их 141-й артиллерийский полк, двинулась в направлении Хотина. Впереди шла разведка, которой командовал Дудин, а практически руководил Иваницкий. Ехали верхом. Алеша на своем Костыле, а Костя на какой-то чужой лошадке по кличке Зима. Было приятно сознавать, что колонна идет по дороге, разведанной ими. Двигались медленно, но к утру все же достигли Ива-сева села. Тут опять тихо. Словно вымерло все; хотя дымились трубы у печек, выставленных прямо на улице, но возле них никого видно не было. В селе не остановились, и, наверное, правильно сделали, а пошли вперед, к опушке леса. Лес уже не пел. Солнечные лучи проникали сквозь паутину ветвей и ярко светились в утренней росе и смоле сосен. Пели невидимые птицы, жужжали пчелы, вилась мелкая мошкара. Где-то стучал дятел, а вдали куковала кукушка. Эхо разносило по горам эти звуки, и они пропадали за горами в низинах или дальних лесах. «Красота, — подумал Алеша, — но какая-то беспокойная, страшная красота». Дудин торопил, Иваницкий, наоборот, придерживал ход колонны. Алеша почти не слышал их разговоров, но невольно подумал, какие они, видно, разные и похожие. Вот хотя бы карандашом набросать! Он вспоминал Академию все чаще и чаще. Теперь он думал о ней уже без горечи и грусти. Лишь порой его охватывало мучительноесожаление о своей, той юношеской категоричной самонадеянности, которая давала право так наивно и несправедливо судить о людях, его окружавших. Эта глупая самонадеянность позволяла не видеть и не принимать ложности собственных поступков и суждений. Первые дни войны уже многому научили Алешу. И он все больше вспоминал Академию с благодарностью за то, что она успела ему дать. И все-таки… Там учили прекрасной натуре, но студенты со своим жизненным опытом еще не были готовы к открытию прекрасного в этой натуре. Нет, он правильно выбрал свой путь в сороковом, а не в сорок первом, когда уже ничего нельзя было выбирать. Когда всех их выбрала жизнь и повела по своим дорогам. Милая, добрая, умная Академия! Спасибо тебе за все! Академичность — это прекрасно, но жизнь… Даже в финскую войну ничего в Академии не изменилось, кроме дежурств, маскировочных штор… Раньше он не думал об этом, но вот… Активисты! Пять первых, убитых в пшенице! Грицько — брат Ивася. Наглые парни и девки, срывающие красные флаги. Что-то ждущие. Немцев? Стреляющие из-за угла в красноармейцев и уничтожающие всех, кто за Советскую власть, поджигающие их дома с детьми и матерями, которые даже еще не успели понять, что такое эта новая власть. Но их уже уничтожают… Разные люди рядом с ним, где-то в середине колонны или в конце ее. Хорошо, что там? Менее опасно. А может, и нет, но все равно — хорошо, что они там, а не здесь, в разведке. Их разведка, а за ней и колонна, остановилась у опушки леса. Дудин спросил у Алеши: — Горсков, показывай, тут? — Здесь, — сказал Алеша. И добавил: — Дальше пока не надо… Там эти венгры… Были. — Ладно, будем живы, не помрем, — сказал Дудин. В ложбине сейчас — тишина. Как в Ивасевом селе, хотя тут эта тишина казалась странной. Ведь только вчера… Дудин о чем-то говорил с Иваницким, потом выслал вперед еще одну разведку. Трех человек без лошадей. Алешу и Костю не послали. Обидно, конечно!.. Но приказ есть приказ. Через час те трое вернулись. И сразу же команда: — К бою! Их разведка, усиленная еще ротой красноармейцев, которую возглавлял Валеев, получила по пятнадцать патронов, по одной лимонке и пошла в ложбину. Алеша второй раз видел эту ложбину, а теперь как бы и в первый… Ручеек с молодым ивняком они прошли стороной, и он не мог знать, как там красноармейцы, живы — не живы, похоронили ли своего товарища, кричавшего «Мать пресвятая!»? Но воронки, неглубокие, и траншеи, тоже мелкие, п трупы наших бойцов они видели. Не много, но все же… Они уже почти вплотную приблизились к селу и вышли на дорогу, которая продолжала их лесной путь. Тихо — ни канонады, ни даже выстрелов. Вошли в село. Дорога — та же, проселочная, но сухая. Дождей в последние дни не было, видно, и здесь. Село цело, кроме двух-трех сожженных домов. На одном, самом лучшем, — флаг со свастикой. Но ни души. Ни военной, ни гражданской. — Сейчас, — сказал Валеев и соскочил с лошади. За ним побежал красноармеец, которого Алеша не знал. Судя по всему, из новобранцев, «западников», как и Ивась… У Валеева — автомат в руках, немецкий, трофейный, у красноармейца — карабин, который он держал как-то очень неловко-бережно. При подходе к дому Валеев словно не обратил внимания на венгерский флаг, а сопровождавший его «западник», положив карабин на травку, подошел к флагу, аккуратно сорвал, бросил под ноги и вытер о него сапоги. Валеев обернулся, похоже — возмутившись, почему его сопровождающий задерживается, но, увидев, вдруг улыбнулся и сказал: — Ну, давай, Тронько! И рванул дверь в избу. Красноармейцы смотрели на все это с улицы, поскольку дом стоял в глубине сада. Минута-две прошли спокойно. И вот раздались выстрелы — сначала в доме, потом и на улице. Они соскочили с коней, бросились к дому и в стороны, где тоже стреляли. Из дома выскочил Валеев: — В ружье! Из окон свистели пули. Они залегли в саду у изгороди. — Их там немного, — говорил Валеев. — Сейчас… И правда, скоро все кончилось. Они вошли в дом. Пять человек в незнакомой форме. Все убиты. Один наш — в красноармейской. Видно, зарезан ножом. Это тот красноармеец, что вошел в дом вместе с Валеевым. В соседней комнате перепуганные хозяева — две женщины и мальчишка. Прижались к стенке печки. Половики, рушники, скатерти, фотографии на стенах — какие-то старые офицеры с усиками в парадных костюмах. Это все увидели мельком… Валеев выскочил назад, и Алеша с двумя красноармейцами побежал за ним. В селе снова стало тихо. Докладывали Валееву: — Одного штатского с автоматом прихватили, но он удрал… Автомат бросил. Немолодой мужик… — Шесть венгров… — Двенадцать… Сначала вроде сдавались, а потом стрелять… Уничтожили. — Два венгра… — Немцев нет? — спросил Валеев. Как все доложили, немцев вроде не было. — Флаг их со свастикой сняли, — сказал кто-то. — Сожгли! Подсчитали наши потери: четверо убитых и один раненый. Легко раненный. В руку. Перевязали. Рука левая. Стрелять может и вообще шутит. Молодец! — Убитых собрать сюда, — сказал Валеев. — Немедленно! Красноармейцы побежали выполнять приказание. — А теперь ты, Горсков! И вы! Пошли заберем Тронько. Они вошли в дом. Хозяева по-прежнему жались к печи. — Эх, вы! — остановился на минуту перед ними Валеев. — Живите, живите!.. Потом поймете! Валеев, Алеша и еще два красноармейца вынесли труп Тронько и аккуратно положили его рядом с черешней, ближе к ограде. — А теперь копать могилу, — сказал Валеев. — Лопаты у них есть, — и он показал на дом, изрешеченный пулями. А сам достал платок и, пока сюда подносили других убитых, прикрыл этим не очень свежим платком шею Тронько, там, где его ударили ножом. Могилу для пятерых копали долго. По очереди. Рядом с черешней. Земля была вроде и не такая сухая, как на пшеничном поле, но корни, корни… А землю, видно, здесь хорошо поливали. Война не война, а хозяева знали дело. И флаг венгерский наверняка сами вывесили. А может, сами и сшили. И не потому, что поставили венгров на постой. А кстати, поставили или сами с охотой пустили? Когда все было готово и пять трупов опустили в глубокую могилу, Валеев сказал: — Товарищи красноармейцы! Бойцы! Идет война пожалуй, самая тяжелая из всех… Мы сегодня хороним наших товарищей. Это красноармейцы — Юсупов из Узбекистана, Алексеев из Вологды, Краснов из Москвы, Заботин из Курска и Тронько… Тронько из этих мест, добровольно вступивший в Красную Армию… Ему стукнуло только семнадцать лет… Все — комсомольцы. Поклянемся же над их могилой, что мы отстоим нашу Родину. За победу! Прозвучал салют. И в путь. У Хотина — старая граница. За ней — в каждом селе, в каждом городке — толпы людей. Красные флаги на всех домах. Женщины плакали. Совали вареники, черешню, яблоки. — На кого же вы нас покидаете? — Родимые! — Как же мы? И так всюду, всюду, всюду… А природа вокруг, словно нарочно, сверкала яркими красками и свежей зеленью, голубым небом и горячим солнцем. Так и хотелось свалиться на землю, растянуться, закинуть голову, смотреть в бездонное чистое небо и забыть обо всем — о войне, об отступлении, о рядом крадущейся смерти… И снова вспомнилась Академия. Университетская набережная. Ленинград. Рядом в саду памятник «Румянцева победа». С каким благоговением он входил в Академию! «Построено в 1766–1788 гг. Архитекторы А. Ф. Кокорин и В. Деламот». Рафаэлевский и Тициановский залы. Яркие краски росписей. Битвы и страсти. Когда-то так изобразят и эту войну. Какие же нужны краски для нее! Какие таланты! И там в академической тишине ученые работы Репина и Кипренского.XV
И вдруг — неожиданность. Ему и Косте Петрову присваивают звание «старший сержант». Они стали командирами орудий. Алеша не очень понимал: зачем? Если война скоро кончится, а она должна окончиться скоро нашей победой, то разве Костя останется в Красной Армии? Он же — историк, типично мирный человек и не собирается всю жизнь посвятить службе в армии. Отслужили, победили, но ведь у каждого свои дела — там, за пределами армии. — Ты что, собираешься всю жизнь быть красноармейцем? — как-то спросил Алеша Костю. — А почему бы и нет?! — Давай, давай, — не нашелся что ответить Алеша. Слухи слухами, но они оправдались. После Хотина, который прошли относительно спокойно (три-четыре перестрелки), и Каменец-Подольска, который обошли где-то слева, командир расчета лейтенант Дудин объявил о присвоении званий. — Старший сержант Горсков! — Старший сержант Петров! Шла, как говорили командиры, маневренная война. И Дудин так говорил. Марши по тридцать — сорок километров в сутки. Марши с остановками и боями. То — авиация немцев, то — артобстрел, то — парашютисты немецкие, в нашей форме, в своей… И штатские, свои вроде бы, — разные… Теперь они поняли, что такое новая и старая граница. Там люди — Ивась и активисты. Но там и брат Ивася — Грицько… Хорошо, что они вышли оттуда, хотя и потеряли многих! Здесь украинские женщины плакали. Алеше говорили: — Худой-то какой, тощий, высокий… Плакали потому, что верили в Советскую власть, и вот она уходила. Обстановка была беспокойная. Все по дорогам двигалось. Беженцы и солдаты. Наступающие на запад части и отступающие на восток. Очень много раненых на подводах. Только потом он поймет, что и в этой страшной сумятице первых дней войны все было разумно: выводили красноармейские части из боев, чтобы сохранить их, чтобы воевать дальше. Они выходили из бесконечных немецких мешков трудно, с изнуряющими боями, но, несмотря на огромные потери и нечеловеческую измотанность, все сумели оставаться действующими. В каком-то селе его, Алешу, послали в разведку. Зеленое поле. Небольшая балка с леском. Склон покатый, песчаный, узкой полоской тянется к крайним хатам. Горсков осторожно облазил лесок. Никого. В небе промчались три «мессера», дав наугад по одной очереди. Он добрался до маленькой высотки, что была рядом с их расположением. За ним остались огневые позиции. Где противник — впереди, сбоку, а может, и позади огневых позиций, — говорить глупо. Стреляли отовсюду. Карабин заряжен. Плюс еще — патроны в подсумке. Саперная лопатка — окопался на высотке, на сопке, как ее назвать? Окопался хорошо. Внутренне был сосредоточен. Мычал мотив песни:
И снова бой. Теперь уже с немцами после отхода из Хотина. Фруктовые сады. Яблони. Абрикосы. Все в зелени. Черешни усыпаны бело-алым бисером. Ягоды крупные, спелые. Но бой есть бой. Немцы — рядом. И красноармейцы били по ним почти без особой наводки. Командир батареи Егозин только успевал давать команды: «Огонь! Огонь!» Еще раз — «огонь!». Немцы шли двумя колоннами. Мотоциклисты — первая. Бронемашины — вторая. По первой стреляли из автоматов, пулеметов, карабинов. По второй — из пушек. Загорелся первый немецкий бронетранспортер, потом — второй, третий, четвертый… Егозин и Дудин были в восторге, а когда увидели, что и мотоциклисты замешкались, поняли: победа! Одну пушку разбило. — Вперед! — крикнул кому-то Егозин, как когда-то Дудин, и сам подался вперед, увлекая за собой красноармейцев. Их было не много, но они бросились вперед с карабинами и редкими автоматами. Бой кончился. И долго, взбудораженные, после того как немцы отступили, приходили в себя. Прозвучала команда: — Строиться! На улице села построились, и вперед, рядом с Егозиным, Дудиным, Валеевым, Серовым, вышел сам Иваницкий. — Товарищи красноармейцы! Командиры! — сказал он. — Вы сейчас проявили величайшее мужество! Спасибо всем вам, кто остался жив! Но в этом бою мы потеряли многих наших товарищей. Двадцать семь человек… Их вынесли с поля, и мы похороним их по достоинству, как положено. Но скажу и другое. Одного из них мы оставили на поле боя. Его убили не немцы, а застрелил я. Он оказался трусом и ничтожным человеком. Сам побежал назад и других повел за собой. Это — Дей-Неженко. Не будем сегодня говорить о нем… А вам всем еще раз — спасибо! Раненых мы отправим в госпиталь… Все! Рыли братскую могилу. Хоронили. Среди убитых был и Ваня Дурнусов. Слава Хохлов, оказалось, ранен — тяжело или легко, никто не знал. Его отправили в госпиталь. Редеет ленинградская команда… Проля Кривицкий, Ваня Дурнусов — насовсем. Слава — в госпитале. В селе тихо. Только выстрелы похоронного салюта разбудили и встревожили птиц. Галки и вороны шумно и беспорядочно взметнулись в небо. На могиле поставили фанерный обелиск с красной звездочкой и с фамилиями погибших. Первая ночь была относительно спокойная. Спали не раздеваясь. Спали на улице — благо тепло. Командиры, да и то не все, в домах. Дудин спал вместе со взводом. Лошадей поставили в сады, рядом с домами. Напоили, накормили, чуть-чуть почистили. Костыль и Лира, когда Алеша подошел к ним, благодарно потянулись мордами навстречу. Из Ленинграда писем не было. Ни из дома, ни от Веры. Писали, не писали?! Может, и писали? Но где сейчас они могут его найти? Вечером лейтенант Дудин собрал свой взвод. Удивительно тихо. В садах осторожно перекликались птицы. Словно и не было никакой войны. Дудин загадочно улыбался. Видно, настроение у него прекрасное. — Рассаживайтесь, ребята, — сказал он мягко. — Есть важное сообщение. Очень важное! Они расселись на траве под фруктовыми деревьями. Расстегнули ремни и верхние пуговицы у гимнастерок, но разматывать обмотки никто не решился. И, хотя расслабились, оружие держали рядом, под рукой. — Так вот, вчера третьего июля, в Москве по радио выступил товарищ Сталин, — как-то особенно торжественно начал лейтенант. — Я сейчас зачитаю вам его речь… Слушайте!.. «Товарищи! Граждане! Братья и сестры! Бойцы нашей армии и флота! К вам обращаюсь я, друзья мои! Вероломное военное нападение гитлеровской Германии на нашу Родину, начатое 22 июня, — продолжается. Несмотря на героическое сопротивление Красной Армии, несмотря на то, что лучшие дивизии врага и лучшие части его авиации уже разбиты и нашли себе могилу на полях сражений, враг продолжает лезть вперед, бросая на фронт новые силы…» Дудин читал, чуть картавя. Уже начало этой речи было необычно. И все — необычно. Алеша помнил, как они изучали марксизм-ленинизм в Академии. Изучали Маркса, Энгельса, больше изучали Ленина, изучали Сталина. «Вопросы ленинизма» — это, конечно, здорово! И когда писали и произносили, что «Сталин — это Ленин сегодня», то в этом был особый смысл, о чем не писали, не говорили по радио, но о чем говорили между собой они, студенты: Сталин популяризирует, объясняет Ленина применительно к новым условиям. Через Сталина многие из них познавали Ленина. Сейчас его вчерашняя речь звучала особо. Алеша хорошо помнил все выступления Сталина прежде, но таких слов, такого спокойного, рассудительного, человеческого тона, кажется, не было… А лейтенант Дудин продолжал читать речь Сталина: — «…То же самое можно сказать о нынешней немецко-фашистской армии Гитлера. Эта армия не встречала еще серьезного сопротивления на континенте Европы. Только на нашей территории встретила она серьезное сопротивление. И если в результате этого сопротивления лучшие дивизии немецко-фашистской армии оказались разбитыми нашей Красной Армией, то это значит, что гитлеровская фашистская армия так же может быть разбита и будет разбита, как были разбиты армии Наполеона и Вильгельма…» Дудин не успел дочитать эту фразу, когда в небе появились осветительные ракеты и командир взвода, сунув речь Сталина в карман, выкрикнул: — Ребята! В ружье! Через несколько минут опять команда Дудина: — К расчету! Они выкатили пушки, свои 76-миллиметровки, прямо на улицу. Лошадей не было указаний трогать, и пушки развернули так: на запад и чуть на юго-запад. Наладили оптику. Алеша не командовал, но ребята знали дело. И оптика в порядке, и снаряды подтащили на руках. И все на главной улице села. Стреляли с земли; в небе, темном по-южному, было тихо. Звезды. Большая Медведица. Малая. Еще какие-то известные, но вспомнить их названия было некогда. — Полная боевая готовность! — бросил лейтенант Дудин и исчез. Они ждали. В полной боевой готовности. Взвод, расчет, потерявший пять человек за первые дни войны и пока полностью не укомплектованный — всего четырнадцать красноармейцев. Но все готово. Вернулся Дудин. Стрельба — ружейная, автоматная, пулеметная — не прекращалась. — Ребята, десант! С танкетками и мотоциклистами с воздуха! Немцы — переодеты! Так что держитесь! Будем бить прямой наводкой! Тянулись секунды, а может, даже минуты. В небе вспыхивали ракеты — зеленые, белые, красные, но, судя по всему, не наши, вражеские. По команде Дудина произвели три первых выстрела. Прямо с сельской улицы куда-то вперед. В ту сторону, откуда они вошли в село. И где шел страшный бой… Но выстрелы выстрелами, а уже через несколько минут впереди заурчали немецкие танкетки и мотоциклы. Немцы, судя по всему, прорвались в село. — Прямой наводкой! — кричал Дудин. И они стреляли прямой наводкой в темноту, но, видимо, точно. Дудин командовал. Они стреляли. Сейчас поняли — пехоты рядом нет, им предстоит отстаивать это село от немецкого десанта. Бой еще не кончился, когда лейтенант неожиданно тихо, но так, что его все хорошо услышали, приказал: — Теперь, ребята, все! Пушки оставляйте — и вперед! Карабины! Они пошли за Дудиным вперед по сельской улице. Немецкие танкетки и мотоциклы продолжали тарахтеть. Хорошо слышно, но ничего не видно. — За Родину! За Сталина! — вдруг крикнул лейтенант, и они рванулись за ним вперед. Пробежали горевшую танкетку, пробежали мимо трех мотоциклов и трупов, валявшихся рядом, и снова: — За Родину! За Сталина! Бой был коротким. На границе села добили последних немцев. Почему-то танкеток здесь уже не было, а четыре мотоцикла, по два немца в каждом, — добили. Дудин приказал забрать у немцев документы. В горячке боя не поняли, что двое ребят из их взвода ранены. Перевязывали тут же — теперь у них были примитивные пакеты с бинтами и марлями, которые выдали еще в Хотине. Вернулись в село, довольные, разгоряченные. Костя Петров по пути спросил: — А как же речь Сталина? Не дослушали… Еще раз перебинтовали раненых. К счастью, все ранения оказались легкими. У одного — ключица, у другого — нога. Ранения неглубокие, касательные. Гимнастерки и штаны придется постирать да чуть почистить. Взвод вернулся на прежнее место, в сад, где Дудин начал читать им речь Сталина, и никто не знал, что делать. Спать, не спать! Дудина не было. Расположились прямо на теплой земле. Дудин появился как-то неожиданно: — Спите? И, хотя было темно, все заметили, что правая рука лейтенанта перевязана. — Мы не дочитали речь товарища Сталина, — сказал Дудин. — Как, продолжим? Он достал карманный фонарик: — Кто мне посветит? Вы, старший сержант Горсков? Алеша вскочил и взял у Дудина фонарик. Не выдержал, спросил: — Товарищ лейтенант! А вы ранены? Мы не знали… — Чепуха! — сказал Дудин. — Мы сейчас подсчитали: десант полностью уничтожен. И это заслуга нашей батареи и нашего взвода. Восемьдесят три немца. Четыре танкетки. Двенадцать мотоциклов. Пленных не было. Все убиты. Спасибо вам и красноармейцам других взводов. Может, вы и считали, что мы — главные, но и другие были… А то, что считали, что мы — главные, правильно. Это обеспечило нам успех. Ребята молчали. Молчали, не понимая, как же командир взвода, командир их батареи лейтенант Дудин был ранен в этом бою, и никто этого не заметил. Алеша светил Дудину, а тот, непривычно, левой рукой достав из кармана листок, сказал: — Итак, дальше. Речь товарища Сталина. Продолжаю. — И он читал: — «Что касается того, что часть нашей территории оказалась все же захваченной немецко-фашистскими войсками, то это объясняется главным образом тем, что война фашистской Германии против СССР началась при выгодных условиях для немецких войск и невыгодных для советских войск…» Лейтенант держал правую руку на перевязи, и в свете фонарика было видно, что бинты, наложенные на кисть руки, промокают, становятся красными. Лоб его был покрыт испариной, но читал он вдохновенно, как должно было читать такую речь. Алеша светил Дудину, но меньше смотрел на него, а больше думал о самой речи. Какие слова! Все неясное встает на свои места. Ведь о советско-германском пакте в свое время чего только не говорили. В потоке правильных, разумных вещей были и всякие небылицы. Имел свое мнение на этот счет и Алеша. Но сейчас он вдруг неожиданно понял, как поверхностны и далеко от истины находились все его суждения… Но вдруг лейтенант внезапно прервал чтение. Из его рук выскользнула и мягко опустилась на землю газета. Несколько мгновений Дудин невидящими глазами смотрел перед собой, потом упал. Алеша выронил фонарик. Все вскочили, подбежали к командиру. Его лицо в бликах щедро светящей луны было призрачно белым. — Ничего, ничего! Сейчас все пройдет! — с трудом повторял он. — Черт-те что! Судя по всему, Дудин сердился на себя. Его раздражала собственная беспомощность, да еще на виду у своих подчиненных. — Да, ребята, — его голос неожиданно обрел уверенность. — Я вам неправду рассказал о Дей-Неженко. Его труп мы, конечно, не оставили — похоронили. Только не в братской могиле: таким, как он, вместе с героями лежать нельзя. Похоронили отдельно. Так приказал командир дивизиона. Родителям же сообщили как положено: погиб, мол, в боях за Советскую Родину. Они-то не виноваты, что он так… Кто-то сбегал в полковую медсанчасть, и оттуда прибежала девушка-санинструктор, маленькая, круглая как колобок. Она захлопотала вокруг командира взвода. Перевязала руку, сунула ему под нос вату с нашатырем. — Он потерял много крови, — объяснила она солдатам. Дудин признал ее: — Моя спасительница! Катя, Катюша… Это она меня перевязала во время боя. Я сейчас, Катя-Катюша, встану… — Никак нельзя, товарищ лейтенант! — вскрикнула Катя-Катюша. — И не помышляйте! Командир взвода опять закрыл глаза. А санинструктор командовала: — Ребята! Лошадь с пролеткой или лучше с телегой. Отвезем к нам. Хоть и близко, но метров восемьсот… Так что быстро! Алеша бросился к Лире — она стояла ближе да и была поспокойнее Костыля. Впряг ее в крестьянскую телегу, что полегче, и подогнал к палисаднику. Набросал сена, на котором только что лежали, слушая речь Сталина, и на котором собирались спать, если ночь выдастся спокойной… Ребята перенесли Дудина на телегу. Катя-Катюша вскочила на край, а Алеша взял повод и под уздцы повел Лиру к дороге. — Ты уж поосторожнее, художник! — крикнула Катя-Катюша. — Я и так… — сказал Алеша. «А почему «художник»? — подумал. — И вообще, откуда тут она?» Санинструктор показывала, куда ехать. Оказалось, медсанчасть располагается в другом конце села, действительно около километра — село длинное! — в домах и в трех больших палатках. При подъезде к палаткам Катя-Катюша соскочила с телеги и, бросив: «Подожди!» — убежала. Вернулась с санитарами, двумя пожилыми мужчинами, лет под сорок, и с носилками. Дудин был опять в беспамятстве, и они легко перенесли его на носилки. Командовала Катя-Катюша. Санитары взяли носилки и понесли их не в палатки, а в один из домов. — Подожди! — крикнула она Алеше. Он ждал. Ласкал Лиру. Хвалил за то, что так спокойно довезла Дудина до медсанчасти. Дал ей кусочек сахара. Хорошо, оказался в кармане. Отвел вместе с телегой в сторону от белых палаток, распустил, дал пощипать травку. Трава сейчас самая хорошая, не тронутая еще летним зноем. Он впервые попал в медсанчасть и с любопытством наблюдал, что делается вокруг. И в палатках, и в домах шла какая-то непонятная ему жизнь, и, хотя многие бегали, торопились, не чувствовалось суеты. У палаток сидели на траве перевязанные раненые. Кого-то носили и переносили на носилках санитары. Какие-то солидные мужчины и женщины выходили из палаток, что-то обсуждали и жадно курили… Алеша тоже закурил. Прошел час, не меньше, как они привезли Дудина, но о нем никто не вспоминал. «Подожди!» — сказала Катя-Катюша, но, может, она забыла?.. Но откуда она знает, что Алеша художник? Вот уж, право, наваждение! Наконец появилась Катя-Катюша. Он заметил се, выбегающую из одного дома, но она в темноте, конечно, не видела его и сначала побежала к тому месту, куда они привезли Дудина. Но Алеша уже успел отогнать Лиру с телегой. Он вышел навстречу: — Ты! А я жду! — Слава богу, — буркнула она. И вдруг чуть-чуть перешла на иной тон: — Ищешь вас, мужиков! Ай-яй-яй! Куда ты спрятался, художник?.. Опять — «художник»! Что Алеше сказать?.. — Как там лейтенант? — спросил он. — Жив? — Жив? Жив и тебя переживет, и меня если потребуется, — бросила Катя-Катюша. — Просил тебя дочитать речь Сталина до конца… Какая речь! Мы еще вчера по радио слушали. Потрясающе! — И она замолчала. — Он будет жить? — снова спросил Алеша. — Будет, конечно, будет! — воскликнула Катя-Катюша. — А как же иначе? Я его перевязывала в том бою. Хотела госпитализировать. Но он — ни в какую! Вот и результат: потеря крови, обмороки, пульс — пятьдесят. Но говорит: будем живы — не помрем… — Подожди! — сказал Алеша и добавил: — Подождите! А как же речь Сталина? У меня нет ее. Она у Дудина была… Катя-Катюша вроде смутилась: — Как? А он сказал… — Да нет же у меня, поверь… Поверьте… Он не знал, как обращаться к ней. Катя-Катюша. Почти Вера рядом. Он думал о Вере, видя Катю-Катюшу. Не пишет! Не пишет! Не пишет! А Катя?.. Ее слово «художник»… Откуда оно? — Я — сейчас, — сказала Катя-Катюша. Даже Лира, спокойно щипавшая ночную травку, посмотрела на убегающую девушку, как показалось Алеше, осуждающе. Снова Кати-Катюши долго не было. По времени, а не по часам. Какие часы у Алеши! В последнем бою была возможность взять часы — трофейные — у убитых немцев. Часы тикали на покойниках, когда они брали их документы, но снять часы с руки убитого никто не решался. Луна светила вовсю. Небо было бархатное, словно замешенное на густой краске, с десятками жемчужных звезд. Можно смотреть в это небо до бесконечности, до изнеможения и забыться, ничего не видя и не слыша вокруг. Белые палатки и белые дома кружились в лунных отсветах. Этот невидимый, волшебно-таинственный хоровод, казалось, сопровождался неслышимой музыкой, в которой присутствовал один неясный, словно стремящийся прервать, уничтожить мелодию гармонии и покоя, мотив… Вот бы написать такую ночь! А почему только это? А почему не этих людей, выходящих покурить из палаток? Мужчин и женщин в белом поверх военной формы? Темное южное небо. Луна, звезды. Некогда смотреть на небо, но сегодня спокойная ночь… Все это жизнь, жизнь, жизнь… А Катя-Катюша, оказывается, перевязывала лейтенанта Дудина, когда они и не заметили, что он ранен. Дудин осудил Дей-Неженко, но и он же похоронил его, как и других, честно погибших. Странно, что сегодня в небе нет немецкой авиации. И на земле — тишина. Здесь, в медсанчасти, это особенно важно. Тут оперируют, режут, спасают… Так думал Алеша, ожидая, что его вот-вот позовут. Позвать мог один человек — любопытная девушка, санинструктор Катя-Катюша, но ее пока не было. То ли от нечего делать, то ли еще почему, но к нему привязалась песня, опять-таки довоенная, и он тихо бубнил ее:
XVI
Вера не писала. И странно, но он не думал о ней сейчас. Вернее, хотел думать, но перед глазами стояла Катя. Катя-Катюша. Вспоминал Веру, а видел Катю. Даже лицо Верино ушло куда-то из памяти, растаяло, словно в дымке тумана. А Катя… Он хотел вырваться в медсанчасть, чтобы хоть издали увидеть Катю, но быстро настал вечер. Поздно! Несмотря на тишину, они выставили дежурного. Так было положено, и, хотя никто не подсказывал этого, Алеша и Костя решили сами. Дежурных распределили с утра. По часу — каждый. Сменяющийся будит заступающего. Ибо знает, кто вместо него заступает на пост. Странное ощущение — жить без начальства. Они с Костей старшие сейчас, но остались без старшины и без командира взвода Дудина. К ним заходили в ту ночь, проверяли — и дежурный по батарее, и дежурный по дивизиону, и даже дежурный по полку, вместе с которым был Иваницкий. Иваницкий похвалил, когда узнал, что они читали выступление товарища Сталина. — Мы еще не раз будем изучать его! — сказал Иваницкий. — К слову, товарищ Серов, — обратился он к сопровождавшему его политруку. — Обеспечить такое же чтение во всех подразделениях. В каждом взводе, батарее, дивизионе! He забудьте хозчасть и медсанчасть! Особенно — новобранцев из западных областей и молдаван! Алеша с Костей еще не спали. Пост у них был выставлен. Дежурный точно рапортовал, когда подходило начальство, а сейчас, как в случае с дежурным по полку, да еще самим майором Иваницким, громко кричал: — Кто идет? Светлело быстро, как всегда на юге. Очень давно, в тридцатом году, папа с мамой возили Алешу в Евпаторию лечить ревматизм. С тех пор он запомнил южные вечера и ночи. Костя уснул. Алеша подошел к дежурному. У того были часы — немецкая штамповка. — Пять утра, — сказал дежурный. Алеша проверил лошадей, которые стояли за домом, привязанные к наспех сооруженной коновязи. Лошади полудремали. — Отдыхайте, отдыхайте, — приговаривал Алеша, гладя добрые, ласковые лошадиные морды. — Еще повоюем… И вдруг ему почему-то пришла в голову мысль — сходить в медсанчасть. Сейчас, именно сейчас, на брезжущем рассвете, пока такая ночь, что и не поймешь, то ли война кончилась, то ли вот-вот начнется что-то новое, более страшное… И он решился. Прошел мимо дежурного, сказал: — В медсанчасть. Командира взвода проведать, лейтенанта Дудина. В случае чего, я — там. Может, и Катю-Катюшу встретит? В медсанчасти. Почему-то очень хотелось! Улица в предрассветной мгле слева и справа была заполнена: лежали красноармейцы, пофыркивали лошади, стояли повозки, и походные кухни, и пушки, притираясь ближе к палисадникам. В медсанчасти, когда он пришел, трещал движок, как при кино в клубе, и у палаток дремали перевязанные раненые. В двух палатках горел свет. Он с трудом нашел дом, куда положили Дудина, и открыл дверь. Суровый, полусонный санитар вышел к нему, спросил: — Что нужно? — Я хотел узнать, как лейтенант Дудин? — Спят они, спят, — буркнул санитар. — Нашел время… Потом, чуть смилостивившись, переспросил: — Кто, говоришь? — Наш комвзвода, лейтенант Дудин. Мы его вчера… То есть ночью сегодня привезли… — Подожди… Узнаю. Мы тут многих похоронили в ночь. Посмотрю, авось твой лейтенант жив… Подожди только тут, вперед — ни шагу! Заругают! Старый санитар, лет под пятьдесят, шевеля мокрыми прокуренными рыжими усами, куда-то ушел. Осталась табуретка, на которой он, видимо, сидел, облезлая, со следами старой, темно-красной краски, и поставленный рядом с табуреткой на попа зарядный ящик, где лежала выцветшая газета, а на ней — крошки и алюминиевый котелок с такой же алюминиевой ложкой. Алеша продолжал стоять. Наконец снял карабин с плеча, поставил на пол. И карабин и патронташ — тяжелы. Некоторые ребята уже приобрели немецкие, довольно легкие автоматы. У некоторых трофейные отбирали, у других автоматы остались. Алеше тоже надо в каком-нибудь бою рискнуть. В конце концов, они с Костей Петровым теперь старшие сержанты. Появился санитар. Спросил спокойно. — Ты кто? — Дудин, — сказал Алеша. — Я к нему. А я — красноармеец Горсков… — И, сообразив, что представляется по-старому, добавил: — Старший сержант Горсков! А что? — Ничего, доложу, — сказал санитар. — Командир твой не спит, но просил узнать, кто пришел. Счас… — Потом обернулся, добавил: — Ты сядь натабурет, ежели устал. А то стоишь, как на посту… Смешно даже. И оружие свое не держи так… Тут тебе — медицина. Жди, счас… Алеша не сел на табурет, но уже чувствовал себя более свободно. Значит, Дудин жив. Это было каким-то внутренним оправданием тому, что он пришел сюда. Шел сюда к лейтенанту Дудину, а думал о санинструкторе Кате-Катюше. Тянуло к ней! Санитар пришел, сказал: — Товарищ лейтенант Дудин просил передать, что завтра, сегодня, что ль, иль завтра, нет, сказал «завтра», вернется к вам. Пущать к нему нельзя не потому, что он плох, а потому, что рядом тяжелые раненые… И еще, как он сказал, будем живы — не помрем. Хотел повидать тебя, но завтра увидит. И, дай бог памяти, ты кто? Художник, что ли? Сказал, что Горсков — так твоя фамилия? — художник и пусть рисует, пока тихо. Вот все. Вроде ничего не забыл… Кажись, ничего… Алеша вышел на улицу. У калитки дремали раненые. Он походил, постоял, опять походил… Искал Катю. Ее не было. И пошел к себе, когда уже стало почти светло.XVII
Они отступали с боями в сторону Днепра. Потом в районе Каховки форсировали Днепр. Отступали под бомбежками и форсировали Днепр тяжело. Хоронили убитых. На сей счет был строгий приказ командира полка майора Иваницкого, который они узнали от нижестоящего начальства: — Своих героев хоронить всех! На поле боя не оставлять! Не бросать! С почестями хоронить! Отступаем, но вернемся. Слава их с нами! Прошу не забывать; списки погибших. Обязательно сообщать родственникам и близким. Обязательно. Даже когда тяжелая обстановка… Полковая колонна была странная, конечно, если посмотреть со стороны. Бывшая 96-я горнострелковая дивизия до войны, наверное, выглядела не так. Да и их 141-й артиллерийский полк. И пусть техника и внешний вид сейчас были не те, бог с ним, с внешним видом! Появилась не залихватская казенная, лозунговая, слепая уверенность: «Нам все нипочем!», «Да мы их, этих задрипанных немцев!..» — а уверенность с отчетливым пониманием того, что война долгая, трудная, какой никто и не предвидел. И воевать, даже отступая, надо с умом… Конечно, кто-то не выдержал испытания новым мерилом. Люди, подобные, например, Дей-Неженко, кричавшие больше всех до войны, оказались далеко не лучшими солдатами. Другие с честью погибли. Как командир дивизии Скворцов, как многие бойцы и командиры дивизии, которые вступили в бой там, на новой границе, 22 июня и не вернулись оттуда, как Проля Кривицкий, как Ваня Дурнусов, как Ивась Лада, как другие «западники», похороненные потом в братских могилах… Алеша сидел на Костыле, за ним, где-то в глубине колонны, — он знал это! — Лира тащила один-единствен-ный оставшийся чудом зарядный ящик. Каховка! Странное ощущение! Про Каховку знали до войны по песне Светлова:XVIII
У лошадей, старых, довоенных, красноармейских лошадей, сейчас, в войну, проявилась поразительная реакция — и привычка! — на выстрел. У сохранившихся в живых порой больше, чем у них, красноармейцев, было спокойствия, выдержки и готовности сделать все, что нужно, — без суеты и паники… Но вот на выстрел или даже в предчувствии его лошади вздрагивали, а то и вставали на дыбы. Ко всему они так трудно привыкали до сорок первого… А сейчас тянут на себе такое, что им, горновьючным, до войны и не снилось. И как тянут! Глупо сейчас думать о лошадях, когда гибнут люди, но он, Алеша, думает… Он любит лошадей и до войны мечтал о всякого рода живности, О собаке и кошке. Об аквариуме с рыбками и клетке с птицами. О морских свинках и черепахах. Об ужах и ящерицах. У некоторых из его соучеников по школе такие животные дома водились, а у него — никого. Он не раз просил маму и папу, баб-Маню, но сам понимал: ничего не получится. Мало ли что у кого есть. У него и трехколесного велосипеда, о котором он так тогда мечтал, и даже часто, забившись куда-нибудь, где его никто не мог найти, плакал редкими слезами, не было в детстве. Не имел он потом и двухколесного, хотя у некоторых его сверстников редко по тем временам, но были. И опять вспоминал и ругал себя. Был у них в школе один парень в восьмом классе. Записался в конноспортивный клуб «Спартака» и, уже когда учился в девятом, стал чемпионом Ленинграда. Валя Глущенко — так его звали. И все завидовали ему, а он, Алеша, может, больше всех, но почему-то не решился тогда спросить разрешения у родителей записаться в конноспортивный клуб. Почему? На это он не мог даже сейчас, став взрослым, ответить. Родителей боялся или заранее, пусть еще неосознанно, прочил себе нелегкую судьбу художника? Кто знает… Или — одно, или — другое, или?.. А Валя Глущенко, когда Алеша уже занимался в Академии художеств, как говорили, не успев кончить Технологический институт, попал на Карельский перешеек в конную разведку… И погиб. Погиб, как там же погиб и отец. Алеша долго почему-то завидовал Вале Глущенко. И до Красной Армии — в сороковом. И в армии, когда попал в «лошадиную» 96-ю горнострелковую дивизию… Он чувствовал себя полезным, умеющим рисовать в Долине и потом в Кутах, когда не было войны… И не один. Саша Невзоров и Женя Болотин делали то же. С до войны привыкли, с Ленинграда… А в той же Долине — вдруг вспомнил — не художнические его способности пригодились, а почерк. Да, почерк! Это Катя вспомнила. Напомнила: когда они были в Марфинке… Она не знала, хваля его, а он вспомнил. Оказалось тогда, в Долине, что почерк у него хороший. Из клуба как «художника» выпроводили, а «почерк» — помог. Он писал распорядок дня, каждый день с вечера — на будущий день… Потом это повторилось в Кутах… Там он тоже писал распорядок дня и реже лозунги, плакаты… Были в дивизии и в полку не менее способные, которые прекрасно делали такую работу… Ах, Катя! Катя-Катюша! Смешная, глупенькая, но какая умница! Все, что произошло между ними, было чудо! И ее слова при этом! Но какой же он? Идиот? Глупец? Дурак? Он — права она! — шептал ей что-то о Вере. А у нее дочка Ксана. И она из незнакомого города Юрьевца на Волге, на которой он тоже никогда не был… А из памяти, среди множества других слов, сказанных Катей в ту ночь, почему-то не выходили эти; «Пожалуйста, береги себя!..» Была в них словно какая-то неведомая то ли тайна, то ли власть, делавшие Алешу и сильнее и самостоятельнее. Он стал кому-то очень нужен. И почувствовал вместе с тем свою ответственность за другого человека… …Из Марфинки они начали отходить неожиданно, не веря, что отступают, в середине дня. Отходили с боем. Дудин снова командовал: — Бронебойными!.. Огонь! Добавлял: — В случае чего — круговую оборону! Его повязка опять промокла от крови. В перестрелке погиб Сноб… Отличный конь! И гибли люди — молодые и совсем старички. Но их взвод пока обходило. Отступая, они держались своим взводом. Немцы ударили слева. Там был лес и заросли кустарника. Или это болото перед лесом? Или кустарник растет по берегам невидимой речки? Перед лесом и кустарником поле. Метров триста, четыреста. Немцы шли оттуда.
Во взводе осталось двадцать четыре из тридцати, когда они отступали из Марфинки. Полк отступал, а их взвод оказался прикрывающим. — Картечью! — кричал Дудин и стрелял левой, здоровой рукой из трофейного немецкого автомата. Немцы на мотоциклах приближались. — Танков нет, ребята! — опять Дудин. — Не бойтесь! Картечью! Картечью! И давал команды. Все — на глазок. У Дудина и бинокля не было. А стереотруба, буссоль — все, что было прежде, — давно потерялись, вышли из строя… Картечь помогала. Немецкие мотоциклисты поворачивали назад и влево и вправо, но за ними шли цепи пеших. Пока стреляли из орудий, «западники» помогали. По команде лейтенанта бегали куда-то и на руках подносили снаряды. Дудинский ординарец из «западников», с лошадью командира взвода, был особенно на высоте. — Богдан! Давай! — кричал ему Дудин. — Снаряды! В пятую и шестую батарею, пока не ушли! Быстрее! И Богдан подбрасывал снаряды, да не раз и не по одному, а по три-четыре, погрузив на лошадь, и один — в руках. Лошадь лейтенанта звали Славкой. Алеша не знал ее до войны. И в войну только слышал имя лошади Дудина, видел ее, но, когда уходили через Днепр, понял, что Славка спасла Дудина, а он, уже на выходе из воды, спас Славку. Ее чуть не убило, но лейтенант и ординарец отбросили лошадь в сторону от летящего снаряда, прикрывшись ею… Славка была спасена чудом, и Дудин со своим ординарцем… Было ощущение, что, кроме их взвода, в селе уже никого нет. Значит, и медсанчасть ушла, и Катя? Ушли ли? Благополучно ли? Немцы залегли. Дудинский ординарец опять исчез со Славкой за снарядами, когда они еще стреляли картечью, и долго не возвращался. — Прекратить огонь! — приказал Дудин. — Орудия —> на дорогу! Будем отходить! Минута затишья. Успели вытащить орудия. Не разбирая, впрячь в лошадей и подготовить взвод к отходу. Алеша, Костя и еще шесть ребят заняли круговую оборону. По приказу Дудина они залегли с карабинами против теперь уже довольно чахлой, тоже залегшей немецкой цепи и отстреливались. Хотелось пить. Было жарко. Рядом — недозрелые арбузы, огурцы. Хватали огурцы. Пить хотелось из-за жары, а может быть, еще больше от волнения. Рот пересыхал… Полк отходит или уже отошел; они оказались последними, но немцев отбили, и Дудин спокойно выводит на дорргу взвод — людей, орудия, лошадей. Залегшие немцы стреляют редко. И они. Четыре разбитых картечью мотоцикла и убитые немцы — рядом — это их реальная работа… Вдруг подбежал Дудин. — Ребята! И ты, Петров, в первую очередь! — сказал он, чуть запыхавшись. — С сей минуты ты старшина взвода! Не спорить! Не обсуждать! Мог бы быть и Горсков! Отличный красноармеец, но слишком интеллигентен! Не обижайся, Горсков! Уважаю, но… Пошли! Бросайте свои позиции! Надо выбираться!.. Будем живы, не помрем, а не помрем, так будем живы! Они выбрались на дорогу. Оказывается, ординарец Дудина появился только что, да не только со Славкой, а еще с одной лошадью — брошенная! — и привез десять снарядов. Их перегрузили с телеги и пролетки в единственный сохранившийся зарядный ящик и двинулись из Марфинки. Новая лошадь, имени которой не знал никто, даже Богдан, ерепенилась и всем мешала. Только потом поняли, что у нее слишком короткие стремена. Пришлось переседлать. Своих впереди уже не видно. А они неожиданно подошли к полустанку. Там были немцы. Дудин дал команду закрепиться в малом лесочке, рядом с полем, на котором росли недозрелые арбузы и недозрелые огурцы. По-прежнему хотелось пить и людям, и лошадям, но ни арбузы, ни огурцы не утоляли жажду. Надо было пересечь железную дорогу, точнее, насыпь ее, но там немцы. На пути к насыпи оказалось небольшое болото с высокими головками камыша, с осокой и буйным разнотравьем. Неведомо как возле болота выросли два подсолнуха — с ярко-желтыми головами и крупными листьями. Они были видны даже издали. На самой насыпи вяло щетинилась чахлая травка, и среди нее, будто их кто-то случайно рассыпал, красно-малиновые и белые цветы. Насыпь белела дробленым камнем и матово отсвечивала металлом рельсов. Богдан обнаружил, что за полем и за болотом, перед насыпью, есть колодец. Вызвался сходить. Вернулся, принес четыре неполных котелка воды. Немцы не стреляли. Хватило только по глотку. День катился к вечеру, а жара все равно морила. — А лошади? — спросил Дудин. Рука у него еще была перевязана, но болела, видно, меньше. Он уже держал в ней и пистолет, и котелок, и ложку во время еды… Алеша вызвался помочь Богдану. Лейтенант согласился. Каждый взял по четыре котелка, и они по-пластунски двинулись через поле к колодцу, который, на счастье, оказался у самого края насыпи. Немцы пока молчали. И только когда они вернулись с неполными котелками, открыли несильный огонь по леску. — Тоже, сволочи, пить захотели! Смотрите! — сказал Дудин, глядя в бинокль. — Не стрелять! Пусть! Оказывается, немцы тоже рванули с котелками и с какими-то канистрами к колодцу. Горсков и другие ребята порывались стрелять. Но лейтенант остановил их, с каким-то пренебрежением повторяя: — Пусть, пусть!.. Чуть-чуть напоили лошадей, включая безымянную немецкую. Уснули. Спали крепко час или полтора, пока не прозвучала команда: — Подъем! Минометный обстрел со стороны немцев и крохотные их броневички, за ними — мотоциклисты. Броневички и мотоциклисты шли не на них, а вдоль железнодорожной насыпи влево. Горсков и его товарищи развернули два орудия и ударили по немцам. Те почему-то почти не отвечали на огонь, а стремительно уходили в сторону. Всех радостно наполнило ощущение пусть маленькой, но победы. Горели два броневика. Бежали, падали и опять бежали немцы и уходили, уходили от боя! Под утро взвод пересек железнодорожную насыпь левее полустанка и вышел в степь. Немцев было не видно. Только одинокие «рамы» изредка появлялись в небе, да и то… Теперь уже все знали, что «рамы» не стреляют. Надо бояться «мессеров», и они, к счастью, не появлялись. Откуда-то со стороны неожиданно подъехал Иваницкий: — Твой взвод, Дудин, на высоте! Немцев тряхнули! Удрали, недобитые… — И тут же добавил, то ли всерьез, то ли в шутку: — Прикурить ты им дал! Хорошо! Но слышал, что ты им и напиться дал. Так? Или, может, брешут? — Не совсем так, товарищ комполка, — пытался возразить лейтенант. Но Иваницкий перебил: — Ладно, не оправдывайся, знаю! Руку свою береги, людей своих, а этих… Никакой пощады! Вот так! Бывай! С малыми остановками они прошли за день километров тридцать — сорок. На пути оказалась вода. В деревнях им выносили холодное молоко и был даже мед: в разрушенных селениях всюду ульи, пасека за пасекой, даже там, где почти не оставалось жителей. Во взводе нашлись — из «западников» — специалисты по пчелам, включая Богдана, но их раз-два и обчелся. Остальные же открыто подходили к ульям, не подозревая о грозящей опасности, и пчелы жестоко мстили: целыми роями бросались на лошадей, на красноармейцев. Богдан пытался как-то помочь этой беде, давал советы, которые в данной обстановке были совсем бесполезны, возмущался то ли пчелами, то ли товарищами по взводу, но смысл всех его слов сводился к одному: «Война! Война! Немцы проклятые! Даже пчел встревожили. Вот они и беснуются! Жалко…» На остановках жарили блины на комбижире. Блины или оладьи? Скорей — оладьи. И вновь пути-дороги, дороги без дорог и пути без путей… Вперед, вперед, но, увы, не на запад… Костя Петров стал прекрасным старшиной взвода. Не давил, не командовал, нарядами «вне очереди» не разбрасывался… Кажется, сам страдал из-за своей власти. И часто многое пытался делать за других. Но другие, в том числе и он, Горсков, почти никогда не пользовались этой возможностью… Наоборот, старались и выручить, и поддержать Петрова, а если можно, и подменить. После Хохлачева и Дей-Неженко Петров — приобретение!
XIX
В маленьком — дворов тридцать — безлюдном, обугленном украинском селе они остановились на ночь. Ночь выдалась тихая и темная, хотя и светила бледная луна. Мрачно торчали печные трубы и развалины стен, побитые колодцы и изрешеченные осколками тополя. Одинокая тощая кошка с горящими глазами-фонариками бродила по пепелищу и порой страшно мяукала. Слабый ветерок шелестел клочьями газет и бумаги, подгорелыми фотографиями и разносил пух разорванных подушек и перин. Треснувшие стекла в сохранившихся стенах грустно вздрагивали, готовые вот-вот рассыпаться. Накануне боя не было, обошлось без потерь, и немецкая авиация странно бездействовала. Ночь. Луна. Спящие красноармейцы. Похрапывают лошади, пощипывая выжженную солнцем траву. Он вышел на пост. Трещали цикады. И опять в памяти Ленинград: дом на Марата, Академия художеств, Верин дом на далекой Лахтинской. Может, просто детство? Но — нет!.. Думал, а гнал мысли об этом… Был Верин дом, а Веры не было. «Не пишет, и ладно!» Хотя какие письма сейчас? Но и в суете отступления еще два письма от мамы и баб-Мани пришли. Слава богу, живы, о нем беспокоятся. Больше о себе ничего. Он ответил наскоро, в конце мельком, как бы попутно, спросил про Веру. Письмо отправил на относительно большой железнодорожной станции с эшелоном тяжелораненых, уходящим в тыл. Сопровождающий санитар обещал бросить письмо в первом тихом городе… Так что, если эшелон не разбомбят, а немцы бомбят их часто, письмо должно дойти. И все же, все же:…Когда-то потом, через много лет после окончания войны, Алексей Михайлович Горсков прочитает в одной книге слова немецкого генерала о тех днях. Типично деловое немецкое воспоминание оставшегося в живых: «Постоянное увеличение сил противника, усиление его сопротивления, активизация артиллерии и авиации и наряду с этим очень заметное утомление и большие потери своих войск — все это рассеивало надежды на достижение успеха в ближайшее время… Командующий группой армий, предупреждая возможность кризиса в управлении войсками… отдал приказ приостановить наступление на рубеже Киев, Коростень и временно перейти к обороне…» Кажется, Алексей Михайлович читал это где-то в конце пятидесятых — начале шестидесятых. И издано было в Москве. И фамилия генерала, если не изменяет память, какая-то больше итальянская, чем немецкая. Филиппини, что ли? Кажется, так. Но тогда, в сорок первом, этот Филиппики был рядом с ними… Ну, а уж генерал Гальдер, имя которого во время войны знали все, и Алеша в том числе, написал: «Операция группы армий «Центр» все больше теряет свою форму… На северном участке фронта группы… оказывается скованным значительно больше сил, чем это было бы желательно. Обходящий фланг 1-й танковой группы не может продвинуться на юг… Между тем ударный клин 17-й армии настолько приблизился к войскам танковой группы, что теперь уже вряд ли удастся окружить в этом районе значительные силы противника». Это Алексей Михайлович тоже прочитает много позже окончания войны. Но все это — потом, потом, потом…
А сейчас немцы, румыны, венгры окружали их. Правда, венгров и румын становилось меньше, а немцев — больше. Зеленый городок Тирасполь был удивительно красив, несмотря на военное лихолетье. Война почти не задела его, и он продолжал утопать в зелени каштанов и кленов, выбрасывая к улицам свои пышные сады и приусадебные участки. Дома и мазанки так и светились в лучах солнца. А за городом опять сады и виноградники, взбегающие на холмы. Четвертая румынская армия прорвала наш фронт. Их бросили и сюда. Переход в несколько сот километров. Кажется, их бывшая дивизия, ныне полк, их дивизион, их батарея, оказалась на высоте. С румынами, оказалось, воевать проще, чем с немцами. Правда, поначалу румыны рвались вперед. Но после первой же штыковой атаки на поле раздались выкрики: — Ну врем сэ лучтэм! Не предэм![1] Потом другие: — Тоць сыит офицерий! Ши немций![2] Бой прекратился. Румыны сдавались в плен. Офицеры тоже. — Блестемат сэ фис разбою агеста![3] — кричал один из них. — Рушый ыс бэець бунь[4]! — заигрывал другой. — Ребята, умницы вы мои! Бери пленных! Потом их хвалили. Политрук Серов. Комбат Егозин. Помкомроты Валеев. Но это все — опять раньше, до переправы через Днепр. До гибели многих… До того, как Катя-Катюша… Почему их отвели за Днепр? Значит, и переправа, и все, что было на этой относительно мирной стороне Днепра, оказалось впустую! Но ведь они и тут же воевали… И хоронили товарищей. Казалось, что авиация, артиллерия немцев и мотоциклисты даже активизировались. И снова десант! Опять-таки много лет спустя после войны Алексей Михайлович прочитает: «Чтобы ликвидировать угрозу окружения остальных войск Южного фронта, Ставка разрешила отвести их на тыловые оборонительные рубежи. Левофланговые дивизии 9-й армии, отсеченные от главных сил фронта, были объединены и образовали Приморскую группу войск, которая позднее была преобразована в Отдельную Приморскую армию под командованием генерал-лейтенанта Г. П. Сафонова. Одновременно Ставка усилила войска Юго-Западного направления своими резервами…» Это уже в годы шестидесятые, когда он стал признанным другими, но еще не признанным самим собой художником… А тогда их, отступивших, опять вернули к Днепру, к левому берегу его, и они заняли оборону. Река дымилась, словно в тумане. Мутные, со стальным отливом воды Днепра мерно текли перед ними. Темные облака и дым пожарищ сливались воедино. Утлые лодки и лодчонки прижимались к берегу, чуть качаемые несильной волной; здесь же были разбросаны нехитрые рыбачьи снасти. Только весел нигде не было. На откосах — задетые пулями и осколками деревья. Все израненные, они, словно спасаясь от гибели, низко припадали к реке. Дудин говорил: — Есть приказ самого товарища Сталина: закрепиться на этом, левом берегу Днепра и не пустить немца или удерживать его сколько можно! Так что, ребята!.. Это — уже начало августа. Воды Днепра с лиманами и заводями были серы. Трава и деревья пожелтели от знойного лета и от войны. Гарь. Воронки. Выжженные села и перебитые, обугленные деревья были удивительно похожи друг на друга. Села почти пустынны — люди ушли на восток. Печи на месте хат, печи на улице рядом с развалившимися хатами и деревья — в садах, в дубравах, в перелесках, как и земля — песок под ногами, все — перегорело, перепахано взрывами и огнем… И только беженцы, беженцы, беженцы, идущие из-за Днепра — прямо, и слева, и справа, и неизвестно откуда… Страшное зрелище! И в каждой фигуре, в каждом лице — боль, недоумение: «Почему мы отступаем?..» Сафонова Алеша увидел мельком. Дудин показал: — Смотри, Горсков, вперед! Видишь? Смелый командир! Он тут главный на Днепре. Говорят, сам Верховный его знает, вот и назначил… Фамилия — Сафонов. Алеша смотрел на человека в передних траншеях у самой кромки Днепра. Вел он себя отчаянно. И больше Алеша ничего не запомнил… А немцы вышли к Днепру на всей полосе Юго-Западного и Южного фронтов. Их чуть сохранившийся полк, хотя он и пополнялся новенькими, продолжал отступать. От горновьючного уже почти ничего не осталось. Огонь вели прямой наводкой. Пушки не разбирали. На лошадей не грузили. Да и лошадей приходилось заменять. Старые, привыкшие к тяжелой поклаже лошади погибли. Брали на ходу новых,не привыкших к такой службе. Даже три немецких появились. Ганс, Фриц и Марта. Лошади хорошие, но по-русски ни бельмеса не понимают. Слушаются беспрекословно, но как какая заваруха, ничего им толком не объяснишь. Повозки тянут, телеги, зарядные ящики. Раненых и все хозяйство медсанчасти. А так дуры дурами! Вновь отошли от Днепра. Их место заняли другие части, и они, слава богу, не видели, как немцы позже все же форсировали Днепр. Так в двадцатых числах сентября они оказались в Северной Таврии. Тишина. Спокойствие. Места здесь пустые, ковыльные. То тут, то там мелькает перед глазами перекати-поле. Степь без конца и края. Редкие балочки и деревни, в которых есть хоть какая-никакая зелень. Духота! Воздух словно настоялся на солнце, пронизан сухим зноем. Земля — камень. Саперная лопатка с трудом вгрызается в нее. А они готовились к наступлению. Слава богу — к наступлению! Что такое наступление в этих условиях, они уже знали. Теперь знали: немцы умеют воевать! Но… И они могут! Могут бить немца! Могут и обороняться, могут и наступать! Вспомнились сталинские слова: «Не так страшен черт, как его малюют». Они мельком виделись с Катей. — За что ты меня любишь? Ведь я — некрасивая! — говорила она. Алеше до войны очень нравились красивые женщины, такие, как, например, главная героиня кинофильма «Большой вальс». Но как давно это было. А в жизни? Вот — Катя. Перед Катей он пытался казаться очень умным и опытным: — А по-моему, все красивые женщины — дуры! У них все в красоту уходит! Как у женщин-спортсменок — все в спорт! А простые… — Глупости ты говоришь, Алешенька, глупости! — отвечала Катя. — Знаешь, всякая баба хочет быть и красивой и счастливой… Я тоже очень хочу! — Так люблю же тебя! — воскликнул Алеша. — Знаю, любишь. Но, не сердись, разлюбишь… Ведь я не только некрасивая, но и несчастливая. Я свою судьбу знаю, художник… — Какой я художник?! — Ты — самый настоящий. Сердцем чувствую, понимаю, вот только… — Катя прижала руки к груди, там, где сердце, словно призывая его на помощь. — Объяснить не могу, не умею. Он рассказывал ей о Ленинграде, в котором она не была. Рассказывал про свою улицу Марата и про Музей Арктики, про любимый памятник Пушкину и про Рафаэлевский и Тициановский залы в Академии, про росписи на их стенах. — Кончится война, покажу тебе Ленинград, — говорил он. — Правда, покажешь? — Катя, кажется, удивлялась. И опять о нынешнем. …Говорили, что Сталин сменил Буденного на Юго-Западном направлении и назначил на его место Тимошенко. Все знали Буденного, и все знали Тимошенко. Говорили и о сдаче Киева. Может, что-то изменится? И об этом они успели перемолвиться с Катей… И еще — самое неожиданное! — два письма из Ленинграда. Первое — мамино. Второе — вдруг! — Верино:
«Алеша, здравствуй! Прости, что не отвечала тебе, хотя ты писал редко. Много работы, и учиться продолжаю. Война, конечно, мешает… Как ты? Надеюсь, у тебя все в порядке. Пиши мне на Лахтинскую или на адрес Ленсовета. Я теперь опять там… Пусть у тебя все будет хорошо. Вера».
XX
Для Алеши беда случилась в конце сентября, под Кагарлыком. Что было тогда, он узнает потом: Южный фронт, Отдельная Приморская армия, Чигирин — Вознесенск — Днестровский лиман, а еще Коблево — Свердово — Кубанка — Чеботаревка — Кагарлык… Немцы и румыны. Последних больше, но немцы в воздухе… Оборона Одессы!.. Знойно. Душно. Зелень вокруг вся выгорела, но теперь после степи все чаще попадались вязкие болота, жижа булькала под ногами, пуская пузыри. В болотах неистово квакали лягушки и вилось комарье. Комары впивались в лица и через гимнастерки в спины, кусали ноги в обмотках, лезли в рот и глаза. В небе ни облачка. Сизая дымка. Тяжело дышать. На лбу проступал пот. Просоленные гимнастерки хоть выжимай. А ноги хлюпают и хлюпают по болотной жиже, а пути нет конца и края, и хочется бросить все, свалиться на землю и забыться… Под Кагарлыком они пошли в разведку — он, Сережа Шумов и ординарец Дудина — молчаливый «западник» Богдан. Пошли без лошадей. Какие сейчас лошади! Обстановка была неясной, да они и привыкли к этому, Когда в разведке бывает ясно? Но тут было все совсем непонятно. Стреляли с воздуха и с земли. Куда они ни пробирались, попадали впритык к румынам. Окопы и позиции были румынские. Немцев, кроме воздуха, видели дважды: на сопке возле зенитных орудий, на большаке в двух бронетранспортерах. Конечно, уходили от тех и от других, чтобы не лезть на рожон: задание есть задание… Вернулись поздно, практически ни с чем, но оказалось, что и Дудин, и Валеев, и Серов, и Егозин — сначала по очереди, а позже вместе слушали Сережу, Богдана и Алешу — были довольны… Видимо, даже их куцые наблюдения оказались полезны… А после — ночь, артобстрел и отступление. Первым погиб Сережа Шумов. Это было на Алешиных глазах. От осколка — прямо в грудь. Глупая смерть! Смерть без боя! Сережу оставили: надо было выводить лошадей и пушки. И телеги, пролетки, зарядные ящики. Мы отступали. Оборонялись, отступали, а иногда и наступали. Но… Сейчас мы бросаем тебя. Нам некогда тебя похоронить. Не сердись, Сережа! Прости!.. Дудин и политрук Серов, оказавшись рядом, кричали: — Без паники! — Отходить! Когда уже отходили, Алеша увидел командира полка Иваницкого. Тот, яростно жестикулируя, что-то начал кричать Дудину и Серову. Но Алеша не успел разобрать что. Ему внезапно стало нечем дышать, в груди вспыхнул нестерпимый огонь, и он, задыхаясь, не понимая, что с ним произошло, и еще не ощущая боли, упал. Он увидел себя с отцом на карусели в Парке культуры и отдыха. Отчетливо ощутил страх, который маленьким свернувшимся пушистым зверьком сидел в нем, когда он в первый раз сел на эту быстро крутящуюся карусель. Память на мгновение вырвала солнечный луч, боязливо выскользнувший из-за серых мутных облаков и упавший на далекое лицо отца. Но зверек вдруг выпрыгнул, и карусель стала медленно и неслышно рассыпаться… Очнулся Алеша от тяжело нависшей над ним тишины. Первое, что увидел, — лежащая рядом убитая лошадь, из-под спины которой клейко расползалось большое темно-красное пятно. Костыль или Лира? Алеша равнодушно отвел от нее взгляд. Окружившие его люди, судя по движениям губ, что-то говорили. Алеша вяло удивился, почему они произносят слова без звука, но тут снова перед ним быстро-быстро завертелась карусель, Алешу охватило ощущение звеняще-зыбкого полета, и он снова потерял сознание. Его поднимали, перекладывали, куда-то грузили, везли. Были поезда, какой-то пароход и ленинградская квартира с мамой и баб-Маней и Верой у них дома, а рядом с Верой — Катя, но уже вроде не в Ленинграде… И везде — незапомнившиеся бесчисленные люди в белых халатах… Поначалу он не знал, что попал так далеко — в маленький абхазский приморский поселок с названием, напоминающим птичьи голоса, — Очамчире. Когда в палате открывали окна, с улицы доносился мерный успокаивающий шум моря, — Алеша знакомо и тревожно вслушивался в него, пытаясь вспомнить, что это такое, но не мог. Он пробыл в Очамчире год восемь месяцев и двенадцать дней. Ранение оказалось тяжелым — в правом легком засело несколько осколков. На левой руке оторвало два пальца. Да еще контузия первой степени. Алеша потерял речь и память. Ни имени своего, ни фамилии. Потом появится речь, но без памяти. И лишь много позже будут и память, и речь. Год и восемь месяцев госпиталя… После первой, поначалу казавшейся удачной операции, через полтора месяца, наступило резкое ухудшение. У него то поднималась за сорок температура, то его начинал трясти страшный озноб. В такие минуты вся его по-юношески тонкая, высокая фигура, с остро выпиравшими коленками, казалась особенно беззащитной. Врачи ничего не могли понять и, недолго посовещавшись, решились на повторную операцию. Когда вскрыли грудную клетку, увидели обширный гнойный абсцесс в легком. Его дали не замеченные при первой операции мелкие осколки. Но и после операции положение не улучшилось. Все так же подскакивала температура, перемежавшаяся изнуряющими ознобами. Начали бояться заражения крови. В ход были пущены все имевшиеся в арсенале средства — сульфаниламидные препараты и в большом количестве стрептоцид. Горсков почти не приходил в сознание. Его кровать уже вывезли в коридор и загородили байковым стираным-перестираным одеялом. Всем было понятно: часы лежавшего за этим страшным занавесом человека сочтены. Так продолжалось восемь дней. На девятый день температура упала, ознобы прекратились. И под вечер Алеша, на изумление подошедшего к нему врача Баграта Васильевича, довольно внятно спросил: — Сколько я здесь лежу? — Алеша, мальчик мой дорогой, сын мой, ты выжил! Понимаешь, мы победили! Ай, какой ты замечательный молодец! — бурно изливал свою радость Баграт Васильевич. — А скажи, — на какое-то мгновение Баграт Васильевич смутился, но потом тихо, с некоторым усилием все-таки продолжил: — Как тебя зовут? В Алешиных глазах сначала мелькнуло удивление, затем появилось выражение жалкой растерянности и испуга. — Не знаю… — он сделал судорожную попытку приподняться, но тут же упал. — Почему я не знаю своего имени? Где я был? — с трудом подбирая и выговаривая слова, спросил Алеша. По его худому пожелтевшему лицу потекли слезы. — Успокойся, мой родной. Да знаешь ли, что случилось? Ты стал говорить! Говорить, понимаешь! Значит, скоро должна вернуться и память. Ты только держись, кацо! После контузии так часто бывает. А она у тебя, мой мальчик, очень-очень тяжелая… А сегодня главное — выздоравливать. У тебя есть родные? — Но тут Баграт Васильевич виновато и беспомощно осекся и сухо проговорил — Сейчас тебя отвезут на перевязку. После перевязочной Алешину кровать водрузили снова в палату, на старое место. Выжил Алеша! Выжил Горсков! Вокруг него хлопотали врачи — Игорь Иванович, Гри-гол Ираклиевич и особенно привязавшийся к нему Баграт Васильевич, у которого тоже был воевавший где-то на Западном фронте сын по имени Алеша. Выхаживали раненых ласковые, заботливые сестры — Нана, Соня и Лайнэ. Грузинка, чувашка и невесть как оказавшаяся здесь эстонка. Горсков уже все видел, слышал, понимал, понемногу, правда редко, говорил, но он не знал и не помнил себя вчерашним. Старался и никак не мог представить, что же было в той, его догоспитальной жизни? Врачам было с ним труднее, чем с другими. Соседи по палате старались помочь ему чем могли. Алеша, все понимая, страдал от этого еще сильнее. Он целыми днями лежал почти неподвижно и то безучастно смотрел в окно, то начинал жадно вслушиваться, стараясь понять, в разговоры. А в палате острили, шутили, всерьез, и вновь — шутки, и вновь — всерьез. Говорили о самом разном. О традициях — вспоминали часто Отечественную войну 1812-го. Суворов, Кутузов, Багратион… Говорили о союзниках, об английских танках, которые выходят из строя до боя, об английских самолетах, не выдерживающих в бою соревнования с нашими, об оккупированной немцами Франции и об эскадрилье «Нормандия — Неман», об американской тушенке и розовой консервированной колбасе. Другие острили: — Второй фронт! Их кормили этими продуктами в госпитале. Но больше всего говорили о доме, о своих семьях. Эти разговоры особенно больно волновали Алешу, и временами ему начинало казаться, что и у него кто-то был там, очень далеко, но где и кто — он вспомнить не мог. По ночам ему часто мерещились кошмары. Но тогда же, во сне, к нему возвращалась память. И он просыпался с улыбкой от словно пойманного во сне счастья и какие-то мгновения продолжал жить давней, самому теперь неизвестной жизнью. Но это хрупкое, манящее прошлое быстро таяло и исчезало. Смотрел в окно. Странно: пальмы. Странно: огромные магнолии. Выше мандариновые деревья и чайные плантации. По дороге, что проходила рядом, в огромном количестве постоянно паслись вороны. Зачем они здесь? Разве вороны живут на Кавказе? Здесь бы попугаям раздолье! Но попугаев не было, а лишь вороны да южные поджарые воробьи. Иногда по дороге гнали скот. Абхазцы в широких шляпах и с кнутами в руках. Алеша вслушивался в разговоры, и где-то в тайниках его сознания, словно в далеком глубоком подземелье, глухо билось и никак не могло вырваться наружу что-то не имеющее для него названия, но такое жизненно важное и необходимое. Ему, словно кислорода, постоянно не хватало этого «что-то», и все происходящее вокруг, казалось, не имеет к нему никакого отношения, хотя он тоже тут, есть, существует… Кто-то говорил, что в этом госпитале до войны был то ли дом отдыха, то ли санаторий. Алеша воспринимал эти слова как нечто удивительное, ибо кто до войны и в его-то возрасте бывал в санаториях или домах отдыха! Большинство раненых в госпитале, не привыкших с детства к особой заботе и вниманию, стеснялись внимания врачей и сестер: «Сколько вокруг нас хлопот и забот!» А ранения свои воспринимали не как заслугу, а, скорее всего, как некий укор. И в том, что с ними случилось, винили только себя: «Сам дурак!», или «Сплошал!», или «Вот и не на фронте, а тут еще возись со мной!» Осенью сорок второго Алеша, как выздоравливающий, начал ходить в столовую. Бои шли на Северном Кавказе и на перевалах Главного Кавказского хребта, немцы рвались к Махачкале и Каспию, под угрозой был Туапсе, что не так уж далеко, и на море не прекращались бои, — но все это было больше известно от раненых, прибывающих в госпиталь со всех участков войны. А они поступали каждый день. Алеша был в госпитале старожилом. От других — вчерашних и позавчерашних, месячных и трехмесячных — он узнавал многое о положении на фронте. Слышал, конечно, и о родном Ленинграде… Раненых по-прежнему много. Но тяжелых все меньше и меньше. Немцы хлебнули в Новороссийске. Малая земля. И в Туапсе — дважды. Керченская операция не состоялась, и тут немцы потеряли массу живой силы и техники. Так было в Харькове и Ростове. Досталось немцам и в Нальчике, и в Орджоникидзе, и на Главном Кавказском хребте. Их «Эдельвейс» и прочие горные дивизии погорели. А природа этих мест, благостная, спокойная, еще больше раздражает, сердит. Как боролись за жизнь не сразу погибшие, Алеша, пожалуй, впервые понял тут, в Очамчире!.. В Очамчире он опять пробовал брать карандаш. На краях газет. На случайно выпрошенных у сестер бланках. На любых бумажках. Бумага — дефицит и шла на закрутки. Табак здесь, в госпитале, выдавали чаще, чем на фронте. Горсков курил, и все вокруг курили. Для него курение — спасение. Даже врачи это ему говорили. И врачи, и сестры, кроме эстонской Лайнэ, курили. А он курил и экономил бумагу. В начале сорок третьего к нему начала возвращаться память. Медленно, трудно, неожиданными толчками. Это было как тяжелые роды — когда ребенок бьется в утробе матери, стремясь вырваться из небытия. И наконец, еще не успевший войти в жизнь, но уже обессилевший от первой своей борьбы за нее, все-таки начинает жить. Баграт Васильевич определил его в команду выздоравливающих. А вскоре его сделали при госпитале санитаром. Казалось, все было прекрасно. И понимание всего, что происходит, и сообщения Советского Информбюро, и радостные, и в чем-то удручающие — немцы и после Сталинграда прут! И не сдаются, кажется! А значит, впереди… И все же главное — он жив! Жив! Жив! Однажды его вызвал Баграт Васильевич. — Садись, Горшков! Он произносил Алешину фамилию как «Горшков». Алеша сел в глубокое кресло возле могучего дубового стола, за которым восседал врач. Тот открыл ящик стола и протянул два письма. Вернее, письмо и записку. — Больше не могу скрывать, — сказал Баграт Васильевич. — Скрывал почти год, а больше не могу. И показать не мог, не сердись. А с записочкой к тебе приезжала очень милая девушка, санинструктор. Очень рвалась к тебе, но ты тогда был еще совсем плох. Вот так… Теперь, Алеша-Алексей, считай, что окончательно здоров. Алеша сразу узнал на треугольнике Верин почерк.«Здравствуй, Алеша! Знаю, что не порадую тебя, но я все должна рассказать. Первой в блокаду умерла бабушка. Это было еще в январе сорок второго. Мария Илларионовна держалась, продолжала работать. Да, бабушку вместе с другими похоронили на Пискаревке. 17 июня, когда мама возвращалась с работы, начался сильный артиллерийский обстрел. Она, видимо, не успела укрыться и погибла от снаряда. Ее тоже, как мне сказали, похоронили на Пискаревском. Я, к сожалению, узнала обо всем только в конце июня. Дом ваш разрушен. Так что неизвестно, что лучше. Будь мужествен! У меня в жизни произошли, кажется, большие изменения. Но об этом как-нибудь потом. Надеюсь, что у тебя все хорошо. Вера».
И дата: 13 июля 1942 года… Записочка была от Кати.

Алеша постеснялся читать ее в присутствии Баграта Васильевича и спросил: — Мне можно идти? — Иди, Горшков, иди! — сказал Баграт Васильевич. — И не отчаивайся. Война, брат! На улице он открыл Катину записку. Умница, Катюша! Как ему сейчас нужна эта ее записочка! А вокруг в это время хлестал южный тропический ливень. Потоки воды бурными реками и ручьями скатывались с гор и устремлялись к морю. Море у берега помутнело из-за песка и глины, оно бурлило и падало лохматыми волнами с белой мутью на прибрежные камни. По оконным стеклам госпиталя, запотевшим, как в мороз, катились потоки воды. Ливень с силой бил в окна, и рамы вздрагивали. Ветер и вода несли сбитые листья, палки и коряги, лепестки цветов и клочья бумаги. Сорвалась пальмовая ветка и неуклюже понеслась по мостовой, то останавливаясь, то вновь устремляясь вниз, к морю. На улице ни души. Даже машин не видно и не слышно.
XXI
И вот наконец — прощай, Очамчире! Прощай, родной, проклятый, до страсти опостылевший госпиталь! Прощайте, Игорь Иванович, Баграт Васильевич, Григол Ираклиевич! Прощайте, Нана, Соня и Лайнэ! Прощайте, пальмы и магнолии, чайные плантации и разросшееся кладбище! Ограниченно годен! Он долго добирался на перекладных до места новой службы. ПАХ так ПАХ! Полевая армейская хлебопекарня находилась в 57-й армии, в Мартовой, восточнее Харькова, который был все еще в руках немцев. Алеша быстро освоил новое хлебопекарное дело. Маялись только с дровами да с огромными немецкими мешками с мукой. Вместе с рядовым Хабибуллиным и шофером Самсоновым они успевали к рассвету выдать свежий хлеб, а потом переключались на скотину. При пекарне было несколько коров. Четвертого человека, полагающегося по расписанию, пока не давали. Мартовая почти пустовала. Поступил приказ согнать сюда разбежавшийся по соседним деревням и балкам скот. Отощавшие за зиму, полудикие коровы ловились с трудом. Трава еще только начинала зеленеть, кормов не хватало. Рвали молодую листву, кое-где появившуюся травку, смешивали с прошлогодней соломой — все шло в дело. Научились доить, и как-то Алеша привез в штаб армии первые два ведра молока. Коров распределили по хозчастям полков. Через неделю приказ: — Отправляйтесь в Чугуев. Там горят вагоны с мукой. Выехали верхом. Алеше досталась огромная кобыла с розовыми ноздрями. Стоило огромных усилий оседлать ее и стронуть с места. Солнце уже стояло высоко над головой, когда они проехали несколько полуразрушенных деревень и вышли к железнодорожной ветке. Вдруг впереди, возле лесной балки, Хабибуллин заметил немцев. Соскочили с лошадей, залегли. Немцы, а их было четверо, занимались чем-то своим, не обращая ни на что внимания. Алеша свалил свою лошадь на землю. Товарищи последовали его примеру. — Славяне, подождите, — бросил он. — В случае чего — прикройте. — Осторожней ты, черт! — произнес Самсонов. Горсков вырвался из-за лошади и мелкими перебежками бросился в сторону немцев. Те, странное дело, зачем-то собирали смолу. Оружие у них висело за спинами. Подобравшись поближе, Горсков вскочил, дал автоматную очередь в воздух и замахнулся лимонкой: — А ну, гады, руки вверх! Хенде хох! Немцы обескураженно обернулись. Только один попытался снять автомат, но Алеша выбил его. — Хенде хох! Кому говорят! Подбежали Самсонов и Хабибуллин. Немцев обезоружили. Связали их же ремнями руки за спиной. Алеша ликовал. Первая победа. Хотя немцы были и не из молодых, лет под сорок, — все же победа. Пленных сдали в штаб артполка в следующей деревне. Алешу и его товарищей долго и подробно расспрашивали, как было, все записали. Через полчаса они были в Чугуеве. Здесь творилось страшное. Горел санитарный поезд с тяжелоранеными. А рядом — на вторых путях — горел состав с мукой — нашей и немецкой. В составе было пять вагонов. Справились только к вечеру. Тут же на платформах привалились к стене полуразрушенного вокзала и уснули. От дикой усталости даже не хотелось говорить. Через час Горсков вскочил. Пошел проверил лошадей. Они были привязаны у скверика с закопченной зеленью. — Славяне, пора! А то к утру хлеб не успеем. Возвращались куда быстрее. В степи стало прохладно. Небо вызвездило, как это бывает только на юге. В Мартовой, куда они вернулись под утро, ждала новая неожиданность. Взлетел на воздух артиллерийский склад. Немногие из оставшихся в живых рассказывали противоречивое: одни — мол, диверсанты, другие — дескать, кто-то закурил на складе, чуть ли не часовой. Погибших уже похоронили. Двенадцать человек. ПАХ не пострадал. Только у «ЗИСа» взрывной волной выбило стекла да борт задело осколком. Пора приниматься за тесто. После бессонной ночи все делалось с большими усилиями. К восьми утра первые буханки были готовы. Из полков и дивизий потянулись подводы и грузовики за хлебом. А в девять из кабинки одного грузовика выскочил молоденький, совсем мальчишечка, младший лейтенант и крикнул: — Кто тут будет Горсков? Алеша подбежал: — Я, товарищ младший лейтенант! — Приказано доставить вас в штаб армии. Горсков немного струхнул: — А зачем? — Не знаю. Собирайтесь. Штаб армии, как и прежде, находился в селе Белый Колодезь, куда Алеша не раз привозил молоко. И в избе, куда его провели, находился тот же майор, который когда-то распорядился передать коров хозчастям. — А, старый знакомый! — сказал он, вставая из-за чисто выскобленного стола. — Что ж, Горсков, с тебя, как говорят, причитается. Вот только молока у тебя теперь нет. Да, признаюсь, и мы не видим. А теперь получай! И он прикрепил к гимнастерке Горскова медаль «За отвагу». — Служу Советскому Союзу! — Алеша вытянулся по стойке «смирно». «Наверное, за пленных немцев, — подумал он. — Быстро дошло». Но оказалось, нет. — Это, — словно прочитав его мысли, — тебе за спасение эшелона с хлебом, — сказал майор. — А я думал… — и Алеша рассказал про пленных. — Нет, пока это до нас не дошло, — улыбнулся майор. — Тогда готовь еще одну дырку. Дойдет, обязательно дойдет. Потом серьезно: — Ты что ж, так и собираешься всю войну хлеб печь? — Не знаю, товарищ майор, но… Сами понимаете, ограниченно годен. — А что, если мы тебя к себе возьмем, в трибунал? Поначалу писарем…XXII
Еще из Очамчире Алеша написал письмо Кате и в Ленинград, совсем короткое, Вере. Катя прислала письмо только что, в начале июля. Оказывается, у нее изменился номер полевой почты, медсанчасть влили в медсанбат 7-й гвардейской армии. Это совсем рядом, в районе Белянки, восточнее Белгорода, километров двести. Письмо было ласковое и грустное. 141-й артполк послали на переформировку. Дудин опять ранен, тяжело, как и Алеша, в легкие. Вот и — «будем живы, не помрем». Саша Невзоров и Женя Болотин погибли. Костя Петров ранен, не тяжело. Вот так. «Береги себя, милый, родной. Если бы ты знал, как хочу тебя видеть. По ночам снишься. Боюсь, как бы тебя не покалечило. Но, видно, все ничего, раз тебя отпустили на войну, хоть и ограниченно годным». «Поеду! — решил Алеша. — Обязательно поеду!» Отпроситься у начальства оказалось не проблемой. На третий день он оседлал знакомую немецкую кобылу с розовыми ноздрями. Она уже слушала его и была вынослива. День выдался на редкость тихий и ясный. Степь дрожала в перегретом воздухе. На небе ни облачка. Дорога шла через Белый Колодезь, правее Волчанска и дальше на Белянку. Часов через пять езды он услышал канонаду, в небе то там, то тут возникали воздушные бои. Горсков спешился и начал наблюдать один из таких боев. Наш «Лавочкин» заходил в хвост немецкому «Фокке-вульфу-101». Раздались еле слышные очереди, и вдруг «фокке-вульф» задымил. Он пошел к линии фронта, судя по всему — к Белгороду, и потащил за собой дымный шлейф. Но вот от него отделилась чуть заметная точка и блеснул купол парашюта. Что делать? Алеша вскочил в седло и помчался в сторону парашютиста. Парашют снижался медленно, а лошадь Горскова трусила довольно споро. Возле обгорелых труб, следов прежней деревни, Алеша нагнал немца, когда тот, зацепив стропами за одну из труб, свалился на бок. — Стой! Хенде хох! — заорал Горсков, но немец и не собирался сдаваться. Он достал пистолет и почти бесшумно выстрелил. Алеша саданул немца ногой по руке, но тот не выпустил пистолета. Еще раз Горсков попал немцу в подбородок. Правда, немцу мешали стропы парашюта, и он пытался их скинуть. Еще попытка, и Алеша придавил немца. Тот выронил пистолет и обмяк. — Шайскерл! Ихь верде михь зовизо нихьт эргебен![5] — выкрикнул он. Алеша не понял. — Молчи ты! — буркнул, приходя в себя. — Что делать-то с тобой? Немец продолжал ругаться: — Дреккерл! Ротцназе! Зо айнфах кригст ду михь нихьт![6] Он разрезал ножом комбинезон и содрал его с фрица. Снял и ботинки. — Вот так-то, босиком, тебе будет полегче!
Потом обыскал немца. Нашел две книжечки. Одна — офицерское удостоверение. С трудом перевел: «Оберлейтенант Отто Вернер и № части… Легион «Кондор». Вторая — партийный билет. В кармане нашел Железный крест. — Не носил, гад, боялся, что попадешься, — сказал Горсков, пряча документы. Тем не менее сунул ему фляжку с водкой. — На, глотни! Немец жадно глотнул, но тут же его лицо перекосилось. — О, шнапс! Ихь виль кайне шнапс! Гиб мир вассер![7] — Не понравилось, и не надо, — миролюбиво сказал Алеша. — А теперь давай собираться. Он приподнял фрица, подволок к лошади и с трудом взгромоздил его поперек крупа. До Белянки оставалось еще километров десять. Но чем ближе они подъезжали к селу, тем громче слышалась канонада, а потом и ружейные, автоматные и пулеметные очереди. Судя по всему, там шел бой. Пришлось взять правее. Выехали на околицу Белянки, и действительно, село полыхало. Цепи наших отбивали очередную атаку немцев. В поле горели танки, валялись разбитые мотоциклы и бронемашины. Горсков спросил, где штаб, но никто толком ответить не мог. То ли в Великомихайловке, то ли в Буденном, то ли в Новом Осколе, то ли в Артельном. — Уноси, парень, ноги, пока жив! Не видишь, что творится? Пришлось ретироваться. А тут еще проклятый фриц. Он нудил: — Тринкен! Тринкен! Шайскерл, гиб мир цу тринкен![8]. В Великомихайловке стояли тылы. Пленного никто не принял. Повезло в Буденном. Тут немца приняли и даже вынесли за него благодарность. Офицер оказался важной персоной. Медсанбат, выяснилось, находится в Новом Осколе. Это и так нетрудно было обнаружить: туда по всем дорогам тянулся транспорт с ранеными. Новый Оскол — небольшой, почти не задетый войной городок — утопал в пыльной зелени, белел палатками и халатами. Казалось, весь он превратился в госпиталь. День уже клонился к вечеру. Горсков тщетно объехал весь городок, но Кати нигде не нашел. Было душно, словно перед грозой. Алеша напоил лошадь, отпустил ее пастись, а сам оперся на палисадник. И тут на улице громкий женский голос: — Малыгина! А Малыгина! Катина фамилия! Катю окликала женщина-военврач. Она выскочила из соседнего дома и растерянно уставилась на Алешу: — Ты? Ой, даже с медалью! Потом спохватилась и побежала куда-то с военврачом: — Жди меня! Я скоро! К себе, в Мартовую, добрался только к обеду. Добрался с трудом. Немцы прорвали фронт из района Харьков — Белгород. Всюду шли упорные бои. Хабибуллин передал ему письмо: — Тебе! Горсков вскрыл.
«Не сердись, Алеша, не удивляйся, но я вышла замуж. Муж мой очень хороший человек, и нам бы не пережить блокаду, если бы не он. Нам, потому что у меня родилась дочка. Сейчас ей уже семь месяцев. Всего тебе хорошего! Вера».
Теперь он понял, почему она не писала ему. Обиды не было. Только какая-то горечь.
XXIII
В предрассветной мгле, в 2 часа 30 минут, 5 июля вздрогнула земля на всем огромном фронте от Чугуева до Думиничей. Орудия всех калибров и минометы ударили по немецкой обороне. И все же немцы, чуть придя в себя, пошли в наступление. Танки и самоходные орудия, бронемашины и самолеты ударили по нашей обороне. Наши отходили на пять — десять километров, но потом опять рвались вперед и восстанавливали положение. Шла Курская битва. Перемалывались корпуса и дивизии СС, дивизии «Райх», «Адольф Гитлер» и «Мертвая голова», оперативная группа «Кампф». Бои шли и 8-го, и 9-го, и 10-го, и 11-го, и 12 июля. Рушилась немецкая операция «Цитадель». 13 июля наши войска прорвали немецкую оборону. 5 августа были освобождены Орел и Белгород, а 23 августа — Харьков. ПАХ двигался за наступающими частями. Работали с двойной нагрузкой. В полтора раза увеличили выпечку хлеба, а это требовало больше дров, воды, муки. Все доставали на ходу, с немалым трудом. Под Мерефой Самсонов и Хабибуллин получили по медали «За боевые заслуги», а Горсков вторую «За отвагу». Про четырех пленных фрицев все забыли, а Алешин офицер не забылся. Так что его наградили за пленного летчика, а напарников — за хлеб. На подступах к Харькову в дорожной суете встретил Горсков Катюшу. Но даже поговорить не удалось. Только помахали друг другу. Город был сильно разрушен. Целые кварталы лежали в руинах. На одной из окраин тянулся длинный ров. Чуть присыпанные землей, в нем лежали сотни трупов женщин, мужчин, стариков и детей, расстрелянных немцами. Отступая, немцы не успели засыпать ров. В Харькове Алешу вызвали в штаб 14-й гвардейской дивизии. Его принял сам командир дивизии полковник Жаров. Рядом сидел какой-то капитан. — Грамотный? — то ли в шутку, то ли всерьез спросил полковник. — Вроде, — неопределенно ответил Горсков. — Художник? — поинтересовался полковник. — Недоучившийся, — пытался отшутиться Алеша. — Так вот, товарищ недоучившийся художник, — произнес полковник. — Поступаете в распоряжение капитана Серова. Он вам объяснит ситуацию. — А как же мой ПАХ? — спросил Горсков. — Не волнуйтесь, это мы оформим. Капитан Серов объяснил ситуацию. Быть теперь Горскову писарем военного трибунала дивизии. Капитан — председатель трибунала. Дел пока не много, но одно уже есть. Старшина Волчок в боях за Харьков загубил две пушки. Утопил в реке. Заседание завтра в десять ноль-ноль. Наутро в помещение трибунала, которое, по странности обстоятельств, находилось в детском саду — тут же Горсков и переночевал, — пришел капитан Серов. Конвойные ввели старшину Волчка. Было ему за сорок: лицо с широкими скулами, глаза зло блестят. Начался допрос. Горсков вел протокол. — Что вы можете сказать, Волчок? — начал Серов. — Вас предупреждали, что реку надо форсировать вброд. Брод был хороший. А вас понесло в сторону, метров за двести, на мост… — Пушки ж были несправны, — сказал Волчок. — Я не о том. Почему вы не выполнили приказ командира? В результате утопили пушки и лошадей чуть не загубили. — Говорю ж, несправны они были. — Так, может, вы их специально утопили, раз были неисправны? — Я и говорю: несправны… — У вас есть награды? — спросил Серов. — С какого года воюете? — С сорок першего. Наград не маю. — Так вернемся к делу. Почему вы, Волчок, не выполнили приказ командира, а сосвоевольничали… — Несправные це пушки. Волчок так ничего и не мог сказать вразумительного. Твердил одно: — Несправные… Несправные… Терпение иссякло даже у Горскова, написавшего протокол. — Штрафбат. Что же еще! — сказал Серов. Волчка увели. — Ну-ка, покажите, — попросил Серов Горскова и взял у него протокол. — Что ж, прилично! Даже очень! Замечу вам, Алексей Михайлович, что сегодняшнее дело — цветочки. Покопайтесь вот тут, — и он указал на шкаф, — найдете много прелюбопытнейшего. На первый взгляд наша работа может показаться неблагодарной, даже неблагородной, если хотите. Но на деле это не так, конечно. Мы еще плохо занимаемся профилактикой. А ведь далеко не все, чьи дела поступают к нам, потенциально плохие люди. И само понятие трусости, например, относительно. Вот во время Курской битвы мы задыхались от обилия дел. Увы, конечно, большинство из тех, кого мы рассматривали, погибли в штрафбатах. Но есть и такие, что получили Героя. Да и погибшие восстановили свое доброе имя. Расстрела же не было ни одного! А какая заваруха! Так что вы полистайте, Алексей Михайлович, полистайте. И на будущее — как художнику — вам полезно… Алешу удивило, что Серов назвал его по имени-отчеству. Так его очень редко кто называл в армии, а до армии и подавно. Он листал дела. Чего тут только не было! И самострелы, и уклонение от боя, и нарушение приказов, и мародерство, и пьянки. По делам проходили чаще всего молодые, но встречались и старички. Горскова поражала скрупулезность, с какой трибунал разбирал дела. Совсем не фронтовая, а скорей гражданская, мирная какая-то скрупулезность. Расстрелы не встречались. Чаще штрафбаты. «…Не все потенциально плохие люди», — вспоминал Горсков слова Серова,XXIV
В районе Знаменка — Смела за Кировоградом 14-я гвардейская дивизия разгромила штаб 4-го воздушного флота немцев. Были захвачены большие трофеи, много пленных, и среди них один американец, майор авиационно-технической службы. Это событие моментально разнеслось по всей дивизии, вызвав массу толков и криво-толков. Обсуждали его и в трибунале. — Будет допрос, попрошусь, Алексей Михайлович! Может, и пустят! — пообещал капитан Серов. И действительно, их пригласили. По этому поводу, или так совпало, Горскова экипировали в новую форму. Выдали зеленую английскую шинель, гимнастерку с брюками и ботинки, которые оказались страшно холодными. — Союзнички, — бросил Серов. — А с виду вроде так симпатично. Вместо ботинок пришлось подыскать немецкие сапоги. И вот они собрались в штабе дивизии. Народу было много — от командира и начальника штаба до Горскова и еще каких-то рядовых. В избу ввели американца. — Переведи, чтоб садился, — сказал полковник. Американский майор широко улыбался. Был он в своей форме, даже со знаками различия. Такой крепыш, лет за тридцать, без всяких следов немецкого плена. Довольно лощеный. — Рассказывайте, как было дело! — попросил полковник через переводчика. — Уи уэр шот даун эт Штутгарт. Эт фёст ит уоз э пиизэн кэмп. Зэн зэй юзд ми зэ э тэкникэл эксперт[9]. — Значит, вы воевали вместе с немцами? За что же такая честь? — спросил полковник. — Ай уозн’т э комбэтэнт. Ай уоз динг э джермэн мэйнтэнанс джоб[10]. — Как не воевали! Ваши соотечественники, насколько мне известно, воюют против фашистской Германии, — сказал начальник штаба. — А вы? — Ай хэд ту ду зэ джоб эгейнст май уилл[11]. — И как же к вам относились ваши хозяева? Вот и форму они вам сохранили, и знаки различия. Как вы питались? Где жили? — Зэй тритид ми дисэнтли[12]. — Как немецкие офицеры? — Ииес[13]. — И вы не попытались бежать? Когда вы прибыли на фронт в этом новом качестве? — Три энд э хаф манз эгоу[14]. — Времени у вас было вполне достаточно, чтобы обдумать свою, как бы вам сказать, пикантную ситуацию. И охраны, судя по всему, у вас строгой не было, — мрачно сказал полковник. — Почему же вы не бежали к нам, например? Американец замялся. — Отвечайте! — попросил полковник. — Ай фанд их таад ту анса. Пропаганде, ю си…[15] — Значит, немцев вы не боялись, а русских боялись. Странная логика! — сказал начальник штаба. Американец промолчал. И протянул полковнику какой-то бюллетень, достав его из-под кителя. Бюллетень пошел по рукам. Все говорили: — Интересно! — Любопытно! — По-русски! И еще что-то в этом духе. Наконец бюллетень дошел до Серова и Горскова. Они начали листать его.«ЗА ПОБЕДУ Бюллетень русско-американского общества № 6. Сан-Франциско, Калифорния. Цена 5. Год изд. 1-й. Сентября 1942 года
Привет Героям Советского Союза! Все сильнее растет дружба между двумя народами: США и СССР. Героическая Красная Армия с первых дней войны разбила миф о непобедимости фашистского оружия. Работы советских ученых, педагогов и деятелей искусства навсегда рассеяли и обличили фашистскую ложь о «жестоком сталинском режиме»; о «красной, коммунистической опасности», якобы против которой и повел Гитлер свой «крестовый поход». Получилось обратное: мир узнал бездушный гитлеровский режим, содрогнулся от зверств фашистов-детоубийц и преклонился перед Советской страной, воспитавшей в народе подлинный героизм, высокую культурность, гуманность и образованность.

Имена этих героев связаны с мировой славой трех величайших в истории человечества оборон: Людмила Павличенко — участница обороны Севастополя, Николай Красавченко — Москвы и Владимир Пчелинцев — Ленинграда. Они вправе спросить, когда же союзники окажутся таковыми на деле?..» Здесь же, на первой полосе, портреты Николая Красавченко, Людмилы Павличенко и Владимира Пчелинцева в полной боевой форме. На второй полосе фотографии советских детей, которых истязали немцы, и две заметки:
«120 ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ НА ПОМОЩЬ СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ. Ужо бо, братие, не веселая година встала. Жены русския восплакашась, аркучи: уже нам своих малых чад не мыслию смыслити, не думою думати, ни очима соглядати. А востока бо, братие, Киев тугою, а Чернигов напастьми: ТОСКА РАЗЛИЯСЯ ПО РУССКОЙ ЗЕМЛИ, ПЕЧАЛЬ ЖИРНА ТЕЧЕ СРЕДЬ ЗЕМЛИ РУССКИЯ… (Из песни об Игоре). Да, страшные времена переживала Русь в войне с половцами. Но с тем, что переживает теперь русский народ, не сравнится ничто. В истории человечества нет таких страниц бедствия, разорения, мук и героизма, которые вписываются теперь кровью, подвигами и жизнью всего Советского Народа. Сотни тысяч вдов и сирот, сотни тысяч бездомных людей. Кровь и слезы… страдания детей, голод, пытки советских девушек и юношей, сожженные поля, разрушенные и разграбленные хозяйства… Страшно делается при одной мысли о том аде, который творится на нашей земле… Сейчас, когда пишутся эти строки, совершается небывалая в истории человечества жестокая битва… А мы здесь, хотя и ввергнутые в войну, но вдали от фронта, все еще живем в полном достатке, в тепле и в роскоши сытой жизни… И когда мы знаем, что там, на улицах Сталинграда, бойцы Красной Армии и народ бросаются под чудовищные танки, для того чтоб своими телами преградить им дорогу, когда мы знаем, что они смертью своей спасают весь мир, одни, без помощи со стороны… то какой ничтожной становится вся та поддержка, которую мы здесь стараемся оказать. То, что мы собираем, НЕ ДОСТАТОЧНО. Мы должны УСИЛИТЬ нашу помощь, должны УДЕСЯТЕРИТЬ нашу работу». И дальше: «Для увеличения сбора на помощь Р.А.О устраивает 24 октября в Игле Холе большой вечер, чистый доход с которого пойдет в УОР ЧЕСТ ДЛЯ РОШИАН УОР РЕЛИФ. Сборы УОР ЧЕСТ производиться будут всего лишь ОДИН РАЗ В ГОД. Но этот ОДИН РАЗ должен быть УДАРНЫМ, с напряжением всех сил. Этот ОДИН РАЗ должен показать нашу сплоченность, нашу любовь к России. Выполним же наш долг перед Советским Народом». На третьей фотографии Павличенко, Красавченко и Пчелинцев с судьей Робертом Джексоном и миссис Элеонорой Рузвельт и информация об интернациональном съезде студенческой молодежи в Вашингтоне в обрамлении флагов стран-участниц. И еще: «КОМПОЗИТОР ШОСТАКОВИЧ Три месяца Шостакович провел в осадном Ленинграде, принимаяучастие в охране здания Консерватории. 25 октября ему исполнилось 36 лет. Весь музыкальный мир Америки достойно отпраздновал этот день. Помимо 7-й симфонии Шостакович неутомимо создает новые марши и песни для бойцов Красной Армии и лично выступает с концертами на фронтах». И Шостакович в форме пожарника.
Юрий Братов ПЕСНЯ О ДЕВУШКЕ-СНАЙПЕРЕ ОРДЕНОНОСЦЕ ЛЮДМИЛЕ ПАВЛИЧЕНКО
«ОЛЬГА ЛАСТОЧКИНА ПОПРАВИЛАСЬ
Привет неутомимой работнице Ольге Ласточкиной. С радостью отмечаем ее быстрое поправление. Сейчас она после госпиталя отдыхает в деревне, набирается свежих сил для дальнейшей работы на помощь Родине».
«ДНИ РУССКОГО УГОЩЕНИЯ Женский комитет несет на своих плечах большую долю работ Общества. Много труда вкладывают наши женщины в дни русского угощения чинов армии и флота в помещении ЮСО на О’Фарел, а 26-е каждого месяца является уже зафиксированным русским днем. В эти русские дни посещают тысячи военных. Их всех надо угостить. Продукты для угощения собираются от жертвователей, которыми являются также и сами члены Женкомитета. Но надо, чтобы в этих днях участвовали вообще все русские женщины нашей колонии. Каждая русская женщина должна отметить у себя в календаре 26-е число и этот день посвятить работе и пожертвованию. Это должно стать «добровольной повинностью» для всех русских женщин. Записывайтесь на помощь ЮСО у председательницы Женкомитета М. Каргиной».
«НА ПОМОЩЬ СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ Еврейское Общество Помощи Советскому Союзу устраивает грандиозный базар 18 октября в помещении Тэмпл Бат Израиль, 1839 Гэри стр. (возле фильмор). На базаре будет разыгрываться роскошное одеяло, сделанное известным художником по кустарному делу Рубиновым. Это одеяло в продолжение 3-х недель было выставлено в Сити оф Парис в отделе изящных искусств. Еврейское Общество Помощи Советскому Союзу благодарит всех друзей, посетивших прошлый концерт-бал, и приглашает всех на этот Базар, который обещает быть веселым днем развлечений. Начало в час д. и до полуночи. Весь чистый доход пойдет на покупку медицинских принадлежностей и амбуланса через Рошиан Уор Релиф. Нужда велика. Пожалуйста, приходите и приводите своих знакомых. Еврейское Общество Помощи Сов. Союзу».
— Любопытно, — сказал капитан Серов. — Как вам, Алексей Михайлович? — Только со вторым фронтом у них увы и по сей день, — заметил Алеша. — Как видите, господин майор, есть у вас в Америке и другие люди! Что вы скажете? — спросил полковник. Майор молчал. — И это немцы у вас не отобрали? — спросил Жаров, показывая на бюллетень. Майор молчал. — И все же! — настоятельно повторил полковник Жаров. Майор молчал. — Какие у вас есть просьбы, господин майор, пожелания? Как с вами обращаются здесь? — поинтересовался начальник штаба. Майор молчал. — Хорошо, — сказал полковник. — А пока полетите в Москву. Расходились все обескураженные. — Что он — делец или придурок? — Действительно, одиссея! — На родине ему выдадут… — Так и выдадут! Мемуары будет писать. Бизнес! — Жаль, Алексей Михайлович, не наша компетенция, — признался Серов. — Не злой я человек, но такого не только в штрафбат, а к стенке поставить!
XXV
Лето было в разгаре. Стояла та пора, когда солнце еще не успело спалить зелень. Зеленели леса и поля, балки и сохранившиеся с довоенных времен нечастые лесные полосы. Крестьяне с опозданием копались в земле. Пахали на коровах, сеяли руками из лукошек. Наши войска успешно продвигались к Днепру. Серов показал Горскову директиву, подписанную Сталиным, в которой говорилось: «В ходе боевых операций войскам Красной Армии приходится и придется преодолевать много водных преград. Быстрое и решительное форсирование рек, особенно крупных, подобных реке Десна и реке Днепр, будет иметь большое значение для дальнейших успехов наших войск». Это было в начале сентября. Наступали Юго-Западный, Степной, Воронежский и Центральный фронты. Их 14-я гвардейская дивизия вышла к Днепру в районе Гуляй-Поле. Закрепились. Впереди было Запорожье, Никополь, Кривой Рог. Как-то Горсков сказал Серову: — Товарищ капитан, вот вы говорили о профилактике. Я изучил все архивы. А что, если во время затишья поездить по батальонам и полкам, провести беседы. В частях много новобранцев. Может, полезно? — Это идея, Алексей Михайлович! Я согласую с политотделом, и начинайте. Кстати, если вам удобнее, зовите меня Виктором Степановичем. — Спасибо, Виктор Степанович! Дела проходили самые рядовые. Самый неприятный случай был в Гуляй-Поле. Взяли Гуляй-Поле почти тихо. Никто не заметил на окраине в стогу сена солдата из новобранцев. А он, оказывается, перешел линию фронта, запасся продуктами и спрятался в сене, выжидая, кто кого. Так просидел больше недели, не заметив, как городок взяли свои. А может, ждал, что немцы обратно вернутся. В трибунале вид у него был жалкий. — Где вы доставали продукты? — Запас. — А воду? — По ночам в колодце брал. — А курица свежая откуда? — В соседнем доме взял. — Хозяев видели? — Я их припугнул. — И часто вы так припугивали жителей? — Раз пять за эту неделю. Солдата вывели из трибунала и поставили перед строем дивизии… — По изменнику Родины! — скомандовал командир взвода охраны. У трибунала была единственная машина, полуторка «ГАЗ-АА» с крытым кузовом. В ней перевозили документы. И шофер Володя. Через несколько дней они с Володей отправились в первый вояж — в соседний полк. Там провели беседы в трех батальонах. Слушали хорошо, не только новобранцы. За неделю совершили еще три выезда. Если бы не война, он начал бы писать картину. Пока все свежо в памяти. Она называлась бы «Предатель». Стог сена и крупное лицо предателя. В нем страх и ожидание. На заднем плане наши бойцы идут в атаку. Их лиц почти не видно, только контуры, но фигуры их в едином порыве устремлены вперед. Или так. Никаких бойцов. Пустынное поле, скирды скошенной пшеницы. В небе луч жаркого солнца. Крупно — предатель. Без всякого стога. Он прижался к земле. Глаза его бегают. На лбу капли пота. Писать! Писать! Писать! И все внимание к внутреннему. И связь фигуры с пейзажем. И транспозиция чувственного, духовного. Теперь он зажил как бы совсем другой жизнью. Все оставалось — писание протоколов, перепечатка их в четырех экземплярах, беседы в частях, но главное был карандаш. Он видел теперь краски сжатых полей, которых не видел раньше, разрушенные и сохранившиеся деревни и городки, другими глазами видел людей в форме и гражданских… Даже тихие ночи не валили его в сон, а тянули к раздумьям, среди которых главным оставался «Предатель».XXVI
С Катей он переписывался часто, хотя они и находились где-то рядом. В последнем письме написал ей: «Меня перевели на должность секретаря трибунала. Присвоили лейтенанта. Выдали аттестат. Кому его? Хочу в Юрьевец, твоей маме и дочке. Согласна?» Долбил УПК — Уголовно-процессуальный кодекс. Особо раздел «Воинские преступления». Оказалось, что Серов имел высшее юридическое образование. Приходилось тянуться! Все это пригодилось, когда рассматривали дело Хаима Ткача, бывшего портного, обросшего, неопрятного человека. Оказалось, что он трижды пытался бежать с поля боя. Первые два раза ему простили. Третий — привел в трибунал. Ткач оказался фигурой совсем противоположной живому предателю и образу, задуманному Горсковым, Было в нем что-то удручающе жалкое. — Мне не везет, — говорил Ткач на заседании трибунала. — Хоть бы от немцев бежали, а то от итальянцев, которые сами в плен сдались и потом песни распевали па радостях, — угрюмо сказал Виктор Степанович. — Не везет, — твердил Хаим Ткач. — Я и лекцию вот товарища лейтенанта слушал, все понял, а опять беда… Алеша вспомнил его. На беседе в третьем батальоне Ткач действительно был и даже вопросы задавал. А итальянцы, верно, сами драпанули в плен. С воздуха их расстреливали немецкие «мессеры», а с земли немецкие пулеметчики и служившие у них поляки. Потом, когда одного из поляков поймали и стали спрашивать, почему он стрелял в итальянцев, он без конца бубнил: — Вшистко едно! Вшистко едпо![16] Что же делать с Ткачом? В сорок втором он был награжден медалью «За боевые заслуги». Серов спросил: — За что, Ткач? Ткач мялся. — Так за что? — Френч командиру роты пошил. — Где сейчас медаль? — Отобрали при аресте. — И правильно сделали, — сказал Серов. — Новую придется завоевывать. Пойдете в штрафбат. Ткача отправили, но Виктор Степанович долго был неспокоен, переживал. — Жалко мне этого Хаима, — признавался он. Через неделю узнали: Ткач ходил в бой, ранен, лежит в медсанбате. — Поехали, Алексей Михайлович, — обрадовался Серов. — Только по пути медаль его захватим. Оправились с Володей. Медсанбат находился километрах в двенадцати. Сразу же нашли Ткача. Он лежал свежевыбритый, праздничный. — Ну как, вояка? — поинтересовался Серов. — На сей раз вроде не оплошал. Трех фрицев прикончил да еще броневичок подбил. — Вот вам ваша медаль! Возвращаю! — сказал Серов. — Ой, спасибо! — засуетился Ткач. — Я вам, товарищ капитан и товарищ лейтенант, если нужно, кители могу… Вот только… — Поправляйтесь и больше от итальянцев не бегайте! — пошутил Серов. — А все-таки в нашем деле доставлять людям радость приятно, — признался капитан, когда они вышли из палатки медсанбата. В трибунале накопились дела. Лейтенант из медсанбата выстрелил в майора. Ему нужна была машина для перевозки раненых. Машинистка жила со старшим лейтенантом, но ушла к другому. Лейтенант застрелил ее. Молодой сибиряк сошелся в селе с женщиной, заразился от нее. Узнав, вернулся и застрелил. Потом пришел к командиру и сам признался. Сказал при этом: «Я ей, стерве, морду набить хотел, а она мне: «Что получил, то и носи». Дела, дела, дела. По последнему делу разбирались долго. Дезертирство заменили самовольной отлучкой, но убийство осталось. А тут еще одно ЧП — уникальное. Девятнадцатилетний красноармеец из хозвзвода. Почти два года на фронте. Был ранен. Беспрекословно возил на передовую термосы с едой, патроны. В один день приказ; — На передовую! Красноармеец: — Не могу! Не могу убить человека! Я — верующий. И так и сяк его уговаривали, а он твердит одно: — Вера не позволяет! Когда дело дошло до трибунала, ему зачитали статью: «Отказ действовать оружием под предлогом религиозных убеждений». Он повторяет: — Не могу! Его судили открыто, перед строем. Присудили штрафбат. В бою красноармеец отличился. В начале октября окончательно пожелтели поля и чахлые лесочки, пошли дожди. Начало рано темнеть. В трибунале работали при свечах и свете коптилок. Движка не было. И вдруг Катя. — Я совсем ненадолго… Просто очень соскучилась. Проболтали час-другой, и она уже заторопилась. — Как твои дела? — Алеша подчеркнул «твои», и она поняла. — По-моему, попалась… — Ну ничего! Видишь, как идут дела. Скоро и войне конец. Вот только за Днепр… А потом повезу тебя в Ленинград. Правда, погибли мои все и дом разбомбило… Все ждали форсирования Днепра. На прощание он сунул ей аттестат: — Пошли маме!XXVII
Осень окончательно вступила в свои права. Поблекли, словно смазались, краски. Все чаще шли дожди. Дороги размыло, и колонны войск шли вдоль дорог, по полям. Но и эти дороги не выдерживали, и рядом с ними прокладывались новые. Из района Гуляй-Поле их перебросили на север. Теперь Катин медсанбат находится совсем рядом, и они виделись через день-два. Противоположный берег Днепра до реки Рось был крупным партизанским краем. Все больше раненых партизан с того берега поступало в медсанбат. Там шли тяжелые бои. Армия получила пополнение живой силой и техникой. Среди них английские танки «матильда» и «Валентайн»: неуклюжие, тихоходные, хотя и бесшумные. Башни огромные — специально для цели. Красноармейцы шутили: — Вот вам и второй фронт! С таким не пропадем! В двадцатых числах октября после мощной артподготовки началось форсирование Днепра от Черкасс до Канева. Но Горсков ничего не видел. Их трибунал находился во втором эшелоне, и они подошли к Днепру, когда через него было переброшено до десятка понтонов. Бои шли где-то далеко, на том берегу. А тут очередное разбирательство. Младший лейтенант до полусмерти избил рядового. Были свидетели. Долго копались. Потерпевший молчал, Младший лейтенант твердил: — За дело! Наконец уцепились: женщина. Связистка. Младший лейтенант жил с ней больше месяца, а потом застал ее с рядовым. Пришлось вытащить связистку. — Я люблю, — призналась она. — Кого же? — сурово спросил Серов. — Или сразу двоих? — Обоих. Вот те раз! Младшего лейтенанта разжаловали, направили в другую часть. И опять в путь. За сутки проехали более двадцати километров и остановились в каком-то лесочке. Впереди в низине лежало село с полуразрушенной церковью. Расположились на ночлег. Серов, Истомин и Вязов разместились в палатке, которую натянули тут же под старым согнутым дубом, а Алеша, три красноармейца из охраны и Володя забрались в кузов машины. Часовых не выставляли, считая, что впереди на много километров свои. Немцы ударили по лесочку неожиданно в три часа ночи. Сначала грянули минометы. Стреляли, судя по всему, из села. Первая же мина попала в капот машины. Она вспыхнула. Осколком задело одного из красноармейцев. Воды не было. Горсков бросился вынимать папки с делами. Володя перевязывал раненого. — Идут, — бросил Серов с опушки. — Занимай круговую оборону. В предрассветной мгле увидели немецкий бронетранспортер, за ним шесть мотоциклов с колясками. В каждом по два фрица. Капитан посмотрел на Горскова: — Алексей Михайлович, справитесь? Или помочь? — Справлюсь! Он был весь в копоти, гимнастерка без пояса порвалась. Бронетранспортер тем временем повернул и пошел вдоль опушки, изредка постреливая, а мотоциклисты спешились, бросив машины, и поползли. Горсков еще вытаскивал последнюю кипу папок, когда Серов, Володя и красноармейцы, включая раненого, дали первые очереди. Хорошо, что все давно обзавелись трофейными автоматами. Бронетранспортер развернулся и опять прошел вдоль опушки в обратную сторону, дав два выстрела. Алеша в изнеможении привалился на минуту к дереву, под которым сложил папки, но тут же встряхнулся и схватил свой автомат. Залег, дал очередь и только тут заметил, что один из фрицев оказался в стороне. «А что, если попробовать взять его живьем?» — мелькнуло в голове. Он бросился чуть левее, скатился по склону вниз и навалился на немца. Немец брыкался, не выпуская автомата, но вдруг сник, Горсков ударил его коленом в пах и поволок в лес. Остальные продолжали стрелять. Наконец Серов бросил одну за другой две гранаты, и оставшиеся в живых три немца поползли назад, к мотоциклам. Бронетранспортер почему-то скрылся на окраине села. Фрицы вскочили в два мотоцикла и помчались назад. Четыре пустых мотоцикла продолжали тарахтеть в низинке. — Товарищ капитан, можно? — Володя умоляюще посмотрел на Серова. — Что можно? — не понял капитан. — Я их пригоню сюда мигом! — сказал Володя. Офицеры переглянулись. — А что, пожалуй, — произнес Серов, — А то мы без транспорта остались. Володя кубарем скатился под откос и по-пластунски пополз к первому мотоциклу. Через минуту он уже был за рулем и гнал машину к лесу. С трудом взял горку и, довольный, выключил мотор. И опять вниз. Через пятнадцать минут все четыре мотоцикла были в лесочке. — Ну, кто умеет? — спросил довольный Володя. Оказалось, кроме него, никто. — Я вас быстро обучу, — пообещал Володя. — Не пешком же нам ходить, имея такой транспорт. Серов стал допрашивать немца. Он хорошо знал язык. — Ир труппентейль?[17] — Дриттэс батайон, дриттэс панцеррегимент дер зехьцентен панцердивизьон. Панцергренадир Ханс Шредер, херр официр[18], — пробурчал немец. — Вэльхес кор бециунгсвайзе армее?[19] — Цвайте панцерармее. Ди хат хир абер лэнгст цюрюкгецогэн. Вир зинд блос ахтцеен фом ганцен батайон ам лебен геблибен[20]. — Вас фюрте зи хирхеер, ин дизэс дорф?[21] — Вир зинд фон ден унзриген цюрюкгеблибен, хэрр официр[22]. — Кайне руссише зольдатен?[23] — Кайне, хэрр официр. Блос паар цивилистен…[24] — Странно, — сказал Серов. Уже рассвело. Они наскоро позавтракали, даже с немцем поделились. В девять утра Горсков с Володей отправились на рекогносцировку. — В селе будьте осторожны, — напутствовал их Виктор Степанович. — И чтоб штаб найти обязательно. Володя завел мотоцикл. А к вечеру Серов первым заметил, как со стороны села в их сторону направляется прямо по полю шикарный автомобиль с открытым верхом. За рулем сидел счастливый Володя, рядом не менее довольный Горсков. Машина подъехала к леску, но подъем взять не смогла, Володя и Горсков вышли. — Все в порядке, товарищ капитан, — первым доложил Володя. — Махнулись! Фрицевский мотоцикл на эту колымагу. Настоящий «мерседес-бенц», тридцать девятого года выпуска! — С кем же вы махнулись? Не с самими ли фрицами? — пошутил Серов. — Почти, — сказал Володя. — Это целая история! Оказалось, что штаб дивизии проходил через это село, но не остановился. Сейчас он невдалеке от Канева. Там идут упорные бои. А машину они действительно выменяли у пленного немецкого генерала. Он с окруженной группой и белыми флагами ехал сдаваться в плен. Пересадили генерала в коляску мотоцикла и сказали: «Жми! Так быстрее будет!» — Поблагодарить хоть успели? — опять пошутил Серов. — Признаться, забыли, товарищ капитан! — сказал Володя,XXVIII
Наступило непредвиденное затишье. Дел не было. И неожиданное чувство какой-то печальной опустошенности вдруг охватило Горскова. Снова перед глазами встала Академия, ее узкие учебные коридоры, прохладные кабинеты для занятий живописью, рисунком, скульптурой. Яркими пятнами вспыхнули в памяти жизнерадостные краски росписей Рафаэлевского и Тициановского залов. Как в это мгновение он пожалел и осудил себя за то, что не дорожил тогда всем этим. И вот только сейчас, на этом обожженном пятачке украинской земли, он горько пожалел того прежнего Горскова за его, в общем-то, пустой снобизм, за никчемный и неумеренный нигилизм, за которым, понял сегодняшний Горсков, не стояло ничего, кроме обманчивого всемогущества молодости, отсутствия настоящей образованности, а главное — знания жизни. Он почувствовал немотную тоску рук, соскучившихся по карандашу или кисти, до боли сжал пальцы. Многое отдал бы сейчас, чтобы встать перед полотном и сделать на нем хоть несколько мазков, ощутить таинственную силу с виду обычных красок: ведь ушли столетия и десятки поколений людей, а их жизнь, горести и радости, ненависть и любовь остались на картинах мастеров. И эти картины тревожат, заставляют остановить свой быстротечный бег каждого, кто соприкасается с ними… Подул ветерок, и небо чуть рассветлелось. После долгих дождей подсыхали леса и поля. Высушили у костра шинели и гимнастерки, сапоги, ботинки и обмотки. И в путь. Их колонна имела странный вид. Впереди «мерседес-бенц», в багажнике которого и на заднем сиденье, прикрытом плащ-палаткой, лежали папки с архивом, за ним три мотоцикла. — Моторизованная колонна! — шутил Володя. Мотоциклы вели три красноармейца, один с перевязанным ухом, а «мерседес», конечно, сам Володя. Недавно Серов получил майора, а Горсков — орден Отечественной войны второй степени — за спасение архива. Отметили эти события своей компанией. Впрочем, не только своей. Была и Катя. После вечера отправились на сеновал. Там было хотя и прохладно, но зато уютно. И они завалились в мягкое душистое сено. Вскоре Катюша уснула, а Алеша не сомкнул глаз. Достал из планшетки лист ватмана и карандаш, приоткрыл дверь сарая и стал набрасывать портрет Кати, «Спящая девушка» — так назовет он эту картину. Уже светало. Редкий снег пятнами лежал в полях. Тянуло холодом. Но Алеша не замечал ничего. Катюша спала так сладко, как спят довольные дети, и Алеша с наслаждением набрасывал штрихи. Еще и еще. И кажется, уже схвачена улыбка, и рука, подложенная под пухлую щеку, и закрытые глаза, которые и сейчас светятся сквозь веки. Шинель, прикрывавшую гимнастерку, потом, а сейчас лицо и руку. Удивительно пахло сеном. В запахах его, казалось, было все — и вчерашнее, и сегодняшнее, и завтрашнее. Вчерашний день с его разнотравьем, и запахи только что прошедшего лета, и ожидание зелени будущей. Алеша проработал до восьми, и, кажется, получилось. Теперь было завершено все, даже свалявшееся сено и уголок стены сарая с толстыми смолистыми бревнами, И луч света из двери, скользнувший по Катиной щеке. Катя сладко потянулась и вдруг испуганно вскочила: — Ты что? Не спишь? Ой, как здорово! Подари, Алеша! — попросила она, окончательно проснувшись, и добавила совсем по-девичьи — Ну пожалуйста! — Нравится? — спросил он. Ему и самому нравилось, но сейчас хотелось услышать это от другого. — Очень! — прошептала Катя. — Подарю, но не сейчас, — сказал он. — Хочу сделать маслом. Хорошо? Катя не обиделась, хотя и погрустнела: — Жаль! Через полчаса она уже собиралась. У нее были легкие дрожки с серым, яблоками, жеребцом. — Что-то очень грустно, — призналась она. — Дай-ка я тебя поцелую покрепче. Может, пройдет? — Не хандри, все будет хорошо, — попытался утешить Горсков. Хотя и ему как-то было не по себе. А через три часа его вызвал майор. — Мужайтесь, Алексей Михайлович, — сказал Виктор Степанович. — Мужайся, дорогой! Алеша ничего не понимал. Что случилось? — Катерина Васильевна… — он запнулся. — В общем, не доехав до медсанбата… Погибла. Когда они примчались на мотоцикле в медсанбат, Катя уже лежала в свежевыструганном гробу, обложенная сосновыми ветками. «Она спит… Я такой рисовал ее сегодня ночью», — мелькнуло в мозгу. На улице у входа в избу, где лежала Катя, оркестр неумело играл Шопена. На подушечках, рядом с гробом, лежали орден Красной Звезды, медали «За отвагу», «За боевые заслуги». А он и не знал. Об этом она не говорила. Мимо шли люди. И среди них многие в повязках, на костылях — раненые. Алеша стоял у гроба и смотрел, смотрел на Катино лицо — совсем, совсем живое. На лбу у него выступила испарина, а Катино смуглое лицо не менялось. «Она спит… Конечно, спит… Вот будет утро, и тогда…» Кто-то сунул ему под нос ватку с нашатырным спиртом. — Спасибо, не надо, — сказал он вяло. Вскоре гроб вынесли на улицу. Он побрел вслед впереди оркестра. Рядом шагал почетный караул. За деревней они свернули влево, к пруду с кургузыми ивами по берегам. Шли, казалось, бесконечно долго, и он не отрывался от лица ее, на которое падали робкие снежинки. Они почему-то не таяли, словно это был не снег, а тополиный пух. На краю озера у старой ивы была готова могила. Опустили гроб, и кто-то начал говорить. Сначала военврач, потом какая-то женщина в длинной шинели. К нему кто-то подошел: — Вы не хотите сказать? — Нет, спасибо, — он почему-то испугался. Он не понимал, что говорят другие, а смотрел в ее лицо. Снежинок все больше и больше. На бровях, на ресницах. На пушке подбородка. Подумалось: «Какое-то наваждение… Так не может быть… С другими могло… Со всеми может… Но только не с ней… Сейчас, сейчас сон пройдет, и все выяснится…» Уже кончились речи, и гроб закрыли и подтянули к краю могилы, а он все думал: «Сейчас… Сейчас…» Вдруг повернулся и пошел прочь. Сзади гремели комья земли. Оркестр играл гимн, а он шел к деревне не по дороге, а прямо по целине. Шел и спотыкался. Володя бежал за ним. — Сюда, товарищ лейтенант, сюда, — подсказывал Володя. Он залез в коляску мотоцикла. — Поехали скорей отсюда. Ехали, молчали. Наконец Володя робко спросил: — Товарищ лейтенант, а товарищ лейтенант! Вы узнали, как все это случилось? Он вспомнил, что не узнал. Да и какой смысл сейчас в этом? — Нет, — сказал он Володе. — И зачем все это? Во сне он видел себя с Катей в Ленинграде. Их дом шестнадцать на улице Марата цел, а мама и баб-Маня ждут их на парапете Музея Арктики. Алеша держит за руку двух девочек — побольше и поменьше — и знакомит: «Мои дочки!» «Они в тебя, — говорит Мария Илларионовна. — Как похожи! Не сердись, Катюша! По-моему, они в Алешу». А Катя молчит… Почему молчит Катя?XXIX
И опять дела, дела. Пять солдат на глазах у младшего лейтенанта упились древесным спиртом и погибли. Полковой повар обварил супом дежурного по кухне. А Алеша писал. Старался для этого выбрать каждую свободную минуту. Сделал в масле Катю. Получился небольшой портрет. Побольше — после войны. И вообще Алеша теперь понимал, что форма, воспринимаемая им раньше преимущественно в ее пространственных качествах, стала ускользающей, подверженной бесконечным становлениям, изменениям, форма стала временной. Он вспомнил Академию: «Натура — альфа и омега живописного искусства». А пока в масле идет «Предатель». Теперь все-таки так: развалины дома на первом плане и он, прижавшийся к полуразрушенной стене. В проломе стены на заднем плане — атака. Серов сказал: — Признаюсь, не ожидал. По-моему, это хорошо. Катю он не показывал. И никому не покажет. Не может показать. Ему неважно было, хорошо или нет. Лишь бы работать, работать, работать! Сколько было смертей позади, и надо бы сохранить этого «Предателя». Теперь в его лицо добавились и черты Хохлачева, и Дей-Неженко, и людей, убивших активистов, и брата Ивася… И, конечно, дела, проходившие через трибунал. Лицо предателя удавалось все больше. Хорошо, что он взял его главным, крупным планом. Так играет каждая черточка, складка, морщинка. И страшные — огромные от пустоты глаза. Впрочем, глаза надо искать и искать еще! За несколько дней до Нового года Серов сказал: — Кажется, Алексей Михайлович, я смогу вам приготовить рождественский подарок. Алеша удивился. — Потерпите пару дней, — загадочно произнес майор. И опять дела. Пожилой старшина живет сразу с двумя — с женщиной пятидесяти одного года и ее дочерью тридцати. Бабка восьмидесяти лет пожаловалась… Шофер украл три канистры спирта с ликеро-водочного завода. Потом доказывал: «Не себе!»… За два дня до Нового года Серов привел к Горскову какого-то человека: — Алексей Михайлович, прошу познакомиться! Горсков, взглянув на гостя, вздрогнул: — Федотов? Саша? Они обнялись и долго не могли прийти в себя. — Вот вам новый писарь, Алексей Михайлович, — сказал майор. — А пока не буду вам мешать. Федотов, Александр Владимирович Федотов. Прекрасный художник, имевший до войны свои персональные выставки. Все их Горсков видел. Алеша вместе с Федотовым учился в Академии. Только Федотов был в сороковом году на последнем курсе. Да, в сороковом он Академию закончил. И тогда, осенью, у него была еще одна выставка в Доме ученых, которую Алеша уже не успел посмотреть: он попал в армию. — Помнишь? — Конечно! — А ты? — Еще бы! В Академии они часто встречались. Федотов был членом комсомольского комитета, и на этой почве их дороги пересекались. Однажды Федотов даже смотрел Алешины работы. Специально ходил в торговый порт, смотрел его акварель и картину «Каторжный труд лесорубов в царской России». Картину зарубил («Не пережито, по-моему», — сказал), а акварели похвалил. Они были на «ты», но Алеша с почтением глядел на Федотова. Тот по-прежнему оставался для него недосягаемым. И вот сейчас что-то давнее, близкое встрепенулось при встрече с Федотовым. Он слушал одиссею Федотова, а сам думал: «Завтра брошу все и попробую сделать плакат. Давно не пробовал. Солдат пьет воду из каски. И внизу подпись: «Пьем воду родного Днепра, будем пить из Днестра, Прута, Немана и Буга! Очистим советскую землю от немецко-фашистской нечисти!» А Федотов рассказывал: — Погорел я в районе Первомайска. Фрицы загнали нас в плавни с четырех сторон. Орудия утопили. Я держал лошадь командира дивизиона Маневича, когда того ранило в живот. Он на моих руках умер. Погибли Левенчук, Остапов, Соловьев, Кедров. Я метался с лошадью по плавням, и вдруг меня свалило, обожгло… Потом оказалось, фриц с «хейнкеля». Очнулся: волокут немцы. Куда? Зачем? Ничего не понимаю. Погрузили на подводу, долго везли, я все время терял сознание. Когда приходил в себя, видел, как плачут женщины на дорогах, как к ним жмутся дети. Потом опять провал. Очнулся, чувствую — кровь из ушей, из носа. Въехали в какой-то городишко. Прочитал объявление: «Кто из гражданского населения будет обнаружен на территории города, подлежит немедленному расстрелу». Потом колючая проволока, дозорные вышки, много собак. На столбе надпись: «Переселенческий лагерь. Вход в лагерь и разговор через проволоку воспрещен под угрозой расстрела». Это только по-русски. Название городка так и не узнал. Из лагеря, где было много штатских, отправляли в Германию. Было много детей по тринадцать — пятнадцать лет, молодых женщин! Их увозили эшелонами. Нас, мужиков, да еще военных, было мало. Каждый день в лагерь привозили все новые и новые партии. Меня почему-то даже не допрашивали. Топали на работу по очистке с собаками. Псы были злые. Злее немцев. Я подружился с фельдшером, нашим, русским. Немолодой. Лет за сорок. Штатский. Он меня и спасал. Первый раз я бежал в январе. Неудачно. Вернее, поначалу все было хорошо, но собаки быстро нашли след, и меня поймали. Вернули в лагерь. Посадили в нечто похожее на одиночный карцер. Два месяца я делал подкоп. Потом полтора ждал удобного случая. Как говорится, наученный горьким опытом. В апреле повезло. Вырвался. Прошел по немецким тылам больше трехсот километров. Всякое, конечно, было. И у партизан побывал, но остаться не пришлось. Началось кровотечение. Выходила меня травами одна добрая старушка. Потом опять пошел. Вышел к своим, а тут меня на проверку. Прошел, конечно, хотя полгода ушло. Уж очень у меня запутанная история была. Ну и вот теперь к вам…XXX
Утром Алеша принес Федотову плакат. — По-моему, получилось, — сказал Александр Владимирович. — Надо срочно показать майору. Виктор Степанович загорелся: — Немедленно повезу в политотдел. Здорово! И то, что сейчас очень нужно. Горсков не решался показать Федотову «Предателя», а особенно «Спящую девушку». И вообще он пока ничего не рассказывал Саше про себя, про Катю. Плакат Горскова дошел до штаба армии и даже фронта, всюду был одобрен и потом размножен. Алешу пригласили в штаб 2-го Украинского фронта. Командующий фронтом Иван Степанович Конев вручил ему орден Красной Звезды. Член Военного совета Иван Захарович Сусайков предложил работу в штабе. Но Горсков отказался. Он не мог уйти от Серова, Истомина, Вязова, от всех своих, а теперь еще и от Федотова. И почему-то казалось, что там, у себя, он ближе к Кате, Глупо, конечно, он понимал, но так было. Зима на Украине стояла слякотная. То ли зима, то ли осень, то ли весна. Были и светлые, ясные солнечные дни, и вовсю гомонили птицы, и в воздухе пахло мартом-апрелем. В один из таких дней Алеша решился: — Хочу, Саша, показать тебе кое-что. Только не суди строго! И он показал «Предателя». Федотов смотрел молча и долго. И отходя от картины, и подходя к ней. — Ты знаешь, Алеша, — сказал наконец, — пожалуй, только сейчас я понял, что без трагедии нет настоящего искусства. Хлебнешь ты горя с этой картиной. Но не верь никому, не сдавайся! Это — настоящее! И, боже, как ты вырос от того «Каторжного труда…». Ведь это небо и земля. Ты потряс меня! Алеша не знал, что сказать. Федотову он верил. Но неужели в самом деле так? Он достал портрет Кати: — Посмотри это. Называется «Спящая девушка». — Прелесть! — с ходу сказал Федотов. — И посмотри, какой ты разный. Эта «Девушка», и рядом «Предатель», и тот же твой плакат. Это хорошо, Алеша, очень, очень хорошо! Признаюсь, даже не ожидал от тебя. Ты прирожденный колорист, с видением мира, начисто лишенным плоской натуралистичности, как бы ни была сильна твоя тяга к конкретности и убедительности изображаемого. Я бы так не смог. Все это было как сон. Алеше верилось и не верилось. В тот же день он начал набрасывать новую картину. По замыслу — «Отступление». Берег Днепра. Боец без каски пригоршней берет воду. Словно прощается с родной рекой. В лице должна быть смертельная усталость и тоска. И решимость, что он еще вернется, обязательно вернется. Алеша работал с увлечением. Сейчас понимал, что он нужен. И не только в трибунале. Плакат, который был известен уже всему фронту, оказывается пригодился. Федотов видел, как он писал «Отступление». Сказал: — Расположение фигуры, пятна света и тени, сам тип головы — все это выходит у тебя не так, как у других. Это — прекрасно! Серов достал Горскову еще красок. Земляные — охры, сиены, умбры, марсы. Минеральные и искусственные — кадмий, белила, кобальты, ультрамарины, краплаки, прусскую синюю, окиси хрома. И холст. — Как вам это удалось, Виктор Степанович? — Немцы отступают, а у них кое-что было, — загадочно объяснил майор. Теперь все, что Горсков делал прежде — какие-то портреты, зарисовки, этюды, — казалось детской забавой. Он показал Федотову сделанное вчерне «Отступление». — Ты растешь на глазах, — порадовался Александр Владимирович и, подумав, добавил: — А не кажется ли тебе, Алеша, что солдат твой должен чуть больше привстать на колено? Понимаешь, как перед полковым знаменем? Словно он дает клятву? — Пожалуй, — согласился Горсков. — Пожалуй, это идея! И он вновь влез в работу. Вспомнил слова ректора Бродского еще в Академии: — Талант — не все. Работать нужно каждый день! Но почему там делали упор на жанр, а не на человека? Вспомнил преподавателя Николая Сергеевича Богданова: — По-моему, ты, Горсков, жанрист, а пейзажи у тебя так, гарнир! После очередного прорыва пришлось хоронить убитых немцев. Бросили на это дело всех. Оказывается, похоронная команда ушла далеко вперед. Возились несколько часов. — А ты заметил, Алеша, — сказал Федотов, — как наши хоронят убитых? Берут за головы, за плечи, но только не за ноги. Немцы не так. Я видел. — А ведь это тоже характер человека, — согласился Горсков. — Чтобы головы не бились, не царапались о землю. Русский человек в основе своей гуманен… В одном из взятых городков Горсков достал маску Лаокоона[25]. Поначалу был счастлив, Потом вдруг бросил ее, забросил кисти и мольберт. Ходил сам не свой. Федотов заметил: — Ты что захандрил? — Да вот Лаокоон, — признался Алеша. — Будь он неладен. Лучше бы я его не видел!.. — Подожди! Подожди! — воскликнул Александр Владимирович. — Помнишь Петра Митрофановича Шухмина? — Конечно, помню. Шухмин был одним из лучших преподавателей в Академии. — Вспомни, что он говорил, — напомнил Федотов. — И тебе тоже, когда смотрел твой «Каторжный труд…», и еще, дай бог памяти, была у тебя картина о земле. Напомни! — «Вручение Акта на вечное пользование землей», — сказал Алеша. — Да, да… Так вспомнил, что говорил Шухмин? Жанром занимайтесь, жанром! И Бродский то же! Так что не валяй дурака и садись за свое «Отступление». Горсков засел. И кажется, дело пошло. Начал теперь не с фигуры и не с Днепра, а с лица. В лице появилась та безотчетная вина перед оставшимися под немцем, которую он так часто видел в лицах бойцов и которую чувствовал сам, когда слышал: «Худющий-то какой…» И та вера, что они вернутся, та внутренняя твердость и жажда победы и мщения, которые видел сейчас, когда они вернулись к Днепру и форсировали его. Пошло, пошло. И фигура на одном колене сразу определилась, и руки, берущие воду из реки. И жадные, пересохшие губы. Как клятва у знамени». Все пошло. — Получается очень заметная вещь, — поддерживал его Федотов. — Не хуже «Предателя» и «Спящей девушки». А в чем-то даже и по-новому, Конечно, и с ней ты хлебнешь. Но будь упрям и стоек!XXXI
Зима устанавливалась. Ударили первые легкие морозцы. Поля покрылись легким снежком. Подсохли дороги, Часто мела поземка. Против их фронта немцы держали часть шестой армии — двадцать две дивизии, среди них пять танковых и две моторизованные. В резерве у немцев были две танковые, одна моторизованная и три пехотные дивизии. Все же фронт медленно, но упрямо наступал. В конце января вместе с Первым Украинским фронтом было завершено окружение корсунь-шевченковской группировки немцев. В котел попали десять дивизий и одна бригада — 73 тысячи солдат и офицеров. Немцы пытались прорваться в районе Новомиргорода и Толмача, но безуспешно, 17 февраля котел был полностью уничтожен, а 10 марта войска фронта взяли Умань. Под Уманью, километрах в десяти — двенадцати, Горсков и Федотов и попали в один странный дом. Собственно, это было подобие старинной усадьбы с высоким крыльцом, облезлыми колоннами итакими же облезлыми львами. Адрес им подсказал майор Серов: — Сходите, полюбопытствуйте, вам должно быть интересно. Дом стоял в старом парке, весь занесенный снегом. В парке росли дубы и клены. Снег вокруг них был усыпан сухими листьями и сучьями. Алеша и Саша поднялись на крыльцо и дернули за шнур звонка. Дверь им открыла дама, кутающаяся в меховую накидку. На вид ей было лет пятьдесят. — Здравствуйте, — сказала она, — милости прошу, милости прошу! Все стены прихожей были увешаны картинами. Картины уходили и вверх, вдоль лестницы на второй этаж. Горсков и Федотов засмущались, но дама их опередила: — Видимо, вы и есть те художники, о которых мне сказал гос… простите, — поправилась она, — товарищ майор. — Ну, не совсем, — сказал Алеша. Со второго этажа сбежала хрупкая девушка и запросто поздоровалась с ними, представилась: — Меня зовут Светлана. — Это наша младшая, — пояснила дама. Коллекция, даже по первому взгляду, была довольно разномастной. Пейзажи Ярошенко, этюд Айвазовского, «Осенняя роща» Кончаловского, какие-то зарубежные мастера, и тут же Карпов — «Нежданова», «Барсова», два карандашных наброска Сталина и пейзаж «Гори». Сразу же мелькнуло в голове: «Как же Сталин здесь был при немцах?»
Матильда Константиновна повела их наверх, Светлана побежала вперед. Они вошли в уютную комнату с книжными шкафами по стенам. Матильда Константиновна зажгла в канделябре свечи, хотя было еще совсем не темно, а Светлана куда-то умчалась. — Ах, эта ужасная война, — вздохнула она, — все запуталось, перепуталось. Такой кошмар! И как, когда все это только кончится… — Скоро кончится, — сказал Саша. — Теперь уже недолго. — Не говорите, не говорите! — продолжала Матильда Константиновна. — У вас, может, и кончится, а у нас уже никогда. Чтобы как-то выйти из затруднительного разговора, Алеша решился: — Матильда Константиновна, у вас там на лестнице рисунки художника Карпова. Товарищ Сталин… И «Гори». А как же при немцах-то? — О, немцы меня не трогали, но Сталина я, конечно, сняла. «Гори» оставила, поскольку они все равно ничего не понимают. — И немцы не растащили вашу коллекцию? — спросил Саша. — Ну что вы! — сказала она. — И как бы они посмели! Ведь мой муж Викентий Иванович служит в РОА. Горсков и Федотов переглянулись. — Что? У самого Власова? — Да, да, конечно. Викентий Иванович и в плен попал вместе с генералом Власовым… Я же говорю вам: эта ужасная война! Муж в РОА, а сын в Красной Армии, капитан в артиллерии. Не знаю только, жив ли? Представляете, сын воюет против отца, отец против сына. Это кошмарно! — Как же это так? — вырвалось у Алеши. — Муж дважды приезжал сюда, конечно, при немцах, — простодушно объясняла Матильда Константиновна, — и я сама задавала ему этот вопрос. Но у него, понимаете ли, убеждения, а что я могу поделать, слабая женщина? Все это не укладывается в голове. Викентий окончил в Москве Академию бронетанковых войск, сын артиллерийское училище, и вот. Она говорила вроде и искренне, но уж как-то очень легко и просто, как будто речь шла о мелких неурядицах в жизни. Прибежала Светлана, стала накрывать стол. Появились красивые чашки, сахарница, вазочки с вареньем. Все было прочно и основательно в этом доме. — И давно вы здесь живете? — поинтересовался Алеша. — О, с тридцать четвертого года! — воскликнула Матильда Константиновна. — Приобрели у одной выжившей из ума бывшей помещицы. Дети были совсем маленькими. Володе — двенадцать. Светочке — семь. А здесь такая прелесть. Природа, тишина! А воздух какой! И никаких городов не надо. Мы уж намотались по разным городам. Знаете, что такое судьба семьи военного! Потом, конечно, Викентий Иванович уехал в Москву учиться и Володя — в Киев, в училище, но они наезжали. А мы коротали время со Светочкой. Я учительствовала… В общем, жили припеваючи, если б не эта война… Алеша заметил, что Светлана («Значит, ей лет семнадцать-восемнадцать», — подумал он) все время не сводит с него глаз. Когда кончилось чаепитие и они пошли смотреть коллекцию, она шепнула: — А вы мне очень нравитесь, а я — вам? Он промолчал. Коллекция действительно была странная, но любопытная. «Приговор» Матейко и «Сено» Сислея. «Торфяные болота» Велтла и эскиз «Вечер в горах» Франка. «Участница восстания» Каплинского и «Портрет старика» Григореску. «Костел» Вишолковского и эскиз «Раненый повстанец» Виткевича. И еще Пурвит, Билибин, Коровин, Степанов, Савенко, Рябушкин, Орловский, Борисов, Петровичев… У Алеши глаза разбегались. Федотов смотрел на все это, кажется, спокойно. Они опять вернулись к Айвазовскому, Ярошенко, Кончаловскому и Карпову, который был здесь в некоей дисгармонии. Нет, еще пейзаж «Гори», «Нежданова» и «Барсова» — ничего, а рисунки, изображающие Сталина? — Вы знаете, — говорила Матильда Константиновна, — что это с натуры? Сталин позировал ему. Горсков слышал об этом еще до войны, но сейчас увлекся картинами и не расслышал Матильды Константиновны. Алеша обнаружил еще несколько работ, может, самых интересных. «Полоскание белья» и «Саша» Серова. Это было прекрасно. И эскиз Маковского к «Похоронам в деревне». Тоже интересно. А это что? Боже, так это «Осенние листья» Васнецова и «Звенигород» Левитана! — Сколько же у вас картин, Матильда Константиновна? — поинтересовался он. — Около ста, — сказала она. — Правда, хороши! — Интересно, — признался Алеша. За неделю, пока штаб стоял под Уманью, они ходили в странную усадьбу еще несколько раз. Опять были чаепития и вздохи по поводу ужасной войны, но главное, конечно, картины. В двадцатых числах марта Алеша забежал в усадьбу один. Федотов был занят. Как рядовой он нес патрульную службу. Матильда Константиновна, как всегда, была любезна, а Светлана не скрывала радости: — Как хорошо, Алексей Михайлович, что вы пришли одни! И она чуть приподнялась на цыпочках и неожиданно чмокнула его в щеку. Алеша смутился. — Светочка у нас влюбчивая, — пошутила Матильда Константиновна. — Берегитесь, Алексей Михайлович! Пили чай, как всегда, в комнате с книгами, при свечах. — А у меня, да и у нас радость, — словно вспомнила Матильда Константиновна. — Вот смотрите, Володя прислал. И она протянула письмо сына Алеше. Он смущенно вертел обычный фронтовой треугольник. — Да вы читайте, читайте, не смущайтесь, Алексей Михайлович, — говорила Матильда Константиновна. «Милая мамочка и сестричка! Судя по сводкам, вас уже освободили, и я спешу написать вам. Срочно ответьте, как вы, как пережили страшное время оккупации. У меня все нормально. Наступаем. Скоро будем в Берлине, — читал Алеша. — За всю войну я был дважды несерьезно ранен, Где наш отец? У меня давно с ним потеряна связь…» — Значит, ваш сын ничего не знает? — Увы, — сказала Матильда Константиновна. — И что ему теперь ответить? Светлана слушала их разговор рассеянно, словно речь шла о чем-то постороннем. Когда мать вышла, она бросилась к Алеше: — Ну, поцелуйте меня, Алексей Михайлович! Поцелуйте же! Я требую! Он резко отстранился. — Я же люблю вас! — шептала Светлана. — Сразу, как вы появились… Я поняла, что всю жизнь ждала вас, только вас. Она, казалось, была сама непосредственность и беззаботность. — Я поеду за вами куда угодно, хоть на край света! — шептала она. Алеша сказал серьезно: — А мы сегодня или завтра уезжаем…
XXXII
Настала весна, буйная, как все на юге. Зазеленели озимые, покрылись листвой деревья, пошла в рост бархатистая трава. Крестьяне в этих местах работали на полях, в садах и огородах, несмотря на оккупацию. Даже виноградники здесь сохранились. 26 марта войска их фронта вышли к государственной границе. Не там, где Горсков начинал свою службу, а южнее. Каменец-Подольск, Долина, Куты оставались где-то в стороне, а теперь позади были Южный Буг и Днестр, впереди Прут. 20 августа, после артподготовки, фронт снова двинулся. 21 августа пали Яссы. В тот же вечер Сталин прислал директиву: «Сейчас главная задача войск 2-го и 3-го Украинских фронтов состоит в том, чтобы объединенными усилиями двух фронтов быстрее замкнуть кольцо окружения противника в районе Хуши, после чего сужать это кольцо с целью уничтожения или пленения кишиневской группировки противника. Ставка требует основные силы и средства обоих фронтов привлечь для выполнения этой главнейшей задачи, не отвлекая сил для решения других задач. Успешное решение разгрома кишиневской группировки противника откроет нам дорогу к основным экономическим и политическим центрам Румынии… Вы имеете все возможности для успешного решения указанной задачи, и вы должны эту задачу решить». В огромном котле оказались пять немецких армейских корпусов. Группировка была разгромлена. 24 августа войска 3-го Украинского фронта вошли в Кишинев, а передовые части 2-го Украинского фронта вышли на ближние подступы к Бухаресту. А в сентябре они были уже на границах Югославии и Венгрии. Особенно трудные бои шли за Дебрецен и Ньиредьхазу. Прорвав после короткой артиллерийской и авиационной подготовки оборону противника, фронт продвинулся на восемьдесят — сто километров и вышел в район Каргаца. Однако возле города Орадя наши части остановились. Казалось, немцы и венгры стояли насмерть. Второй эшелон, в котором находился трибунал, попал под сильный артиллерийский и минометный огонь. Слева и справа показались немцы и венгры. Серов дал команду занять круговую оборону. Горсков лежал в ложбинке за естественным укрытием рядом с Серовым и вел прицельный огонь из автомата. Когда немцы и венгры приближались, в ход шли гранаты. Так было тринадцатого, четырнадцатого и пятнадцатого октября. Бои шли днем и ночью. Некогда было даже поесть. Спали урывками, по два-три часа в сутки. Противник пытался вывести из-под удара 8-ю немецкую, 1-ю и 2-ю венгерские армии и сопротивлялся отчаянно. Шестнадцатого октября венгры под прикрытием немцев пошли в атаку. Из глубины обороны ударили минометы. Первым взлетел их трофейный «мерседес-бенц», спрятанный в кустарнике. Слава богу, что архив был не в нем, а в новом газике, полученном месяц назад. — К бою! — крикнул Серов. Полетели гранаты. Венгры чуть замешкались, отступили. Вроде настала тишина. Передых. Вечер и ночь прошли спокойно. Но наутро на их позиции пошли немцы с остатками венгров. Из глубины обороны ударила самоходка «фердинанд». Через несколько минут она уже вылезла из-за окраинных домиков селения и направилась к позициям трибунальцев, вздрагивая при каждом выстреле. — Можно, товарищ майор? — перед Серовым вырос Володя. — Я ее гранатами! Серов переглянулся с Истоминым и Вязовым. — Давай, Володя, выручай! Володя схватил в правую руку три гранаты и вывалился из-за укрытия, пополз вперед. Немецко-венгерская цепь, словно по заказу, разорвалась, пропуская вперед «фердинанда». Самоходка была в нескольких метрах от Володи, когда он вскочил на ноги и с силой бросил гранаты. «Фердинанд» остановился, но Володя тут же упал. Ранен или упал умышленно? Немцы и венгры, увидев горящую самоходку, стали отползать назад. Володя не вставал. — Я сбегаю, Виктор Степанович? — попросил Горсков. — Подождите, Алексей Михайлович! — буркнул Серов. Самоходка продолжала гореть. Открылся люк, и из него выскочили три фигуры в дымящихся комбинезонах. Горсков автоматной очередью уложил их. Немцы и венгры уже отползли к селению. Виктор Степанович! — опять попросил Горсков. — Ну ладно, давайте, — согласился тот. Алеша полез, оставив свои гранаты и бутылки. Метр, пять, двенадцать. Вот и Володя. Он лежал лицом вниз, прошитый автоматной очередью. — Володя! — тронул его Горсков и осекся. Володино лицо с широко открытыми глазами замерло. По шее текла кровь. Взвалив Володю на себя, Алеша пополз обратно. — Вот… Все… — тяжело дыша, сказал он, вернувшись к своим. Все сняли шапки. Могилу вырыли на пригорке, в кустах, рядом с машиной. Никто ничего не говорил. Только Серов, когда Володю уже положили в могилу, сказал как-то неестественно тихо. — Парень был… Ни в этот, ни в следующий день немцы и венгры их не беспокоили. Девятнадцатого приехал из штаба дивизии посыльный и привез приказ перебазироваться вперед. Теперь в их хозяйстве остались газик и три мотоцикла. С помощью Володи теперь все стали водителями. Через три часа они были уже в местечке Деречке, южнее Дебрецена. Разместились основательно в домах. Гражданского населения здесь не было. А уже утром снова в путь — в только что взятый Дебрецен. Город еще дымился и лежал в развалинах. Отступая, немцы взорвали многие дома, мельницу, вагоноремонтный завод. Горели склады. Трибунальцы заняли первый этаж школы. Второй был разрушен. Город был забит нашими войсками, техникой, лошадьми. Играли гармошки, аккордеоны, баяны. Дымили походные кухни. После ужина Горсков и Федотов решили пройтись по городу. Уже стемнело. Они миновали несколько улиц и вышли на площадь к мрачному зданию костела. На площади горели костры. Стояли распряженные тачанки, видимо из конно-механизированного корпуса. Возле одного из домов — танк «ИС» и три «тридцатьчетверки». На танке стоял капитан и читал собравшимся вокруг красноармейцам и командирам какой-то документ. — «Чувство мести к врагу мы должны обрушить на головы подлинных виновников этой кровопролитной войны… Нельзя смешивать дважды порабощенное немецким и венгерским фашизмом трудящееся население Венгрии с преступным венгерским правительством…» — На нас работает! — пошутил Алеша. Никто, казалось, не заметил, как в хмуром октябрьском небе тяжело проплыл самолет. Площадь вздрогнула, три бомбы одна за другой грохнули с неба. Раздались крики, ржанье взметнувшихся лошадей. Федотов отлетел куда-то в сторону, а Алеша почувствовал острую боль в правой руке и упал на брусчатку. Откуда-то ударили зенитки, а Горсков лежал, ничего не понимая, прижав правую руку к холодному камню. — Ты что, Алеша? — подбежал Федотов. — Вставай! Вставай! Алеша бессмысленно смотрел на Федотова: — Не могу, Саша, не могу! — Давай я тебя, — суетился Федотов, стараясь приподнять Горскова, но тот заваливался на бок. Алеша старался плотнее прижать горящую руку к мостовой. Так боль была терпимее. А зенитки продолжали палить в черное небо. Трассирующими били пулеметы. На площади кричали раненые… Три лошади лежали с разорванными животами. Одна, с перебитыми ногами, билась. — Прикончи! Прикончи ее! — кричал кто-то. Раздался выстрел, и лошадь затихла. В свете костра Алеша увидел красноармейца, который прижимал к животу свой автомат. Под ним расплылось пятно крови. Он сам упал на автомат, и тот выстрелил. Кто-то впрягал в тачанки лошадей, и на них клали раненых. Кто-то матерился. — Славяне! — кричал осипший голос. — Где вы, славяне? Наконец Федотов силой оторвал Алешу от мостовой и поставил на ноги. Правый рукав шинели и гимнастерки у него был разодран. По клочьям текла кровь. Алешу качало и подташнивало. — Ты можешь идти? Здесь близко! Очень прошу тебя, Алеша, ну пожалуйста! — умолял Федотов. — Я попробую, не сердись, я попробую, — шептал Алеша. — Как глупо! Как глупо!.. Они двинулись в сторону своих. — Обопрись на меня, больше обопрись! — просил Саша. — Сейчас, сейчас, только отдышусь, — повторял Горсков. Его вырвало, стало чуть легче. Левой рукой он прижимал правую, и она тоже была вся в крови. Они добрались с трудом. Алешу перевязали как могли, но все понимали, что ранение тяжелое. — Надо искать врача, — сказал Серов. Притащил откуда-то военфельдшера, пожилого мужчину с прокуренными усами. Тот осмотрел раненого. — У вас транспорт есть? Немедленно в госпиталь! Завели газик, погрузили Горскова в кузов. С ним поехали Серов и Федотов. По пути Алеша впал в беспамятство и, когда они приехали в госпиталь, уже ничего не понимал. В голове мелькали Катя, Светлана и почему-то Вера.ХХХIII
Он пришел в себя на вторые сутки — в чистом белье, в большой десятиместной палате. Первое, за что ухватился, — рука. Она была цела. Правда, в бинтах, и на привязи, но цела. «До чего не повезло, — подумал. — Отвоевался на самом финише войны. И так бездарно, глупо!» Его каждый день навещали трибунальцы. Через неделю Серов сказал: — Кажется, завтра мы двинемся дальше… Но вы не огорчайтесь, Алексей Михайлович, вы нас еще догоните. — Теперь не догонишь… Горсков подумал, попросил: — Скажите, Виктор Степанович, чтобы Федотов ко мне сегодня забежал… Федотова он попросил: — Саша, собери мои вещички. А главное, мои работы. Свяжи их покрепче. И занеси если можно, сюда. Они обнялись. Саша все принес — чемодан и картины. — И… — Алеша не знал, как начать. — Рисовать тебе надо, Саша! Федотов задумался. Потом сказал: — Сам знаю, но что-то оборвалось во мне, Алеша, после всего, что случилось. Особенно после этих шести месяцев проверки… Первые две недели прошли благополучно, но потом рука опять заныла. Он уже знал, что ранение нелегкое: задеты кость и сухожилия. — Придется ампутировать, — сказали врачи. Горсков восстал: — Ни за что! Он понимал, что все рушилось. И «Спящая девушка», и «Предатель», и «Отступление», и все задумки на будущее. — Ни за что! — повторил он начальнику отделения. Его уговаривали, грозили, а он повторял одно: — Ни за что! Он дал подписку. В декабре его погрузили в теплушку санитарного поезда. Поезд двинулся по узкой венгерской и румынской колее через Трансильванию на Яссы. Потом пересадка, санпропускник, и дорога, уже наша, пошла на Киев. Рука ныла. Он старался не смотреть на нее. Температуру скрывал. Боялся, что снимут с поезда. Лишь в начале января они добрались до Москвы. В Москве было очень холодно. Крепкие морозы сменялись пургой и метелями. Улицы еще плохо чистили, и город был завален снегом. Машины, автобусы, троллейбусы шли в один ряд. С крыш свисали огромные сосульки. Тротуары превращались в наледь и катки, люди скользили. В переулках совсем тесно. Слева и справа огромные горы снега. Горскова отвезли в Сверчков переулок в госпиталь, что находился в бывшей 113-й школе. Госпиталь был старый, сложившийся, со своими традициями. Видимо, он существовал тут с начала войны. Первый же обход врачей был неутешительный. — Запустили, молодой человек, запустили! Сделали снимки. — И осколки остались. Металл и кость. Его опять повезли на операцию. — Доктор, а руку вы мне сохраните! Понимаете, я без руки… Он не договорил. — Попробуем, попробуем, молодой человек. Операция длилась часа полтора. Горсков все видел, слышал, но ничего не чувствовал. Потом куда-то провалился. Проснулся, пощупал руку: цела. Посмотрел в окно. Там каркали вороны, жались к карнизам воробьи и голуби. Крыши домов лежали в огромных шапках снега. Из многих форточек торчали трубы «буржуек». Чуть левее в большом доме был отбит угол, стена испещрена осколками. «Видимо, бомба попала», — отметил про себя Горсков. В феврале, накануне Дня Красной Армии в Москве появилась Светлана. — Ну, как ты здесь? Она сразу заговорила с ним на «ты». Ему показалось, что Светлана очень изменилась. Похорошела, что ль? Или посерьезнела? Повзрослела? А она уже хлопотала в палате. Появились ведро и тряпка. Были вынесены судна и утки у лежачих. Санитарок не хватало, и Светланины заботы пришлись кстати. Светлана пробыла больше недели. К ней привыкли, и, когда она уезжала, загрустили все обитатели многоместной палаты. — Обязательно пиши, — наказывала Светлана. — Как? — Пиши левой, учись. — Но у меня же и на левой нет двух пальцев! — Все равно учись! И он мучительно учился. Пробовал писать. Бросил. Каракули! Пробовал рисовать. Сделал карандашный набросок: липы и дубы за окном. Бездарно! И опять писать, писать, писать. Держать карандаш тремя пальцами, да еще левой руки, было безмерно неловко и трудно. Но он держал. И продолжал водить по бумаге. А война шла далеко за пределами наших границ. 13 февраля в приказе Сталина прозвучал номер их дивизии. Она отличилась в боях за Будапешт. Фронты вовсю наступали на Берлин. Первые два письма уже не такими каракулями он написал Светлане и Саше Федотову. Сашу и всех трибунальцев поздравил с Будапештом. А Светлана? Он много думал об их отношениях. Была ли это любовь? Он не мог ответить себе на этот вопрос. И потому написал Светлане дружески, но сдержанно и на «вы», как обращался с ней прежде. Он начал рисовать левой. Пейзажи не получались, а портреты какие-никакие, на потребу, выходили. Рисовал соседей по палате, врачей, сестер. Они были довольны, приходили в восторг. Еще бы: кто их рисовал когда-нибудь? Рисовал Горсков карандашом и акварелью. Акварелью получалось чуть лучше. Карандаш его утомлял, а акварельные краски шли легко, с удара, как говорится. И краски не надо месить, как масло. Это был, конечно, самообман, он понимал. Его тянуло к маслу. Он вышел из госпиталя в мае, на третий день после победы. Правая рука его была в черной перчатке. Надо все начинать сначала. Но как?
XXXIV
А Москва жила победой. И май был под стать этой радости, которую так долго ждали и ради которой отдали столько жизней. Первое, что решил Алексей Михайлович: никакой Умани, никакой Светланы. Решил бесповоротно. Почему? Он бы и сам не мог ответить себе, но внутренне знал, так и только так. Не с этого надо начинать. Весь мир Светланы, с их картинами — ценными и всякими, случайными, — казался чуждым ему. Чем больше думал, тем дальше отходила от него Светлана. Катя-Катюша. Ее не вернешь. А жизнь идет. И надо как-то обосновываться на этой земле. Вновь искать любви? Любовь не ищут. С Верой все перегорело. А может, и хорошо, что перегорело. Помчаться в Ленинград, найти ее, отбить и построить то, что светило еще до войны? Может… Может, и так… Ему повезло. Его хорошо встретили в МОСХе и в студии Грекова. Все хвалили «Спящую девушку», «Предателя» и «Отступление». Хвалили профессионально и с результатом. «Спящую девушку» купил и сразу же выставил Русский музей. «Предателя» и «Отступление» — Третьяковка. Правда, там картины спрятали в запасник («Сами понимаете, победа, а тут тема…»), но важно, что взяли. Осенью Горсков поступил в институт. И комнату получил в коммунальной квартире на Стромынке. Он с благодарностью вспоминал довоенную Академию. И все же война дала ему несравненно больше. Видимо, без потрясений, без трагедий нет настоящего искусства. Его фамилия стала мелькать в газетах и журналах, а он мучился. Писать левой рукой он больше не мог, а правая пока не давалась. Он пробовал рисовать в перчатке. Все, за что его вознесли, было вчерашнее, а новое? Прошли осень, зима, и вдруг он решился: «Поеду в Ленинград! Немедленно!» Его отпустили на неделю. В Ленинграде он знал два адреса: Русский музей и Лахтинская. На Марата он не пойдет, чтобы не будить воспоминаний. В Русском музее он долго смотрел на свою «Девушку». Сейчас, в красивой раме, картина как бы отделилась от образа Кати, да и от него самого. «Любопытно», — сказал себе Алексей Михайлович. На Лахтинской он нашел знакомый дом, номер квартиры и позвонил. Дверь открыла Вера. — Ты? Какими судьбами? — Пустишь? — спросил он. — Ты из госпиталя? — она заметила его руку. — Давно, еще в прошлом году… Она продолжала стоять в дверях. — Так пустишь? — повторил он. — Конечно, конечно, проходи, — заспешила она и провела его в комнату. Он сбросил шинель на диван и внутренне поругал себя, что не купил хотя бы перед поездкой в Ленинград нормальное пальто. — А где дочка? — он посмотрел по сторонам. — Катюша в детском саду. «Странно, тоже Катюша», — подумал он. — Ну, а… — Он запнулся. — А он? Вера поняла: — Его давно нет… — Он погиб? — Почему же! Жив-здоров, но мы не общаемся… Разговор их был каким-то натужным, неестественным. — А остальные твои? — Остальные все в блокаду… Только мы с Катюшей выжили… Кажется, именно тут, в этот момент, у него родилась мысль о новой работе. Это будет картина «Первенец». Да, «Первенец». Блокадный Ленинград, зима, декабрь сорок второго. Перед окном мать с ребенком. Может, Вера и Катя, а может, другие, но именно это. «Первенец» — это жизнь, это победа! Вера с любопытством смотрела на него. Заметила и на левой руке отсутствие пальцев, спросила: — Это тоже госпиталь? — Это раньше… Опять помолчали. Наконец она вспомнила! — А я о тебе много читала. И в Русском музее была. — Я знаю, — почему-то сказал он. Вновь пауза. Вдруг он встал: — Так вот, Вера, забирай свою Катюшу, собирайся, и поедем в Москву. Дочку твою я усыновлю или удочерю, как это называется. Согласна? Вера побледнела. Потом спросила: — Ты меня просто жалеешь? — Ни в коем случае, — решительно сказал он. — Я еще зайду, вечером. И, набросив шинель, он вышел.XXXV
Они зарегистрировались и прожили вместе почти тридцать лет. Прожили нормально, хотя и сложно. Вера долго не хотела второго ребенка, но в пятьдесят седьмом решилась: у них родился сын Костя. В начале пятидесятых годов у Алексея Михайловича были неприятности. Ему вспомнили «Предателя» и «Отступление». Его ругали за пессимизм и минор многие из тех, кто прежде его возносил. Но все это было давно, и Третьяковка давно достала его вещи из запасников. А в Русском музее, рядом со «Спящей девушкой», появился его «Первенец» — первая вещь, сделанная, когда он скинул черную перчатку. Сейчас, вспоминая эти годы, он не исключал, что замысел «Первенца» был тогда важнее его чувств к Вере. Но что говорить об этом, когда вот и Веры уже нет… А тогда… Первая беда пришла в дом, когда Катюше исполнилось шестнадцать. У нее определили — epilepsia[26]. Вера вспомнила: наследственность через поколение. Ее отец страдал эпилепсией и алкоголизмом. Пришлось ко всему привыкать. Катюша кончила школу, а потом медицинский, выскочила замуж и устроилась на относительно легкую работу в поликлинику. По ночам дежурить ей нельзя, детей иметь нельзя и многое нельзя. Но жить можно. Вторая беда пришла не сразу, через много лет, в семьдесят четвертом. У Веры — инсульт. Через полгода второй. Он похоронил Веру. Третья беда. Костя, порадовавший перед смертью мать поступлением на филологический (так мечтал!), забросил институт. Сначала думали: повлияла смерть матери. Оказалось — нет. Он трижды бросал институт и трижды случайную службу… Теперь у Алексея Михайловича никакого контакта с ним. Алексей Михайлович уходил в работу и только в работу. Пожалуй, он никогда не рисовал так много, как в последние годы. И это было не хуже «Спящей девушки», «Предателя», «Отступления» и «Первенца». Хвалили и много говорили о его картинах «Кровь», «Последний патрон», «Дети», «Автопортрет», где он изобразил себя на площади Дебрецена в тот памятный вечер сорок четвертого. Евгения Михайловна писала о колорите его картины. Ее мысли перекликались со словами Федотова, он помнил их: «Ты прирожденный колорист…» А как она точно говорила о железной логике ритма, помогающей достичь вершин трагической выразительности… Он пытался что-то делать современно, но получалось не то. А там — там ему все было ясно. И, наверно, правильно заметила Евгения Михайловна в своей монографии, что он художник одной, навсегда выбранной темы. Евгения Михайловна… Евгения Михайловна… Она понимает его с полуслова и даже без всяких слов. Может, это и есть любовь? Или духовное родство? В шестьдесят-то? А почему нет?XXXVI
Давно уже Алексей Михайлович не знал столько приятных хлопот. Одиночество, да и прежде два года болезни Веры приучили его все делать на скорую руку за счет кулинарий и готовых полуфабрикатов, а то и вовсе обходиться без домашней еды. Катюша давно жила с мужем отдельно, а Костя то пропадал месяцами, то лежал в больнице. И вот сегодня первый званый вечер за многие годы. Он достал бутылочку армянского и полусладкое шампанское, боржом и зелень на базаре, а икру и рыбки разных сортов, которых нет в магазинах, раздобыл в Доме художника, в ресторане. Горячего решил не делать, хотя и помечтал о любимых пирожках, но по этой части он был не мастер. Стол он накрыл в кабинете, чтобы не соблазнял телевизор очередным многосерийным фильмом. К восьми все было готово, и довольный Алексей Михайлович даже забубнил мотив веселой детской песенки: «К сожаленью, день рожденья только раз в году». Звонок раздался десять минут девятого, и он поспешил открыть дверь: — Пожалуйста, Евгения Михайловна! Милости прошу!
Евгения Михайловна показалась ему сегодня очень красивой и очень молодой. Последнее чуть смутило его, но он быстро поборол смущение, помог ей раздеться и пригласил к столу. На ходу от растерянности бросил комплимент: — Вы сегодня — красавица! — Какая красавица! — улыбнулась Евгения Михайловна. — Старая тетка. Она пошутила что-то еще на тему возраста (Алексей Михайлович был старше на тринадцать лет), но быстро переключилась. — У вас хорошо, — призналась Евгения Михайловна, хотя она уже бывала здесь, когда работала над монографией. Они виделись раз пять или шесть. — Старался, — согласился Алексей Михайлович, но дальше распространяться не стал, как драил пол, вытирал пыль и даже скоблил окна. Из сумочки Евгения Михайловна достала целлофановый пакет: — Это в общий котел, пока теплые. — О, пирожки! — воскликнул он. — А я, признаться, как раз о них мечтал. Догадались! Догадались! Он принес блюдо и высыпал пирожки. — С мясом и с рисом, — пояснила Евгения Михайловна. — Прелестно! Ну, а теперь к столу! Он налил рюмку и поднял свою: — За вашу монографию! Только я, по-моему, уж слишком умным у вас получился. Внутренне он одернул себя: «Кажется, что-то я слишком мельтешу». Меж тем Евгения Михайловна вела себя очень просто. Ела, пила, поднималась, смотрела фотографии и безделушки на стенах, трогала книги. — А знаете, Алексей Михайлович, что у меня уже давно не было таких симпатичных праздников. Пожалуй, со студенческих лет. Правда, я училище кончала поздно. — Я тоже не рано свой институт, — признался он. — А вы что так? — Обстоятельства, — сказала она. — Сначала война, а потом всякие неурядицы. В результате за среднюю школу сдала экстерном в двадцать шесть, а Строгановское кончила в тридцать два. — Вы обо мне все знаете, — заикнулся Алексей Михайлович. — А я о вас… Если не секрет. — Никаких секретов, — просто сказала она. — Замуж выскочила рано, с мужем разошлась. Сынишка умер. Вот и все. — Простите, — мягко сказал Алексей Михайлович. Евгения Михайловна заметила, что в кабинете нет ни одной картины Алексея Михайловича. Поинтересовалась. — Себя не держу, — признался он. — Да и нет у меня ничего. Зато вот это есть. Он показал маленький автопортрет Грабаря. Признался: — Это очень люблю. И ценю! Они стали перебирать общих знакомых по искусству, и оказалось, что их много. Кто-то учился вместе с Евгенией Михайловной в Строгановском, кого-то оба знали по МОСХу и Академии художеств. Чуть поспорили о молодых новаторах, но потом сошлись на том: пусть пишут, но только не приспосабливаются! — Лишь бы еще не повторяли задов под флагом оригинальности. А то тут и Пиросмани, и Петров-Водкин, вплоть до лаковой «шкатулочной» живописи. За окном была зима, неуравновешенная, как все последние годы, с перепадами температуры от трех до тридцати и опять до трех. Но сегодня было тепло и чуть слякотно, с крыш приятно капало, а кошки, перепутавшие время года, дико выли. Под карнизами, совсем по-весеннему, ворковали голуби. Опять вернулись к безделушкам. Их немало было у Алексея Михайловича. Следы путешествий по Африке, Азии, Латинской Америке… — А почему вы за рубежом ничего не рисуете? — поинтересовалась Евгения Михайловна. — Да как вам сказать! — попытался объяснить он. — Ездить, смотреть люблю. А рисовать? Россию бы нарисовать. Алексей Михайлович встал, подошел к Евгении Михайловне и неловко положил ей руки на плечи: — Это глупо, конечно, в моем возрасте, но мне кажется, что я люблю вас, очень, как мальчишка… Она не отстранилась, не сняла рук его, не прогнала. — Что же вы молчите? — тихо спросил он. —. Молчу? — она вроде удивилась. — Мне просто хорошо. Он вернулся на свое место, и они замолчали. Он смотрел в ее лицо, совсем еще молодое, с чуть приметными следами увядания. Это как лес или поле в начале сентября. — А детей своих я на вас не свалю, — словно вспомнив что-то, поторопился сказать он. — Мой крест, мне и… — Нет уж, все пополам, милый мой Алексей Михайлович, — она улыбнулась. — Все, все! Потом, помолчав, сказала серьезно: — Я не могу выразить это словами, но то, что вы сделали для меня, это прекрасно…
XXXVII
Художник не должен рисовать то, что не хочет.Что главное в военной теме? Может быть, милосердие в самом широком смысле… Сито времени — мерило искусства. Прав ли был Стасов, когда слишком страстно подчеркивал социальную и национальную роль искусства? Нет ли своих специфических законов, которые характерны для каждого вида искусства? Ведь еще Маркс критиковал писателей, которые придавали слишком большое значение выбору темы и недооценивали художественную форму.
Разве импрессионисты не способствовали подъему и обновлению живописи, разве они не открыли законов и не создали произведений, которые коренным образом отличались от всего, что было сделано до них? Они по-новому стали видеть мир, доказали возможность обобщения и контраста.
Цветовая композиция — непременное условие каждого удачного холста.
Яркость, праздник цвета, но не пестрота, даже в картине о базаре.
Куинджи и Рерих. Великие колористы. Ведь их цвет, как и музыкальная фраза, действует на психику человека, создавая то или иное настроение.
Искусство имеет свои преимущества перед наукой и техникой. Возьмите паровоз или автомобиль, созданные двадцать — тридцать лет назад. Несовершенные уродцы! А произведение искусства трогает вечно. С восторгом мы смотрим на портреты Олив, написанные в конце XIX века. А как нас волнуют «венеры» первобытных людей. Искусство не умирает.
Он рисовал каждую свободную минуту и удивлялся тому, что рисунок зачастую получался более живым, когда люди, которых он изображал, не знали об этом. Как только кто-нибудь из бойцов садился по его просьбе, его поражала скованность и неестественность выражения. Не потому ли все семейные фотографии похожи друг на друга каким-то внутренним оцепенением и «порядком», который убивает жизнь и превращает искусство в скучную обязанность. Виды неконкретного искусства могут оказаться полезными в прикладном деле. Здесь фантазия, яркий цвет, геометрический рисунок, нанесенные на бытовые предметы, могут украсить жизнь, служить средством эстетического воспитания.
Ему было близко искусство, связанное с идеями, мыслями и чувствами людей.
Сочетание цветовых тонов. Как оно усложнилось по сравнению с той же эпохой Возрождения, когда существовали не только канонические композиции, но и канонические цветовые отношения. Мыслями он невольно снова и снова возвращался к безымянному бойцу, который погиб от своего автомата на площади Дебрецена. И было как-то стыдно, что он, видя это горе, запомнил неуклюжую позу бойца, его темную фигуру и кровавое пятно, расползавшееся в бликах костра. Наверное, только жизнь может давать примеры все новых и новых композиций.
Иногда он замечал, что когда ему удавалось «устранить» себя как человека, а были только замысел и натура в воображении и кисть, лихорадочно работающая кисть, то пусть получалось небрежно, но получалось. А когда он старался и вырисовывал, то все было верно, кроме жизни.
Известная притча. Африканский художник-самоучка сделал скульптуру «Взбесившийся слон». Художник-европеец сказал: «Ты способный, но тебе надо учиться». Африканец окончил академию и в качестве диплома опять сделал скульптуру «Взбесившийся слон». Европеец посмотрел и сказал: «Академия убила в тебе художника».
«Академия, училище, студия — все само собой. Но не будь Отечественной, я не стал бы художником».
ЕЛИЗАВЕТА ПАВЛОВНА
Ей никто не давал больше шестидесяти, хотя на самом деле было за семьдесят. В городе народилось и выросло уже несколько поколений, и ее звали «живчиком», «неугомонной» те, кто появился потом, а старики старожилы уважительно: — Елизавета Павловна. Перед ней снимали шляпу, кланялись, и она была счастлива, что ее знают все и она всех знает. У нее был проездной билет на все виды транспорта, кроме метро, которого в городе еще не построили, но она не любила ездить ни на трамвае, ни на троллейбусе, ни в автобусе, а все пешком да бегом, мелкой трусцой от обкома до облисполкома, от горкоммунхоза до гороно, от горторга до горсовета, от горплана до редакции «Ленинского пути» и местного телецентра. Прибегая утром в приемную горисполкома, она почти всегда с порога спрашивала: — Знаменитый путешественник из шести букв? Или: — Американский романист прошлого века из пяти букв, вторая «о»? Все в душе посмеивались над ее страстишкой разгадывать кроссворды, но помогали как могли. А она шутила: — Вот жаль, что «Правда» и наш «Ленинский путь» кроссвордов не печатают. А то бы я вас приобщила. Маленькая, сухонькая, с довольно еще моложавым лицом, на котором в красивых по-молодому глазах трепетала чуть затаенная печаль, она не сидела ни минуты и кроссворды отгадывала чуть ли не на ходу. Как пять пальцев знала весь город: кто выполнил план, кто не выполнил, где рождение, а где похороны. Весь день была в бегах и только вечером, придя к себе домой, в крошечную однокомнатную квартиру, которую ей дали шестнадцать лет назад при официальном уходе на пенсию, понемногу утихомиривалась. Она рада была остаться одна. Вечерние часы — это была ее пора. Пила чай, разгадывала кроссворды и долго рассматривала фотографии единственного сына своего — Игоря, который сейчас так далеко…В сорок первом году ей исполнилось тридцать четыре года. Она была старше своих сокурсниц. Училась на четвертом курсе пединститута и жила в общежитии. Родителей не помнила. Лиза воспитывалась в детском доме. До института работала секретарем-машинисткой и лишь после тридцати вдруг решила поступить в институт. Училась Лиза неплохо, но перспектива быть учительницей ее пугала. Видно, это не ее призвание. Подруг почти не было. Как все неполноценные люди — в детстве перенесла туберкулез позвоночника, потом появился горб, — она была слишком замкнута и не в меру обидчива. Знала и то, что дети порой злы. Как они отнесутся к горбатой учительнице? Правда, природа, словно стараясь компенсировать физическое уродство, наделила Лизу довольно миловидной внешностью. У нее были необыкновенно красивые волосы, которые, вырываясь из узла, падали вниз волшебным золотым водопадом. Но она редко носила их распущенными — ей казалось неудобным обращать на себя внимание чем-нибудь красивым. Лучше оставаться незаметной. Тогда меньше будут замечать ее горб. Зато глаза — большие, темные, с постоянно мерцающими в них то болью, то грустью — Лиза спрятать, как волосы, уже не могла… На танцы Лиза не ходила и в вечеринках не участвовала. К тому же в институте она оказалась старше своих сокурсниц и от этого еще больше стеснялась. Война быстро приближалась к их городу, шла массовая эвакуация, уезжал и их пединститут, но Лиза колебалась: остаться или нет. Наконец решила: «Нет, не поеду» — и пошла в горком комсомола. По старой памяти. Куда не раз ходила еще комсомолкой. В горкоме было суетно и сумбурно, десятки людей бегали по лестницам и коридорам, толкали сейфы и ящики, жгли во дворе бумаги, и Лиза долгое время не могла ни к комупробиться. Потом ей повезло, она попала к давней знакомой — второму секретарю Любе Щипахиной. Та сказала: «Садись!», а сама продолжала говорить по телефону. — Я в эвакуацию не поеду. Может, смогу принести какую-нибудь пользу здесь? — Какую? — переспросила Люба Щипахина, замороченная своими делами. — Я же горбунья, — Лизе нелегко дались эти слова. — И думала… — Подожди, подожди, а пожалуй… — Люба ухватилась за Лизину не очень ясно высказанную мысль. — Все может быть. Телефон трезвонил бесконечно. В следующем перерыве между разговорами Люба Щипахина сказала: — Сейчас позвоню в горком партии, посоветуемся. Она набрала номер и долго кричала в трубку: — Игорь, это ты? Ты — Игорь? Будто тот был на другом краю света. — У меня тут девушка одна, горбатенькая, понимаешь, — объяснила она. — Так вот у нее есть идея… Что? Да, я ее давно и хорошо знаю. Ты понял? И я так думаю. Да, да. Ладно, пришлю. Привет! Лизе она сказала: — Пойдешь в горком партии, к завотделом пропаганды. Орлов Игорь Венедиктович. Только не сегодня. У них там все расписано. А завтра к девяти. Договорились? — Хорошо, спасибо, — сказала Лиза. Наутро она была у Орлова. Он ей очень понравился. Серьезный, красивый, уверенный, хотя возрастом лишь чуть старше ее. Они говорили очень долго, он дотошно расспрашивал ее о довоенной жизни, пытался даже убедить ее эвакуироваться, наконец, выговорившись сам и выслушав все Лизины доводы и ответы, предложил план: в случае оккупации города Лиза становится связной между городом и партизанским отрядом, который будет базироваться в ближних лесах. Для этого ей нужно в первую очередь выехать из общежития и поселиться где-то в другом месте. Может быть, лучше всего в каком-нибудь подвале, в дворницкой. Сделать это необходимо немедленно. А потом обязательно съездить в лес. Это он берет уже на себя. Игорь Венедиктович все провернул за один день. Договорился с горжилотделом, и вечером Лиза перебралась на улицу Красина в подвальную комнатку, бывшую дворницкую. Работник горжилотдела помог ей обставить комнату, благо в доме уже было много брошенных квартир. Соседки по общежитию (институт еще не уехал) с удивлением смотрели на неожиданный Лизин переезд, но она ничего не объясняла, а они не очень-то и спрашивали. Наутро Лиза снова пришла к Орлову. — Ну, устроилась? — Ага, — ответила Лиза.
Березовая роща была прозрачна насквозь. Стройными рядами стояли деревья, словно приготовились к праздничному параду. — Эту рощу нам помещик один оставил, — пошутил Игорь Венедиктович. — Был у нас тут такой Сквознов-Печерский. Не слышали? Нет, Лиза не слышала. — Рассказывают, интереснейший человек, — продолжал Игорь Венедиктович. — Хозяйство у него не ахти какое имелось, зато лес содержал в образцовом порядке. Консервировал грибки, ягоды, дикую грушу и яблоки, рябину красную и черную. Заводишко имел рядом с усадьбой. Рецепты сам составлял. — Когда же это было? — спросила Лиза. — Конец прошлого века, начало нынешнего, — объяснил Игорь Венедиктович. — А в городе у него красивый особняк был. На улице Салтыкова-Щедрина, знаете, где сейчас женская консультация. Увлекался литературой. Дома у него было нечто вроде салона. Причем взглядов придерживался весьма либеральных. К нему приходили и Достоевский, и Толстой, и юный Вересаев. Следил за дебютом Маяковского. Ездил на похороны Толстого в Ясную Поляну. — А потом? — До революции не дожил два года. Оставил завещание — завод передать крестьянам, что так или иначе получилось помимо него. Знаете, в Кузьминках? А в доме просил устроить литературный музей. Только, увы, мы никак не собрались. Правда, последние годы готовили кое-что и даже новое здание под женскую консультацию начали строить, да вот — война… Теперь уже после войны… За березовой рощей начались посадки дубов и кленов, а дальше пошла ель. Они ехали в лес на горкомовской «эмке». Водитель уверенно вел машину — должно быть, не впервой колесил по этим хорошо накатанным лесным дорогам, — видимо, тут часто проходили машины и телеги. Минут через сорок по краям дороги начались заросли орешника, вдоль ручья тянулся невысокий ивняк. Лиза не спрашивала, далеко ли еще, но Игорь Венедиктович словно угадал ее мысли: — Теперь скоро. Вообще-то не часто партизаны располагаются так близко от больших городов. Но мы рискнули. В густом лесу открылась поляна, на которой стояли две полуторки, трактор с прицепом и подводы. Несколько десятков мужчин и женщин копали землянки, пилили бревна, перетаскивали с телег и машин мешки с продовольствием. На самодельном столе стоял патефон. Ляля Черная пела какой-то романс. Игоря Венедиктовича тут знали многие. Одни подходили, здоровались, другие приветствовали его кивком. — Пойдем, — сказал он Лизе и направился к одной из землянок. Она была готова. Спустились вниз, в прохладу. Землянка большая, пол устлан еловыми ветками, у входа плащ-палатка. Посредине большой стол с лавками по краям, сбоку нары в два ряда. — О-о! — неожиданно вырвалось у Лизы. Ей, маленькой, даже эта просторная землянка показалась чуть ли не дворцом. — Это штабная, — пояснил Игорь Венедиктович, — а теперь сюда. Он откинул плащ-палатку в противоположной стороне, и они попали в глубокую траншею. — Будешь приходить сюда, — пояснил Игорь Венедиктович. — Когда потребуется, конечно. По траншее они прошли в другую землянку, еще более просторную. Тут широкие нары были с двух сторон. — Это санчасть или госпиталь, как хочешь, — сказал Игорь Венедиктович. Дальше оказалась траншея под углом в сорок пять градусов. — Там еще строят, — Игорь Венедиктович остановился. — В общем, все землянки соединяются окопами, а левее, за ручьем, — землянка с наблюдательным пунктом. Это приблизительно в километре отсюда. Они вернулись к машине: — Теперь поехали. — В город, Игорь Венедиктович? — спросил шофер. — В город с заездом во второй продмаг. — И добавил, обращаясь к Лизе: — Запоминай дорогу как следует. В городе они остановились у магазина. Вернее, подъехали к нему со двора, с черного хода. Игорь Венедиктович позвал Лизу с собой. Они вошли прямо в кабинет директора, поздоровались. — Давай мне все, что есть, начиная с муки, — обратился к директору Игорь Венедиктович. — Как, кстати, с мукой? Пуд дашь? Директор ответил, что даст. Тут же отвесил пуд муки, два килограмма сала, несколько батонов колбасы, сахар, крупу, макароны, соль, десять пачек чая, еще что-то. Продавщица передвигала костяшки на счетах. Лиза не знала, кому предназначались эти продукты. — Да, а постное масло, — вспомнил Игорь Венедиктович. — Банка найдется? Налили полную банку, три литра. Игорь Венедиктович достал бумажник, рассчитался. Все погрузили в машину. — Теперь на Красина, — дал команду Игорь Венедиктович шоферу. И обратился к Лизе — Дом тринадцать? Она кивнула. — Славное число, — усмехнулся Игорь Венедиктович. Подъехав к дому, они перенесли все в Лизину комнату. Лиза пыталась возражать: — Зачем? Да как же так? А деньги? — Не морочь голову, — сказал Игорь Венедиктович, — так нужно. А деньги? Потом, после войны, рассчитаемся. Теперь так… Он осмотрел комнату и особенно пол. Нашел какие-то клещи, подцепил две доски. — Если… В общем, если придут немцы, продукты спрячь под пол и первые дни не выходи. Поняла? — Поняла, — шепнула Лиза. — Ну, пока. Остальное тебе сообщат потом… Они с шофером уехали. Лиза разложила продукты, потом, почувствовав вдруг неимоверную усталость, почти не раздеваясь, легла на кровать. Она еще никогда не была такой богатой. А ночью ей снился Игорь Венедиктович в лесной землянке — высокий, красивый, сильный, и она стояла рядом — маленькая, горбатая, несчастная. Как в эту минуту ей тоже хотелось быть красивой! Ведь лицо у нее вроде ничего, а вот горб — будь он проклят! И Лиза долго плакала во сне. Когда проснулась, лицо ее было мокро.
Елизавета Павловна отложила кроссворды, остались незаполненными четыре строки, три по горизонтали, одна по вертикали, и достала пакет с фотографиями Игоря. Их было совсем немного, этих фотографий, и она знала их наизусть. Вот последняя, кубинская. Игорь прислал зимой. Он в штатском на фоне пальм и какого-то здания, в сомбреро. На Кубе он жил уже четвертый год — так долго длилась командировка. Даже на ее семидесятилетии не был. Не удалось вырваться. Прислал телеграмму. Она вся истосковалась по нему, а в Москве Игоря ждали Клава и маленькая Оленька… А этот снимок сделан перед отлетом на Кубу. Игорь в летной форме, рядом жена и дочка, совсем крошечная, только что начавшая ходить… Это он с Клавой после окончания училища. Это — курсант. Это — в десятом классе с товарищами… Несколько детских. В первом классе и в детском саду. Взяла в руки самую пожелтевшую. Сорок восьмой год. Единственная фотография, где она вместе с годовалым сыном. Их снимал старый друг, бывший партизанский фотограф Фрол Матвеевич. Тогда, в сорок восьмом, он уже работал в ателье на Салтыкова-Щедрина и специально пришел к ней домой. Сфотографировал и загадочно улыбнулся: — Молодчина ты, Лизуха, право, молодчина! Да, многие тогда были поражены появлением у нее ребенка. И сплетни, наверное, ходили бог знает какие, но правда так никому по сей день и не известна. А Лиза отшучивалась: — Ветром надуло! Никто не догадался и почему она назвала сына Игорем. Кто мог знать, что она любила того Игоря, которого давно уже не было на свете?! Игоря, Игоря Венедиктовича, как она звала его про себя…
Немцы вступили в город в конце сентября. Три дня и три ночи Лиза пряталась в своем подвале, пока на улицах шли бои. И когда все стихло, не выходила еще двое суток. Потом оделась похуже, взяла в руки плетеную корзинку и решила пойти посмотреть. На улице Красина было непривычно пусто. Только два разбитых трамвайных вагона стояли на рельсах да возле универмага лежал на боку сгоревший троллейбус. Она направилась к центру. Здесь встретила нескольких немцев. Военных. На центральной площади на здании Дворца культуры железнодорожников висел флаг со свастикой и у подъезда стояли часовые. На стенках многих домов объявления. Каждое на немецком и русском языках. Некоторые она мельком прочла. Какой-то немецкий комендант грозился расстрелом. Бургомистр Платонов призывал жителей выйти на работу. В центре площади, слева от горкома партии, стояла на газоне виселица с тремя трупами. Лиза подошла, вздрогнула. Все были мужчины. На каждом дощечка: «Еврей — большевик». Она никого не узнала, но ей стали не по себе. Вот, значит, какая она, оккупация. Обошла еще несколько полупустых улиц и вернулась домой. Дома спрятала, как велел Игорь Венедиктович, под пол продукты. А ночью начались первые облавы. К ней тоже немцы врывались дважды в сопровождении каких-то русских, но быстро уходили. Утром она узнала, что со станции отправлен в Германию эшелон с парнями и девчатами, а к зданию ТЭЦ гонят людей на восстановительные работы. Вечером она решила сходить туда. Вокруг было довольно много народу, суетились немцы, некоторые с собаками. До того, как ей идти на улицу Салтыкова-Щедрина к дому напротив женской консультации, оставалось еще два дня. А именно там ей была назначена Орловым явка, но только в последний день пятидневки от трех до половины четвертого. За это время она четыре раза подходила с разных сторон к территории ТЭЦ. Работа кипела вовсю. И хотя близко пробраться ей не удавалось, она поняла: работы на ТЭЦ завершаются в девять вечера. Подошла к девяти. Выждала, когда люди стали расходиться, выбрала наугад дряхлого старика, пошла за ним. На Комсомольской догнала, осмотрелась, никого, кажется, вокруг, кроме трех-четырех таких же штатских. Поравнявшись, спросила: — Тяжело? Он остановился, не понял: — Что тяжело? — Работать, — сказала Лиза. — Да уж, не мед, с девяти утра до десяти вечера, — сказал старик. — Вот и карточку выдали. Отмечают. Не пришел — расстрел, да и еды не получишь. Лиза шла рядом. Они понемногу разговорились. Узнала, что восстановительные работы на ТЭЦ идут полным ходом. Если верить старику, то через пятидневку-другую ТЭЦ даст ток. — А что ж вы? — вяло поинтересовался старик. Лиза пожала плечами. Они попрощались. Когда на следующий день Лиза шла через площадь Революции к улице Салтыкова-Щедрина, трупы с виселицы уже сняли. Болтались только оборванные концы веревок. Улица Салтыкова-Щедрина была пустынна. Лишь два немецких мотоциклиста промчались в сторону вокзала да проехала впряженная в здорового рыжего битюга телега с возницей-немцем. Немец, совсем уже немолодой солдат в неумело надетой пилотке, почему-то помахал Лизе рукой и сказал «паф-паф». Напротив женской консультации, где должна состояться встреча, Лиза никого не увидела и прошла два квартала вперед. Потом вернулась назад. Снова целый квартал. Здесь ее окликнули: — Горбатенькая! Ох, как делалось больно и было нестерпимо обидно, когда ее кто-нибудь так называл. У подъезда стояла старушка, видимо вышедшая из парадного. Она показалась совсем древней. «Из бывших учительниц», — подумала Лиза. — Вы меня? — Тебя, если ты Лиза, — сказала старушка. — Давай пройдемся, — предложила она и взяла Лизу под руку, свободную от кошелки. Лиза всюду так и ходила с пустой кошелкой. — Значит, первое — ТЭЦ. Узнай срок пуска. Второе. Тебя вызовут на биржу труда. Не отказывайся! Ни в коем случае не отказывайся. Поняла? — Поняла, — подтвердила Лиза. — Биржа рядом с комендатурой. Когда получишь повестку, возьми паспорт и иди туда. Там работает наш человек. Его фамилия Семенов. Он поможет, — быстро и четко объяснила старушка. И добавила: — С тобой мы встретимся здесь же ровно через пять дней в это же время. Орлов велел тебе кланяться. — А он в лесу? — обрадовалась Лиза и даже почему-то покраснела. — В лесу, в лесу. — А как вас зовут? — спросила Лиза. — Зови Никаноровной, — ответила старушка. — А я тебя ведь помню по институту. — Да что вы! А я нет! — призналась Лиза. — Я на кафедре русского языка работала, — сказала Никаноровна.
Перед отъездом Игоря на Кубу Елизавета Павловна гостила у него в Москве. Когда пришла отпрашиваться к председателю горисполкома, он сказал: — Какие счеты! Поезжайте, ради бога, гостите о Москве сколько нужно. Евгений Кузьмич совсем недавно стал председателем, до этого работал на заводе автотракторного электрооборудования, и Елизавета Павловна была знакома с ним много лет. — Хотя, признаюсь, без вас мы будем как без рук, — добавил он. В Москве Елизавета Павловна пробыла ровно три дня и даже провожала сына на Шереметьевском аэродроме. Это были счастливые дни. В последнее время она редко видела Игоря, а уж Оленьку и подавно. К Оленьке сразу привязалась, водила ее в детский сад по утрам и вечером приводила домой. Оленька тоже не отходила от бабушки. Накануне отъезда Игорь, возвращаясь к давнему разговору, снова спросил: — А может, мама, останешься все-таки у нас? Квартира, сама видишь, большая. Летом дача. И Оленька к тебе очень привязалась. Подумай! Елизавета Павловна всегда плохо спала, и на новом месте тем более, и последнюю ночь перед отъездом Игоря много думала. А утром сказала. — Не сердись, Игорек, но не могу я. Привыкла к городу своему, к работе своей привыкла. Не могу. — Ну сколько же можно работать, — пытался возразить Игорь. — Тебе же семьдесят скоро. — А я годов своих не замечаю. И не болею, слава богу. А жить привыкла на людях. Когда в Шереметьеве Игорь и его друзья, авиационные специалисты, уже сели в самолет, об этом заговорила и Клава: — Подумайте, Елизавета Павловна, очень прошу вас. Как было бы хорошо! Но Елизавета Павловна почему-то вспомнила Евгения Кузьмича, девочек-секретарш, других работников исполкома и повторила: — Не сердитесь, Клавочка! Никак не могу! В поезде, когда возвращалась домой, мучилась. Обидела Игоря. Обидела Клаву. И Оленька такая славная! Какая упрямая старуха! Неужели не могла пойти навстречу людям? А что? Не могла и не могу! И не хочу. Даже не желаю! Игоря в люди вывела одна. Вот он какой! На Кубе потребовался! А теперь, извольте, буду жить как жила. И она постепенно, под мерный стук вагонных колес, успокоилась. Смотрела в окно. Пролетали ярко-рыжие осенние леса и сжатые поля. Появлялись впереди и внезапно за поездом исчезали речки и ладно отстроенные деревни. Поезд гулко грохотал, пробегая через мосты, и замедлял ход у платформы. На сердце у Елизаветы Павловны было хорошо, как у человека, выполнившего свой долг. Думала о своей судьбе. Странная, конечно, она у нее сложилась. Почему не доучилась после войны в пединституте? Стала бы учительницей. Или в медицину могла податься. Например, окончить курсы медсестер. Ведь любила это дело. Газетчика, конечно, из нее бы не получилось. Это только в войну она дурака валяла в немецкой газетенке, а так, быть журналистом — надо не только любить это дело, но и иметь талант, а уметь писать — это не кроссворды решать. Вот так и получилось, что всю жизнь курьером… Но, может, и хорошо? Всегда на людях, и постоянно чувствуешь свою, хотя и маленькую, полезность. Конечно, хорошо!
Лиза получила повестку. На бирже оказалось немало народу. И это несмотря на то, что уже несколько эшелонов было угнано в Германию, многие работали на восстановлении ТЭЦ и город казался полупустым. Лиза нашла господина Семенова (догадалась, что так его надо называть) и, когда он освободился от дел, присела на предложенный стул: — Я от Никаноровны. — Понятно, понятно, — сказал Семенов. — Сейчас. Паспорт? Она протянула свой паспорт. Думал Семенов долго, спросил только про образование и опять молчал. — Пожалуй, так, — произнес он наконец. — Образование у вас хорошее. И работу я вам предложу, мне кажется, не плохую. Писать умеете? — Писать? — не поняла Лиза. — Вроде… — Я не о том. Немецкое командование собирается начать выпуск газеты «Русский голос» для населения. На базе типографии «Ленинского пути», что ли, благо она сохранилась хорошо… — Да вы что! — «С ума сошли?» — чуть не сорвалось у Лизы. — Чтобы я в этом, — она не сказала «грязном», — листке!.. — Не кипятитесь! Не кипятитесь! — успокоил Семенов. — Наши люди, вы понимаете, я подчеркиваю «наши», всюду нужны. Наконец, есть дисциплина. — Чья дисциплина? — опять не выдержала Лиза. — Наша, — Семенов выразительно посмотрел на нее и еще раз повторил — Наша! — Я не умею работать в газете, — сказала Лиза. — Ничего, научитесь. Думаю, — поправился он, — должны научиться. Стенгазету в институте не выпускали? — Да. Даже редактором была. — Вот и прекрасно. Эта работа не будет особенно отличаться. А я доложу о вас, что вы работали в многотиражке. Поддерживайте эту версию. И все же Лиза сникла. Семенов продолжал объяснять. — Шеф-редактором газеты назначен господин Штольцман из прибалтийских немцев. Его заместителем господин Евдокимов… Он здешний. Не знаю, кем и где он работал, но здешний. Как вы понимаете, это не мои кадры. А вы и Александра Васильевна Жукова — студентка университета — будете сотрудниками. Жукова действительно сотрудничала в университетской многотиражке. Ну, плюс, конечно, корректура, работники типографии. Эти все уже подобраны… Семенова позвали в соседний кабинет. Он извинился: — Я сейчас. Лиза осмотрелась. В большой комнате стояло шесть столов, и у каждого толпились по нескольку человек. Стол Семенова был самый громоздкий, и она сидела возле него одна. «Наверное, Семенов какой-то начальник», — подумала Лиза. Скоро он вернулся. — Понимаете ли, Елизавета… — он заглянул в паспорт, — Павловна, есть масса блистательных возможностей делать хорошую, нужную людям работу. Но прошу вас и Александру Васильевну об одном: не зарываться! Александре Васильевне, впрочем, я это уже сказал. Итак, как говорится, с богом! Завтра же выходите на работу. Адрес, надеюсь, знаете. Немцы люди аккуратные. Не опаздывайте. В восемь ноль-ноль. Так она попала тогда в «Русский голос». Вернувшись из Москвы, Елизавета Павловна появилась в исполкоме чуть свет. Секретарши еще в приемной не было, но в кабинете она услышала голос Евгения Кузьмича. Он говорил по телефону. Она приоткрыла дверь. — Заходите, заходите, — кивнул Евгений Кузьмич и, закончив телефонный разговор, попросил — Ну, выкладывайте, как там ваш кубинец! — Вы что-то рано, — сказала Елизавета Павловна. — Да у нас сегодня жилищная комиссия, — объяснил председатель. — Дел завал! Ну так как? Елизавета Павловна рассказала про Москву, не упустила ни невестку, ни внучку, и, конечно, больше всего про Игоря. Под конец, засмущавшись, сообщила о просьбе сына и невестки: — Не знаю, может, и не права я, но не согласилась. — И правильно сделали, — поддержал ее Евгений Кузьмич. — И потом, как же мы без вас? Уже выходя из кабинета председателя, Елизавета Павловна вспомнила: — Да, Евгений Кузьмич, пролив из восьми букв, первая «л»? — Лаперуза, — засмеялся Евгений Кузьмич. — Как, годится? — Ой, точно, — обрадовалась Елизавета Павловна…
Наутро Лиза пришла в редакцию «Русского голоса». На месте был только Евдокимов, мерзкий тип лет пятидесяти с торчащими, как у африканского слона, ушами и лысым черепом. Он, кажется, с не меньшим презрением посмотрел на Лизу, чем она на него. Потом показалась Александра Васильевна, которую Лиза сразу стала называть Шурой, и, наконец, последним появился господин Штольцман, высокий, подтянутый, в немецкой форме. Он пригласил всех на совещание и долго, нудно, с чисто немецкой дотошностью говорил о газете, о ее задачах, о возможных каналах распространения. В заключение сказал: — Первый номер мы должны выпустить через три дня. По-русски он говорил безупречно. И хотя номер этот на две трети состоял из официальных немецких материалов — победных сводок, перевода речи Геббельса, распоряжений местных властей, — Лизе и Шуре пришлось немало побегать по городу. Требовалась краткая информация о восстановительных работах на трамвайной линии, об очистке улиц, о налаживании торговли, беседы с людьми, прославляющими освободителей. Лиза чувствовала и понимала, что Шура свой человек и ей можно доверять, но сохраняла осторожность. Поэтому, когда у нее родилась мысль, связанная с ТЭЦ, она не стала делиться с Шурой, а пошла прямо к Штольцману. — Господин Штольцман, — сказала она, — вы сами знаете, как у нас трудно обстоит дело с местной информацией. Вот я и подумала: сейчас задача номер один — пуск ТЭЦ. Может, я с ходу туда и соберу материал? Штольцман вроде с интересом посмотрел на Лизу. — Хорошо, я посоветуюсь, — ответил он. На следующее утро он передал Лизе специальный пропуск. — И постарайтесь взять несколько интервью, — посмотрев на нее сверху вниз, брезгливо бросил он. Лиза была уже и не рада своей затее. Она знала смысл слова «интервью», но как его «брать» не имела никакого представления. Да и потом, она же горбатая! Защемило давней тоскою сердце — как она, такая маленькая, уродливая, будет общаться с людьми! Станет ли кто с нею разговаривать серьезно! В этот момент Лиза снова пожалела, что тогда растерялась и не сумела убедить Семенова не направлять ее на работу в «Русский голос». Да разве с ее характером, с ее внешностью, с ее замкнутостью заниматься газетным делом? Долго, волнуясь, выспрашивала она у Шуры, как «брать» интервью, как вести себя, что говорить? Шура сама толком не знала, как это делается… Потом все-таки отправилась на ТЭЦ. Шла медленно, с трудом поднимая ноги от земли: что ждет ее там? На ТЭЦ Лиза пробыла почти три часа. И, кажется, сумела взять ненавистные интервью: одно — у немца-наладчика, другое — у русского. Правда, разговаривали с ней нехотя и как-то снисходительно, словно с ребенком, задающим в неподходящий момент пустые вопросы… Но она узнала главное — пуск ТЭЦ намечен на десятое октября. Информация ее прошла в номер, который вышел на следующий день. Удивительная эта была газета «Русский голос». С одной стороны, она как бы заигрывала и сюсюкала со своими читателями. А с другой — всячески запугивала их сообщениями о репрессиях и расстрелах, глупо-восторженными сводками и цитатами из речей Гитлера, Геббельса, Риббентропа и Геринга. Были информации о переименовании улиц и площадей. Площадь Революции стала площадью Гитлера. Проспект Сталина — проспектом Гинденбурга. Проспект Ленина — проспектом Кайзера. Улицы Салтыкова-Щедрина — Берлинской, Красина — Одерской, Колхозная — Дрезденской. Переулок Короленко — переулком Шпрее. Сосновский — Зигфрида… Русские названия вытравлялись, но, чтобы сообщить новые, приходилось называть старые. Через несколько дней Лиза, теперь уже с благодарностью к Семенову, поняла, что у работы в «Русском голосе» есть несколько неоспоримых преимуществ… Во-первых, эту газетку почти никто не читал, несмотря на все старания немцев. Во-вторых, режим в редакции был относительно вольным. И уж раз она могла свободно ходить по городу и даже побывать на ТЭЦ, то и впредь надо не упускать подобных возможностей. Наконец, в редакции был радиоприемник, по которому днем Штольцман и Евдокимов слушали Берлин, а вечером Лиза и Шура — Москву. Правда, сводки были удручающие, но все же спокойный, уверенный, родной голос диктора вселял надежды. А у Шуры, несмотря на предупреждение Семенова, все время рождались отчаянные, порою сумасбродные планы диверсионных акций. То она хотела так построить очередную информацию, чтобы заглавные буквы ее слагались в слово «Россия». То придумывала антисоветскую карикатуру на манер загадочной картинки, перевернув которую можно было прочитать «Гитлер — капут». То еще что-то в таком духе. Лиза тоже старалась что-то придумать и однажды пришла к Штольцману (Евдокимова она старалась избегать). — Вот, посмотрите, может быть, годится для газеты? — Что это? — на лице Штольцмана появилось обычное, когда он видел Лизу, выражение скуки и досады. — Кроссворд, — Лиза вся внутренне сжалась. — Для привлечения читателей. Штольцман покрутил кроссворд и так и эдак. Сказал: — Заполните мне квадратики. Лиза заполнила, принесла шефу. — Горький, Аксаков, Мазепа, Языков, Толстой, Достоевский, Гоголь, Нос, Апухтин, Надсон, Есенин, — вслух читал шеф-редактор. — Почему одни русские имена? — Но ведь у нас газета для русских читателей, — пояснила Лиза. — Да-да, — протянул Штольцман. — Вы считаете, что это может привлечь читателей? — Мне кажется, что да. — Пожалуй, — согласился Штольцман и поставил визу. «Ну уж второй я тебе такой придумаю!» — обрадовалась Лиза. Первый кроссворд прошел без приключений. Шеф-редактора где-то даже похвалили за выдумку. Или он сам так подал себя. В типографии машину-американку крутили руками. Электричества еще не было. Крутили все — и рабочие, и корректоры, и Лиза, и Шура, и для вида даже Штольцман с Евдокимовым. — Давай песок в машину подсыплем? — шепотом предлагала Шура. — Ты вспомни, что тебе говорил Семенов, не зарываться, — охлаждала ее пыл Лиза. Тираж газеты — тысяча экземпляров, — конечно, из-за кроссвордов не повысился, но Лиза с энтузиазмом сочиняла следующий, на сей раз целиком иностранный. «Вы сжигаете книги Гейне, а я вам и Гейне подсуну», — думала Лиза. Этот кроссворд получился интересней. Гёте, Вагнер, Гофман, Клейст, Валькирия, Гейне, Гауптман, Гримм… — Кто такой Клейст? Не знаю, — спросил шеф-редактор. — Драматург и новеллист девятнадцатого века. Штольцман завизировал. Третий кроссворд Лиза сделала географическим, из названий немецких городов, связанных с революционными событиями. Шеф-редактор завизировал его, ни о чем не подозревая. Кроссворды стали появляться часто. В назначенный день под предлогом сбора информации Лиза отправилась на улицу Салтыкова-Щедрина. Никаноровна ее уже ждала. Погода была промозглая, мерзкая. Несколько раз выпадал снег, но быстро таял. Улицы были заполнены мусором, обрывками объявлений и газет, блестели малыми и большими лужами. По Салтыкова-Щедрина тянулись немецкие обозы с мешками и ящиками. Проехала колонна мотоциклистов с броневичками во главе. За ней опять обоз. Лошади, как на подбор, рыжие, могучие, с розовато-белыми мордами. — Знаю, работаешь? — спросила Никаноровна. — Да. — Довольна? — Ну как вам сказать… — Ничего, ничего, дело нужное. Как с ТЭЦ? — Десятого октября. — Точно? — Перепроверяла. Даже в газете у нас писали. — Ты бы хоть газетку свою принесла. — Не догадалась. — Теперь постарайся почаще бывать на вокзале или в районе его, — сказала Никаноровна. — Смотри за приходящими эшелонами. Это — раз. За проходящими мимо. Это — два. А встретимся с тобой, как и всегда, здесь же. Они расстались. Десятого октября ТЭЦ действительно дала ток. А в ночь на одиннадцатое город потряс взрыв. Лиза вскочила с постели: «Неужели ТЭЦ? Но сколько же туда надо было доставить взрывчатки и как? Явно в городе подпольщики!» До утра она уже не спала. Чуть свет побежала задними улицами к ТЭЦ. Еще издали увидела — развалины. Днем солдаты ставили на центральной площади новые виселицы. Через час на трех из них висело девять человек. После работы Лиза подошла поближе. Среди них узнала того старичка, с которым вместе недавно шли с ТЭЦ. На груди каждого — дощечка с надписью: «Бандит».
Никогда Елизавета Павловна не лгала никому. И Игорю, конечно. Но существовала в ее жизни тайна, из-за которой ей лгать приходилось. Но это была святая ложь. Когда Игорю исполнилось шестнадцать лет (он учился в восьмом классе), настала пора получать паспорт. Скрепя сердце Елизавета Павловна достала его свидетельство о рождении. Игорь никогда не спрашивал об отце. То ли не хотел беспокоить мать, поскольку сама она молчала, то ли просто чувствовал, что этот вопрос задавать не надо. А тут в графе «отец» увидел прочерк и, чуть заикаясь, сказал: — Ты никогда не говорила, мама, об этом… Но что, у меня действительно нет отца? «Он погиб», — хотела ответить Елизавета Павловна, но что-то остановило ее. И она устало, стараясь смотреть ему в глаза, произнесла: — Считай, Игорек, что у тебя отца нет. — А почему я Венедиктович? — спросил Игорь. — Так, был один очень хороший человек. Это был первый и последний их разговор об отце.
Странное дело: Штольцман был немцем, Евдокимов — русским, но оба они одинаково ненавидели Россию и русских людей. И к делу своему — «Русскому голосу» — относились с полным безразличием. Лиза замечала, что немецкие, даже официальные, материалы плохо переводятся на русский. Сказала об этом Штольцману. — Ну и что? — сказал Штольцман. — Смысл не искажается? — Кажется, нет. — А остальное ерунда. По предложению Евдокимова для местных материалов отвели конец газеты, низ четвертой полосы. Все публиковалось здесь в подбор, без всякого смысла. «Для нужд немецкой армии принимаются шкуры крупного рогатого скота, волос, меха, пенька. Оплата продуктами. Адрес…» «При большевиках я жил плохо. С приходом немецкой армии вздохнул свободно. Я работаю и получаю продовольственную карточку. Призываю всех горожан поддерживать новый порядок. Рабочий Месячкин». «Производится сбор теплых мужских вещей, а именно свитеров, варежек, носков, нижнего белья, валенок в обмен на продукты. Адрес…» «За диверсию на городской ТЭЦ привлечены к ответственности и казнены путем повешения девять граждан, а именно…» «Более двухсот добровольцев вышли расчищать улицы и площади города от снега. Бургомистр г-н Платонов А. А. выразил благодарность всем работникам и наградил их подарками». И все в таком духе.
Каждую свободную минуту Лиза ходила к вокзалу, иногда чуть дальше — к сортировочной. Она считала эшелоны, и разгружающиеся и проходящие мимо. Большая часть эшелонов шла на восток. Она старалась запомнить все, а вечером эти данные переносила на бумагу. У Лизы был теперь пропуск — «аусвайс» — даже с правом хождения во время комендантского часа. Но этим Лиза не пользовалась. После взрыва ТЭЦ в городе каждую ночь проходили облавы, на стенах домов появились новые страшные приказы коменданта и бургомистра Платонова, улицы постоянно патрулировались. Как условились, к трем часам Лиза направилась на встречу с Никаноровной. Утром она успела засечь еще три эшелона — один разгружающийся, с лошадьми и походными кухнями на сортировочной, и два прошедших, с танками и зенитными орудиями. В три Никаноровны на месте не оказалось. Не появилась она и в половине четвертого. И в четыре. Лиза забеспокоилась, к тому же по улице уже несколько раз прошел патруль, и решила вернуться в редакцию. Ночью спала плохо. На следующий день на всякий случай опять появилась в три часа на условленном месте, но Никаноровны по-прежнему не было. По пути в редакцию она прошла через площадь Революции и заметила перемены. Трупы с виселиц были сняты. Остался только один. Лиза подошла ближе и с ужасом узнала Никаноровну. Все лицо ее было разбито. На груди табличка: «Партизан». В редакции она увидела фотографию повешенной Никаноровны и информацию, подготовленную Евдокимовым. В ней с восторгом живописалось о поимке крупной партизанки и намекалось на ее причастность к взрыву ТЭЦ. «Так будет с каждым, кто выступает против нового порядка, утверждаемого победоносной германской армией», — заканчивалась заметка. Физическое уродство, как это порой бывает, не ожесточило, не озлобило Лизу. Она была мягка со всеми, у нее не было врагов, и в людях она обычно видела только хорошее. И как ни ужасна была война, как Лиза ни воспринимала немцев, она на первых порах не чувствовала злобы к ним. И вот эти повешенные — в какой уже раз! И теперь тихая, незащищенная Никаноровна! Они же не люди! Они хуже зверей! Лиза была в отчаянии: «Что делать? Что делать?» Время словно остановилось, и она никак не могла дождаться окончания рабочего дня. А тут еще шеф-редактор послал их с Шурой крутить печатную машину. Ведь электричества не было. Лишь около девяти часов Лиза вернулась домой. Есть она не могла; не раздеваясь, тяжело опустилась на постель. Сидела так час-два, а может, и больше. Наконец приняла решение: «Пойду! Будь что будет, а все равно пойду!» Пока она шла по городу, два раза сработал пропуск, и патрули отпускали ее. На окраине стала осторожнее, все чаще оглядывалась по сторонам. Миновав последний мостик, она направилась по грунтовой дороге в сторону леса. Тут было тихо, пустынно и от этого еще страшнее. На небе, как назло, появилась неполная луна, освещая дорогу. Она почти побежала и вот наконец нырнула в лес. Остановилась, передохнула и вновь двинулась вперед. Шла долго. Часа через два ее окликнули: — Стой! Она крикнула: — Да своя я! — Пароль! — приказали из кустов. Никакого пароля она не знала: — Своя же я, говорю! Двое вылезших из кустов мужчин с удивлением рассматривали ее. Один сказал: — Кажется, я видел ее летом с Орловым. — Да, да, я была здесь с Игорем Венедиктовичем, — заторопилась она, — а сейчас мне очень он нужен. Очень. Это срочно, поверьте. Дозорные переглянулись. — Ну что ж, пойдем, — сказал один из них, — а ты, Золотов, оставайся. Они прошли с полкилометра. Вдали, на поляне, Ли-за увидела небольшой костер и людей, сидящих у огня. Вскоре они оказались у знакомой землянки. — Так вам обязательно Орлова? — спросил ее сопровождающий. — Лучше его, — подтвердила Лиза. Сопровождающий нырнул в землянку, попросив Лизу подождать. Вскоре из землянки в накинутом на плечи ватнике вышел Игорь Венедиктович. — Что случилось? Что за самодеятельность? Кто вам разрешил сюда являться? — в голосе его прозвучали тревога и явное неодобрение. Лиза, сбиваясь, рассказала о том, что повесили Никаноровну, протянула записку с данными о немецких эшелонах. — Зайдем, — уже мягче сказал Игорь Венедиктович. Они спустились в землянку. На столе горела коптилка. У двери сидел связист — совсем молодой парень. Остальные спали на нарах. Орлов подошел к нарам, потряс кого-то: — Леонид Еремеевич, а Леонид Еремеевич! С нар поднялся заспанный человек, и Лиза сразу узнала его. Это был директор пятой школы, где они проходили практику. Орлов рассказал про Никаноровну. — Какое несчастье! — воскликнул Леонид Еремеевич. Потом они долго рассматривали Лизины записи. Лиза согрелась — в землянке было тепло. Ее клонило ко сну. — А сейчас есть и спать! — Игорь Венедиктович похлопал ее по плечу и посмотрел на часы. — До четырех спать! В четыре пойдешь назад. А мы тут с командиром покумекаем, как жить дальше, — сказал он. Потом добавил — В городе есть подполье. ТЭЦ — это их работа. А мы здесь ни при чем. Ее накормили и уложили на нары в противоположном углу. Казалось, не проспала и минуты, как ее разбудили: — Пора! На столе стоял стакан молока, лежал хлеб. — Поешь! Пока она ела, Леонид Еремеевич говорил: — Данные ты собрала очень нужные. Спасибо. Теперь у нас, к сожалению, пока нет надежной связной. Приходи, как сейчас, только ночью. Допустим, через пять, нет, пожалуй, лучше через шесть дней. И постарайся узнать, где живет Платонов. Есть ли охрана. Расписание его дня. В общем, все, что можно. Договорились? — Хорошо, — сказала Лиза. Она покинула лагерь и затемно вернулась в город. На улице Красина ее остановил патруль, но все обошлось.
Когда Игорь познакомился с Клавой, он долгое время скрывал это от матери. Она ничего не знала, но интуиция подсказывала: у сына кто-то появился. Раньше Игорь часто звонил, иногда писал, а тут — почти никаких вестей. Елизавета Павловна позвонила ему сама в общежитие — он кончал тогда училище, — с трудом нашла, стала журить: — Уж не влюбился ли? — Откуда ты знаешь? — Догадываюсь. — Да, мама, ты угадала… — Так вот не валяй дурака, Игорек, а забирай свою зазнобу и ко мне. Устроим смотрины и еще эту, как она называется, помолвку. Если, конечно, твоя невеста мне понравится. Как-то в очередной выходной они приехали. Елизавета Павловна старалась быть придирчивой, но Клава ей сразу пришлась по душе. Правда, девушка смущалась, то ли от робости, то ли потому, что видела перед собой горбатую немолодую женщину. За долгую жизнь Елизавета Павловна, казалось, привыкла к этим удивлениям и нескрываемому любопытству, но всякий раз начинало больно колоть в висках и под ложечкой появлялось ощущение тяжелой пустоты. Игорь и Клава пробыли у нее весь день. Отметили помолвку. Потом долго гуляли по городу, который очень разросся и отстроился в послевоенное время. Игорь хотел было зайти на базар, но Елизавета Павловна, словно не расслышав, утащила его на улицу Салтыкова-Щедрина. Нынешний базар напоминал ей лагерь немецких военнопленных, и она не могла туда идти с сыном. А на Салтыкова-Щедрина она все рассказывала про странного помещика Сквознова-Печерского, все, что знала со слов Игоря Венедиктовича. Вечером они уезжали, и Елизавета Павловна провожала их на вокзал. — Сынок, когда думаешь свадьбу-то? — Не знаю пока еще. Если все будет хорошо, как только кончу училище, — согнувшись почти вдвое, шептал ей Игорь. Но на свадьбу она тогда так и не попала.
Лиза уже научилась писать для «Русского голоса» небольшие заметки и корреспонденции — кому в этой газетенке было дело до стиля и чистоты русского языка? Главное — факты, факты, факты, пусть искаженные, пустые, но только чтобы все они были свидетельством торжества, разумности и необходимости немецкого порядка… Впервые в жизни она ожесточилась и ходила в редакцию с лютой ненавистью к Штольцману и Евдокимову и ко всему, что приходится здесь видеть и делать. Она пыталась как-то взять себя в руки, успокоиться, но не могла. Внутри все клокотало, кипело. Работать в таких условиях было неимоверно трудно. Чтобы жители города все-таки могли получать необходимую информацию, приходилось выкручиваться, подолгу сидеть над одной фразой. И тем не менее все эти труды зачастую пропадали даром — цензура Штольцмана и Евдокимова была неумолимой… Лиза узнала, что Платонов живет в бывшем Соснов-ском переулке, ныне Зигфрида. Дом небольшой, двухэтажный. Без четверти восемь за ним приезжает автомобиль. Дома остается прислуга. Жены и детей у Платонова нет. Обедает дома. Остальное время находится в своей резиденции по соседству с немецкой комендатурой за углом. Да, на ночь у дома Платонова выставляется пост. Днем его нет. Этого было мало. Надо еще узнать, откуда его привезли немцы, кто он. В городе Платонов был явно человек пришлый. Лиза долго гадала, как к этому подступиться, и вдруг вспомнила про биржу и Семенова. Как раз вышел очередной номер «Русского голоса» с двумя объявлениями биржи. Лиза взяла три экземпляра и направилась к Семенову. Он оказался на месте. — Вот, — сказала Лиза и положила на стол перед Семеновым газеты. Семенов посмотрел, поинтересовался: — Как работаете? — Ничего, — сказала Лиза. — Трудно? — Противно. Она заговорила огосподине Платонове. Объяснила это так: — Мы собираемся дать материал о нем. Но, к сожалению, мало что знаем. — Пятьдесят шесть лет. Житель Смоленска. Бывший работник Госстраха. Это все, что мне известно, — быстро выговорил Семенов. — Но почему он тогда не в Смоленске? — поинтересовалась Лиза. — Там, видно, его слишком хорошо знают, — переходя на полушепот, объяснил Семенов. И громче — Может, попытаться устроить встречу с бургомистром? Попробую попытаться. Мысль написать о Платонове у Лизы возникла неожиданно, она ни с кем не согласовывала ее в редакции, но подвернувшимся случаем надо воспользоваться. — А что? Пожалуй! — Тогда посидите. Я попытаюсь сейчас же. Не думаю, что у господина бургомистра так много дел. Она улыбнулась. Семенов ушел. Лиза осмотрелась. Народу на бирже стало меньше. И все же у каждого стола кто-то сидел. Один-два человека, не больше. Семенова не было минут двадцать. — Господин бургомистр примет вас через полчаса, — объявил он, вернувшись. — Вот пропуск. — К нему тоже пропуск? — удивилась Лиза. — А как же! Надо быть бдительным, — неопределенно объяснил Семенов. — Но как на все это посмотрит ваш Штольцман? — А ему все безразлично, — сказала Лиза. — Впрочем, он может и похвалить за инициативу. Лиза погуляла по улице. Погода устанавливалась. На асфальт мостовых и тротуаров лег снежок. Резиденция Платонова находилась рядом, в бывшем помещении детского сада — небольшом двухэтажном доме. Снаружи часового не было. Пропуск у Лизы взял немец, стоявший внутри, у лестницы. Покрутил, посмотрел с усмешкой в Лизино лицо, пропустил. На втором этаже дежурил еще немец. Все повторилось. Охранник махнул Лизе в сторону коридора. Она прошла мимо комнат, откуда доносился стук пишущих машинок, и открыла дверь с самодельной табличкой «Г-н бургомистр Платонов А. А.». Здесь сидела немолодая женщина в очках. Она тоже посмотрела Лизин пропуск, потом, внимательно разглядев ее, буркнула: — Подождите. Через несколько минут предложила: — Проходите! И открыла дверь. В довольно просторной комнате, пол которой покрывал ковер, за большим канцелярским столом сидел еще не старый холеный человек с белым лицом и такими же руками. — Что вам надо? — холодно спросил он, не поздоровавшись и не вставая. — Я… Мы… У нас в редакции «Русского голоса», — начала было Лиза. — Знаю, это я знаю, — перебил ее Платонов. — Газету вашу читаю. Скажу, много вы там либеральничаете в своей газете. Да, да, либеральничаете! Вместо того чтобы каленым железом выжигать большевистские привычки! Черт возьми, мы ничего не можем наладить. Ни электричества, ни водоснабжения. Всюду или пассивность, или явное неприятие нового порядка. Диверсии, уклонение от трудовой повинности. Не знаю, что думает господин Штольцман, но ваш шеф Евдокимов явно пустое место. Он-то уж должен был знать характер своих соотечественников и проводить в газете более жесткую линию по отношению ко всякого рода оппозиционности… Платонов яростно задыхался. Лиза слушала его не без удовольствия, но не знала, как ей подойти к главному, ради чего она, собственно, пришла. Ее не интересовала ни биография этого человека, ни то, что он говорил сейчас, но ведь спросить о чем-то надо. А Платонов продолжал выкрикивать какие-то слова о гуманности немецкой нации, о бунтарской тупости русского народа, о светлых перспективах приобщения к великим идеям фюрера. Вдруг он иссяк и глубже забился в кресло. Лиза заметила, что руки у него трясутся, а в глазах появился нездоровый блеск. Только лицо оставалось по-прежнему ледовито-бледным. — Так что? — спросил он как-то вяло. — Мы хотели бы знать некоторые факты вашей биографии, — робко заикнулась Лиза. — Смоленский, в частности, период… Платонов молчал. Потом вроде окончательно успокоился: — Смоленский? Ничего хорошего там не было. Большевистская зараза охватила всех, даже слои бывшей интеллигенции. Мы не жили, а существовали. В двадцатые годы советская власть уничтожила моего отца. Мать была вынуждена уехать за границу. Скончалась в Берлине, где я учился. Вернулся с университетским образованием и влачил жалкое существование. Но нет, я был последователен! — Он чуть не взвизгнул. — Я не хотел обслуживать советскую власть!.. «Все понятно. Теперь-то мне все понятно, — думала Лиза. — Тебя завербовали там. А ты, кроме всего, оказался еще и круглым идиотом. И разведчика из тебя настоящего не вышло. А сейчас немцы просто подобрали тебя, как вещицу, которая может пригодиться». — А ваши взгляды на судьбу России? — Судьба? Перекромсать все снизу доверху, вытравить большевистскую заразу, уничтожить ее носителей, но на это потребуется немало усилий и труда. Для этого нужны годы… Разговор не клеился, хотя Лиза и делала вид, что записывает что-то в блокноте. Секретарша и охранник снова проверили пропуск, а стоявший внизу отобрал его. Лиза вышла на улицу. И тут же со стороны сортировочной раздался оглушительный взрыв. Треск и грохот падающих вагонов. Через минуту прозвучал второй взрыв, и в небо взметнулись клубы дыма и россыпь искр. Через несколько минут по улицам в сторону железной дороги помчались грузовики с солдатами и мотоциклисты. Ночью на железной дороге произошел еще один взрыв. Весь день немцы разбирали разбитые вагоны и платформы, восстанавливали пути, а следующей ночью опять взрыв под колесами эшелона. За двое суток четыре взрыва! Четыре эшелона под откосом! Это явно партизаны. Лиза как-то не думала о своей причастности к этому. У нее просто было очень хорошо на душе.
И все же Лиза написала о Платонове. Она работала даже с некоторым упоением. Название было несколько нарочитым — «Друг народа». И текст весьма подобострастный: «Он не молод, этот человек, но и далеко не стар. Просто за спиной большая, трудная жизнь. У него мягкие, усталые глаза и добрые черты лица, он краток в разговоре и добр в общении… Биография нашего бургомистра как бы олицетворяет давние связи России и Германии… А. А. Платонов родился в Смоленске, но высшее образование получил в Берлине. Он впитал в себя сокровища богатейшей немецкой культуры и, вернувшись на родину, посвятил свою жизнь служению людям. В условиях тяжелейшей действительности он был организатором социального страхования в Смоленске, что являлось большим подспорьем для всех. И сейчас, став нашим бургомистром, он весь в заботах о людях. Его волнуют проблемы электроснабжения, водоснабжения, транспорта, то есть жизни каждого горожанина… Мы сидим в уютном кабинете господина бургомистра и ведем непринужденную беседу о проблемах жизни… — Что вы думаете о судьбе России? — спрашиваю я. — Судьба эта только начинается, — говорит А. А. Платонов. — И думаю, что она прекрасна. Надо знать характер своих соотечественников. С помощью германских властей они наладят свою жизнь. Но для этого потребуется немало усилий и труда. Для этого нужны годы… Я думаю о судьбе самого А. А. Платонова и верю, что она будет справедливой по отношению к нему…» Лиза показала сочинение Штольцману. — Платонов? — Штольцман поморщился. — Впрочем, оставьте, посмотрю… Через час он вызвал Лизу: — А вы… Не ожидал… Не ожидал… Неплохо… Покажите господину Евдокимову и в набор. В номер. — Хорошо бы фото, — подсказала Лиза. — Пожалуй, — согласился Штольцман. — Пусть Евдокимов организует. Евдокимов тоже похвалил Лизу, но сделал два замечания. Попросил вычеркнуть слово «социальное» применительно к «страхованию» и забраковал заголовок: — Это что-то у Ленина о друзьях народа. Сделайте проще: «Он служит людям».
У Игоря уже был назначен день свадьбы, и Елизавета Павловна собиралась ехать в Москву, когда ее вызвал бывший председатель горисполкома Аполлинарий Николаевич Игнатов (тот, что ныне работает первым секретарем горкома партии) и поинтересовался: — Елизавета Павловна, голубушка, вы знаете Калерию Владимировну Богомолову? — Конечно, — сказала Елизавета Павловна. — Она у нас читала историю философии в институте. — Калерия Владимировна очень тяжело больна и, как говорят врачи, нетранспортабельна. Родственников у нее нет. Не навестите ли вы ее? — попросил Игнатов. Естественно, Елизавета Павловна согласилась. Когда она пришла к Богомоловой, застала там врача. Врач развел руками: — Дело плохо. Богомолова была очень стара, а тут инсульт, паралич. Елизавета Павловна провела у ее постели четверо суток. На пятые Калерия Владимировна скончалась. Звонить Игорю она не стала, чтоб не говорить грустные вещи, а дала телеграмму: мол, поздравляю, желаю, целую и все такое прочее.
Материал о Платонове выскочил быстро, на следующий день. Была и фотография. Качество ее печати было таково, что каждый мог увидеть в Платонове то, что хочет: от злодея до выжившего из ума добродушного старичка. Штольцман вызвал Лизу: — Поздравляю! Звонил господин бургомистр, он очень доволен. И немецкие власти тоже. Просили отметить вас презентом. Вот, пожалуйста… И Штольцман вручил Лизе коробку немецких галет.
Второе посещение партизанского лагеря прошло более удачно. Лиза меньше волновалась, так как знала, что ее ждали. Лучше, суше была и погода. Сведения о Платонове она добыла. Повезло на сей раз и с патрулями. Ее останавливали несколько раз, но быстро отпускали. На этот раз она знала и пароль — «Наука». Ее встретили командир отряда Леонид Еремеевич и комиссар Игорь Венедиктович. Они сообщили, что немцы пытались совершить налет на партизан, но безуспешно. Дошли до опушки леса, но идти дальше, в чащу, не рискнули. По просьбе командира Лиза начертила планы дома Платонова в Сосновском переулке и его резиденции, указала, где стоят охранники. — Хорошо бы, конечно, повесить его на площади Революции и написать «предатель», — мечтательно сказал Игорь Венедиктович. Но это было нереально. Решили попытаться взорвать и дом и резиденцию. Выделили группу взрывников. Лиза слушала партизан, а сама не отрывала глаз от Игоря Венедиктовича. «Господи, какая же я дура, — ругала она себя. — Нужна я ему со своей любовью. Была бы нормальная, а то уродина…» Но поделать ничего с собой не могла. Завтрашний день выходной, и ей не надо было спешить в город. Договорились, что вернется в следующую ночь, а день проведет в отряде. Командиры разошлись в начале третьего. Орлов пригласил Лизу за стол: — Давай перекусим. Они поели, потом перешли к чаю. Лиза рассказывала Игорю Венедиктовичу про редакцию «Русского голоса», про Штольцмана, Евдокимова, Шуру, про кроссворды и радиоприемник, про печатную машину-американку, которую приходится крутить вручную. — Этого Штольцмана и Евдокимова тоже надо было бы уничтожить, — сказала Лиза. — Такие же, как Платонов. Только что сами не вешают… — Доберемся и до них, — веско ответил Игорь Венедиктович. Потом Лиза прилегла отдохнуть на нары, и он прикрыл ее своей телогрейкой. Заснула с мыслями об Игоре Венедиктовиче. Проснулась поздно, в начале десятого, когда все в лагере давно уже были на ногах. Сидеть без дела не могла и, чуть побродив по лагерю, сначала застряла на кухне — чистила картошку, шинковала капусту, а потом пошла к швейницам, которые шили нижнее белье для партизан, варежки и даже телогрейки. Женщин в отряде было мало, и они с удовольствием приняли к себе Лизу. Днем партизаны, ходившие на разведку в село Кузьминки (вотчину помещика Сквознова-Печерского, вспомнила Лиза), привели пленного, оказавшегося словаком. Командиру отряда он сказал, что попал в армию помимо своей воли, не хочет воевать против русских, и пусть его лучше расстреляют, чем он вернется к фашистам. — Ладно, разберемся, — сказал Леонид Еремеевич. — Возьмите меня, Игорь Венедиктович, к себе, в отряд, — попросила Лиза Орлова. — Что угодно готова делать! — Подожди, подожди, — говорил Игорь Венедиктович. — Ты и сейчас делаешь очень важное дело. Отряд не может остаться без связной. И сам проводил Лизу до первого боевого охранения.
Взрыв в Сосновском переулке сорвался. Зато не сорвался в резиденции. Ровно в двенадцать. Это было на пятые сутки после возвращения Лизы из отряда. Бургомистр погиб. Штольцман вызвал Лизу и поручил ей писать некролог на Платонова. Шеф-редактор принес из комендатуры краткие сведения о Платонове и его фотографию. — Постарайтесь написать поторжественнее, не стесняйтесь в выражениях. Похороны будут по высшему разряду. Лиза принялась за некролог. Очень хотелось втиснуть в него хоть какую-то правду о Платонове. И кажется, кое-что получилось. Ну, например, начало: «3 ноября 1941 года врагами немецкого рейха убит…» Или концовка: «Русские люди не забудут Платонова А. А….» Некролог долго правился, шеф бегал с ним в комендатуру, но эти фразы так в нем и остались. И уж совсем смешно, что через две недели Лизе удалось сунуть фамилию Платонова в очередной кроссворд, построенный на самых примитивных понятиях (дуб, уздечка, лисица, грабли, молоко и т. д.). И кроссворд прошел! Две недели город жил без бургомистра, и вдруг ошеломляющая новость: бургомистром назначен «их» Евдокимов. Штольцман пытался отстоять своего зама, но это не удалось. — Видно, плохо у них дело с кадрами, — сказала Лиза Шуре, — раз нашего зама забрали. Евдокимов, кажется, тоже без особого рвения переходил на новую должность. Судьба Платонова ему не улыбалась. Фронт отодвинулся далеко, но в воздухе война чувствовалась. Эшелонами шли на восток немецкие самолеты. Появлялись и наши, и тогда в небе разыгрывались воздушные бои. В одном из них наш летчик подбил немца. Трижды немцы прорывались к отряду. Были тяжелые бои и потери. Дважды бомбили отряд с воздуха. Опять потери. Но партизаны выстояли и к Новому году даже разрабатывали план крупной акции. Решили перейти к активным действиям: взорвать бензохранилище, что находилось на пустыре за зданием разрушенного драматического театра, и склад боеприпасов в районе Колхозной, а ныне дрезденской, улицы. Лизу поставили в известность о предстоящих операциях, и она уже вела кое-какие наблюдения за бензохранилищем и складом. Знала приблизительно численность охраны, время смены постов, движения автотранспорта. Связь с отрядом укрепилась. Впервые после гибели Никаноровны в середине ноября в городе стал бывать Фрол Матвеевич, фотограф, как его называли. Он, правда, и в самом деле был любителем-фотографом, не расставался со своим «ФЭДом» и считался фотолетописцем отряда. Они встречались с Лизой регулярно, но уже не на улице Салтыкова-Щедрина, а на Вокзальной площади, у бывшей остановки трамвая. Немцы тоже готовились к встрече Нового года. Для праздничных торжеств они решили привести в порядок здание драматического театра, частично разрушенное в ходе сентябрьских уличных боев. Каждое утро сгоняли они к театру небольшие группы горожан… Заходивший изредка в редакцию Евдокимов, уже вступивший на новый пост, жаловался, что немцы требуют все больше и больше рабочей силы для восстановления театра, но, увы, в городе лишних людей нет. Улицы не убираются давно, оголены многие участки коммунального хозяйства, некого посылать на работу в Германию. В начале декабря комендант города полковник Май-зель вынужден был отдать приказ о привлечении к работе в театре воинских подразделений. Довольно быстро они отремонтировали разбитые артиллерией стены театра и колоннаду, начались внутренние отделочные работы. Раз в неделю Майзель сам появлялся на объекте, осматривал все хозяйским глазом, давал оперативные распоряжения. При очередной встрече с Фролом Матвеевичем Лиза рассказала ему об этом и попросила: — Посоветуйтесь с Леонидом Еремеевичем и Игорем Венедиктовичем. Может, стоит подключить театр к нашему плану? Ведь там соберется все немецкое командование. Штольцман говорил, что у Майзеля даже есть план свезти сюда каких-то артистов и устроить спектакль… Фрол Матвеевич обещал. А вскоре Лиза и Шура услышали по радио сообщение о разгроме немецких войск под Москвой. Это было потрясающе! Наконец-то! Наконец! Шеф-редактор Штольцман ходил по редакции злой и не знал, к кому и по какому поводу придраться. Наконец собрал совещание, на которое пригласил не только Лизу и Шуру, но трех корректоров, переводчика и пять рабочих типографии. Начал Штольцман с откровенной брани по поводу плохого распространения газеты, как будто кто-то из присутствующих был повинен в этом, потом долго рассуждал о саботаже, хотя не мог привести ни одного примера саботажа в редакции, а закончил тем, что каждый обязан в неделю отработать десять часов в театре. У него был готов список по дням. — Прошу расписаться! — бросил он. И добавил: — А теперь вы свободны!
Послевоенный сорок седьмой год был очень тяжелым. Город наполовину стоял в развалинах. Жили по карточкам с мизерными нормами. Когда родился Игорь, у Елизаветы Павловны пропало молоко. Правда, работа в лагере военнопленных давала кое-что. Пленных кормили приличней, чем ели сами, и Елизавете Павловне удавалось приносить кое-какие крохи. Но не было молока, которое Игорю было необходимее всего. Однажды, когда она после ночного дежурства в лагере шла на основную свою работу в горисполком, вдруг встретила Фрола Матвеевича — бывшего связного и фотолетописца партизанского отряда. Они не виделись с сорок третьего, когда был освобожден город. Оказывается, Фрол Матвеевич из партизан ушел в армию, дошел до Будапешта и вот только недавно демобилизовался. Елизавета Павловна пощупала три ряда орденских планок на его груди: — Ну, герой! Они разговорились. Оказывается, Фрол Матвеевич заделался настоящим фотографом и сейчас работает в ателье, там, где городская барахолка. — Партизанская практика помогла. Да и после войны в Венгрии побаловался фотографией, — сказал он. — А ты-то как? Ты? — У меня колодочек меньше, две всего, — попыталась пошутить Елизавета Павловна. — Зато и работы две. — Чего же это ты так убиваешься? — искренне удивился Фрол Матвеевич. Пришлось объяснить, что днем она работает в горисполкоме курьером, а ночью дежурит в лагере военнопленных медсестрой. — Тоже партизанская практика помогла, — сказала Елизавета Павловна. — На кой же лях тебе эти фрицы! — поразился Фрол Матвеевич. Что было ответить? Что деньги нужны? Что нужны лишние продукты? Или что фрицы тоже есть разные? Ведь в конце концов, не война сейчас. Она сказала другое: — Фрол, у меня сын родился, да вот молока нет. Фрол Матвеевич был ошарашен. — Сын? У тебя? — он не скрыл своего удивления. Она обиделась: — А что я, не женщина, что ли? — Да не о том я, — поправился Фрол Матвеевич. — Подожди, но кто же отец-то? — Ветром надуло, — пошутила она. — А сынишка у меня хороший. Игорем зовут. Жаль только, что приходится его почти все время оставлять на соседку. Ведь я целый день и ночь на работе. Хотя соседка милая женщина, да и своих у нее трое. Давай, говорит, Лиза, и твоего. Все равно к дому привязана. А в детский сад или в ясли сейчас не пробьешься… Они помолчали. — Да, ты про молоко говорила, — вспомнил Фрол Матвеевич. — Пожалуй, тут я тебе могу помочь. Есть у меня, старого холостяка, зазноба в Кузьминках. Ну, жена не жена, а, так сказать, боевая подруга. Писала мне, ждала. А у нее корова. — Не может быть! — не поверила своим ушам Елизавета Павловна. — Точно! — подтвердил Фрол Матвеевич. — У нее корова, а у меня мотоцикл. Так что готовь бидон, а остальное за мной.
Партизанский отряд вырос до двухсот человек. А начинали когда-то совсем с малого. В него входили и многие люди из специально оставленного партийного, комсомольского и советского актива, и вчерашние крестьяне, рабочие, учителя и врачи, и бывшие военнопленные, бежавшие с этапов и из лагерей, и даже один иностранец, словак Мирослав Валек, тот самый, которого взяли в селе Кузьминки и привели в отряд при Лизе. Полным ходом шла подготовка к новогодней операции. Для бензохранилища и склада были сформированы две группы по семь человек. Раздобыли пятьдесят комплектов гитлеровского обмундирования. В город партизаны поедут в немецкой форме. В редакции тем временем все шло своим чередом. Штольцман успокоился. В последнее время он близко сошелся с комендантом Майзелем, бывал у него в гостях и всячески старался угодить ему. А Майзель вовсю был увлечен театром. Неизвестно какими путями ему удалось заполучить из разных провинциальных городов певцов, танцоров и музыкантов, которые чуть ли не каждый день прибывали в их город. «Русский голос» из номера в номер называл имена разного рода знаменитостей, давал их биографии, сообщал о репетициях и подготовке декораций. Все чаще мелькало на страницах газеты имя какого-то фон Мекка, художественного руководителя предстоящей программы. В двадцатых числах декабря на первой полосе «Русского голоса» появилась фотография стоявшего перед зданием театра грузовика с огромной елкой. Об этом не сообщалось, но все видели, как к зданию театра подогнали походную электростанцию на двух грузовиках-тягачах. Значит, и электричество в театре будет. Группа городских подпольщиков во главе с Иванцовым брала на себя театр. Лиза не видела Иванцова, но слышала о нем не раз. …Наступило рождество. У Майзеля, да и у многих других высших и средних офицеров, все чаще устраивались праздничные вечеринки и приемы. Солдатам и унтер-офицерам увеличили норму выдачи шнапса. Дома и казармы, где жили немцы, украсились елками. По вечерам на них зажигались свечи. Шеф-редактор Штольцман все чаще приходил в редакцию под градусом, собирал подчиненных в своем кабинете и подолгу разглагольствовал о великой освободительной миссии Гитлера и прочих неисчислимых благах, которые несут всем солдаты третьего рейха. После одного из таких совещаний он попросил Лизу подготовить к новогоднему номеру кроссворд на немецком материале, а Шуру всеми правдами-неправдами найти в городе художника, который мог бы изобразить дружески, с улыбкой господина полковника Майзеля в виде покровителя искусств. Шура довольно быстро нашла способного мальчика, четырнадцатилетнего Юрика, который согласился нарисовать Майзеля. Композиция «дружеского» рисунка у него получилась сразу: фон — здание драматического театра со всеми шестью восстановленными колоннами, вокруг, в облачках, лиры и нотные знаки, балетные пары в пачках, эквилибристы и саксофонисты, скрипки, трубы, флейты и даже арфы, которых не предполагалось в программе. Но вот с Майзелем дело было хуже. Одно изображение его на первом плане было хуже другого: физиономия садиста, палача, дегенерата. — Ну, Юрик, умоляю, поласковей! — просила Шура. Лишь какой-то двенадцатый вариант она решилась показать Штольцману. Шеф-редактор долго рассматривал рисунок, вертел его в руках, то поднося близко к лицу, то как можно дальше отодвигал от себя, и наконец заключил: — Грубо! Смягчить, еще смягчить! И Юрик смягчил. Майзель выглядел добродушно-глуповатым. — Пожалуй, этот пройдет, — сказала Шура и направилась к шефу. Тому вроде понравилось, но обещал согласовать с самим Майзелем. На следующее утро он принес рисунок. На нем стоял автограф Майзеля. Лиза выходила из редакции, когда на улице ее неожиданно поймал Семенов: — Вы мне нужны! Вам куда? — Домой, — сказала Лиза, — На Красина, Простите, сейчас Одерская. — Я вас провожу. По пути Семенов говорил: — У меня дурные предчувствия. Я знаю, что готовятся серьезные акции, но боюсь, что они вызовут активные меры против жителей города. Очень активные. Немцы совершенно озверели. И готовы уничтожить все вокруг себя. Я это вижу по бирже. Понимаю, что мои слова — это только слова, а не факты, но, пожалуйста, передайте в отряд о нашем разговоре. Она действительно все передала через Фрола Матвеевича, но ее сообщение было еще одним подтверждением возможной опасности. Фашисты опять пытались выйти на партизанский отряд. И однажды, в двадцатых числах, им это почти удалось. На опушке леса завязался тяжелый бой. Немцы крепко потеснили партизан, но углубиться дальше, в лес, снова не решились. Ушли назад в город. Партизаны хоронили убитых — их было восемнадцать человек. Руководство партизанского отряда, наряду с активной подготовкой самой операции, на всякий случай предпринимало и контрмеры. Все свободные от операции люди были брошены на опушку леса. Здесь рыли противотанковые рвы, окопы, ячейки, создавали завалы. Работы, чтобы не привлечь внимания немцев, велись по ночам. Десятки людей долбили мерзлую землю, валили деревья, сооружали наблюдательные вышки. Этими работами руководили Леонид Еремеевич и Игорь Венедиктович. В лагере их замещала Люба Щипахина — бывший секретарь горкома комсомола. Она уже участвовала в нескольких боевых операциях и показала себя смелой, находчивой, умевшей принять нужное решение в, казалось бы, безвыходных ситуациях.
До Нового года осталось чуть больше часа. Лиза знала время взрыва: одиннадцать ноль-ноль, пока в театре еще идет концерт, и все же не находила себе места. Понимала, что делает глупость, но ближе к одиннадцати вышла из дома и направилась к центру. В конце концов, у нее есть пропуск. Лиза беспокойно посматривала на часы. Без пяти одиннадцать. Одиннадцать. Одна минута, вторая, третья. Что ж это такое? Почему тихо? Четвертая минута, пятая. Или часы ее неправильно пошли? И вот наконец-то взрыв. Черный столб дыма и языки пламени взвились на пустыре за театром. Один удар, второй, третий. Это рвались бензобаки. Огонь над бензохранилищем полыхал уже вовсю, а на складе по-прежнему было тихо. Только потом выяснилось, что немцы перехватили партизанскую группу и целиком ее уничтожили. Над городом выли сирены. По улицам неслись бронетранспортеры, грузовики и мотоциклы с солдатами. Мимо Лизы, не замечая ее, пробежал немецкий патруль. Немцы почему-то мчались в сторону бензохранилища. В верхних окнах театра Лиза заметила вспышки огня. Лопались стекла, красно-желтые языки охватывали рамы. Через парадные двери, сломавшиеся под напором бегущих немцев, Лиза увидела полыхающую елку. Даже елка горит, а ведь там в вестибюле были накрыты столы для предстоящего торжества. Лиза прошла через площадь Революции и свернула в сторону Колхозной, чтобы посмотреть, что делается у складов. Она ускорила шаг. На Колхозной мимо промчался грузовик с немцами в кузове, и Лиза, то ли ей почудилось, то ли это было на самом деле, услышала русскую речь. Что-то вроде: «Жми! Жми! Вася, скорей!» Лиза вернулась на площадь Революции как раз в двенадцать. Подумала: «Вот и Новый год». И тут увидела, пораженная: фашистский флаг со здания комендатуры был сорван. Тряпка со свастикой валялась на снегу слева от входа, а часовые как ни в чем не бывало стояли, замерев у двери. Это было непредвиденное чудо. Значит, нашелся какой-то смельчак из жителей, который сумел воспользоваться паникой и сорвал флаг. Первого января день был свободный, но в половине восьмого к Лизе прибежал запыхавшийся метранпаж и сказал, что Штольцман срочно вызывает всех в редакцию. В восемь, даже не перекусив, Лиза была в редакции. Все собрались. Злой, мрачный Штольцман беспокойно ходил по кабинету в накинутой шинели. Плечо и левая рука были на перевязи. Лицо сине-бледное. Когда все сели, он произнес: — Совершено страшное преступление. Теперь никакой пощады. Погибли полковник Майзель, бургомистр, наш господин Евдокимов, другие офицеры. Взорвано бензохранилище. Готовился к взрыву склад боеприпасов. Будем срочно выпускать номер. Сейчас получим из комендатуры соответствующие материалы. Во-первых, списки всех гражданских лиц, захваченных в театре. Они будут повешены. Во-вторых, надо немедленно подготовить некролог на Евдокимова. Это ваша задача, — и шеф-редактор показал здоровой рукой в сторону Лизы. — Некрологи на господина полковника Майзеля и других офицеров поступят из комендатуры… Все это Штольцман произносил бесстрастными рублеными фразами, но вдруг стал срываться, переходя на крик: — Большевиков надо душить! Понимаете, душить! Партизанское отребье будет уничтожено! Немецкое командование вытравит из нор всех партизан! И вы! И вы! Смотрите у меня! Благодарите господа бога, что еще ходите по земле! Я не потерплю любого отклонения от дисциплины. И только попробуйте допустить какие-либо вольности! Прямой путь на виселицу! Слышите, на виселицу!.. Он еще долго истерически кричал в том же духе, поправляя повязку на руке и плече, набрасывая сползавшую шинель. Под конец взвизгнул: — Все! Идите! Несмотря на редакторский разнос, настроение у Лизы и Шуры было прекрасное. — Здорово, — шепнула Шура. Лиза засела за некролог. Вскоре в редакции появился метранпаж, тот, что приходил за Лизой домой, шепнул: — Вас ждут на улице, во дворе. Лиза накинула платок и пальто и спустилась по черной лестнице во двор, куда выходили окна типографии. Во дворе, прячась у подъезда, ее ждал Семенов. — Надо срочно уходить, — зайдя в дверь, сказал он. — Срочно, немедленно. Немцы лютуют. Окажемся все на виселице, — продолжал Семенов. — Кроме того, на третье января назначена крупная карательная операция против партизан. Надо предупредить. Лиза, конечно, была согласна. Как ни полезна их работа в городе, она давно рвалась в отряд. И действительно, тучи над ними здесь сгущались. Чего стоит сегодняшняя речь Штольцмана!.. — А как же Шура? — спросила Лиза. — Александра Васильевна? — Да. — По-моему, ей тоже надо уходить. — Я поговорю с ней, — пообещала Лиза. Семенов мельком сказал, что в театре кроме Майзеля и Евдокимова уничтожено несколько офицеров и солдат из денщиков. Погибли два генерала, один полковник и капитан, приехавшие по приглашению Майзеля из других гарнизонов. Раненых не считали, их десятки. На сцене убиты певичка и жонглер. К сожалению, всех наших схватило гестапо. Их во главе с Иванцовым восемь человек, арестованы также рабочие сцены, гардеробщики, билетеры. «Хорошие ребята», — сказал Семенов. Договорились встретиться в одиннадцать вечера за городом у мостика. Семенов ушел, а Лиза вернулась в редакцию. Там был юный художник Юрик. Он пришел посмотреть свой рисунок в сегодняшней газете. — А все же он дураком получился, — с удовольствием шепнул он. Лиза отозвала Шуру в сторону. Решила говорить начистоту. — Надо уходить. — Куда? — К партизанам. Пойдешь? Лиза со слов Семена объяснила ситуацию. — Ясно, пойду. Лиза назвала место и время встречи. Потом подошла к окну. — Шура, смотри! На виселицах на площади Революции они ясно увидели новых повешенных — восемь трупов. После работы пошли туда. «Убийцы» — висело на каждом трупе. Дома она собрала кое-какие вещички. Самое необходимое. Сложила не в мешок, а в сумку. В одиннадцать была в условленном месте. Семенов уже ждал ее. Шура пока не появилась. Вскоре она подошла, но не одна. — Это еще кто? — спросил Семенов. Сам Юрик молчал. Потом неожиданно выкрикнул: — Я же комсомолец! Лиза не знала, что сказать. Надо ли брать парня с собой? — Ну ладно, попробуем, — буркнул Семенов. — Пошли. Полями и оврагами они подошли к лесу. Еще два часа пути. Здесь их сразу же окликнули: — Пароль? — «Наука», — ответила Лиза. В передовом охранении оказался словак Валек. И влево и вправо окопы занимали партизаны. Валек проводил их в штабную землянку. — Что это значит? Опять самодеятельность? — недовольно воскликнул Игорь Венедиктович. Объяснил за всех Семенов. Орлов, кажется, смягчился. Даже за Юрика не отругал. Лизу он направил в медчасть. Шуру, которая, оказывается, немножко знала радио, — к связистам. Семенова пока оставил при себе. На следующий день партизаны форсировали подготовку к отражению возможного наступления немцев. Днем углубляли окопы на опушке леса, готовили оружие и боеприпасы. Саперы минировали подходы к лесу. Прозвучала уже команда «отбой», а в штабной землянке еще долго горела коптилка.
Семенов оказался прав. Третьего января в восемь утра немцы начали карательную операцию против партизан. Впереди шли танки, за ними бронетранспортеры, далее пехота на мотоциклах. Миновали поле, обошли овраги. Партизаны заняли весь километровый участок обороны по кромке леса. Они должны были подпустить танки к заминированным участкам и только потом открыть огонь. Бронированные чудовища с крестами на борту медленно ползли по снежному полю. Мерно завыли моторы. Трещали мотоциклы, идущие по колеям, проложенным гусеницами танков и бронетранспортеров. Лиза и еще четыре женщины с санитарными сумками находились вместе с партизанами в окопах. Сначала появилась разведка — два бронетранспортера. Повертевшись возле лесной опушки, они вернулись. И уже потом пошли танки. Они приближались. — Лишь бы не обнаружили мин, — сказал Игорь Венедиктович, — хотя саперы поработали на славу, да и ночной снежок помог — припудрил землю. — Приготовиться! — крикнул Леонид Еремеевич, и команда его, повторенная командирами взводов, прошла по всем окопам. Вот первый танк чуть вырвался вперед и, осев на мине, завертелся на подбитой гусенице. В него полетели бутылки с зажигательной смесью. По броне поползли струйки огня. Немцы пытались выскочить из открытого люка, но их срезали пули автоматов. Остальные четыре танка двинулись в разные стороны, Подорвался еще один. И загорелся. На подходе оказались и мотоциклисты, они строчили по окопам из автоматов. Один из танков все же миновал минные заграждения и, стреляя из пушки, рванул к окопу, где находился Игорь Венедиктович. Лиза не видела этого, она перевязывала первых раненых. А Орлов, приподнявшись в окопе, бросил в танк связку гранат. Тот вздрогнул, остановился, но продолжал стрелять. Чуть поодаль горели бронетранспортеры. Немцы, выскочившие из них, залегли и обстреливали окопы. Мотоциклисты рассредоточились. Некоторые соскочили с машин и тоже залегли. Сделав перевязки и оттащив раненых в лес, Лиза вернулась в окоп на передовой и сразу же стала искать глазами Орлова. Но нигде не увидела. Ее окликнули, она бросилась на голос. Еще раненный, тяжело, в голову. Она начала его перевязывать. А впереди продолжался бой. Подорвался третий танк, оставшийся, последний, чуть отступил назад, дав задний ход, и поравнялся с бронетранспортерами. Побросавшие мотоциклы немцы прикрывались теперь броней и пытались идти в атаку. Но по ним били пулеметы, и они валились в снег. То ли настигнутые пулями, то ли стремясь избежать их таким образом. Бой шел уже около часа, но немцам пока так и не удавалось прорваться к окопам. Лиза снова искала Орлова и вдруг увидела его. Он как-то неловко лежал на краю окопа, держась обеими руками за живот. Она кинулась к нему, и все ее маленькое, тщедушное тело сжалось от смертельного страха. Игорь Венедиктович с удивлением и очень спокойно посмотрел на Лизу: — Ты? Как там? Ничего не вижу. — Все хорошо, все хорошо, — лепетала Лиза, стараясь распахнуть Орлову телогрейку, залитую кровью. «Неужели в живот? Неужели в живот?» Хотя было ясно, что именно в живот. Она пыталась перевязать его, чтобы остановить кровь. — Сейчас, сейчас, любимый мой, — приговаривала она, не вникая в смысл вырывавшихся слов. Где-то над головой стреляли, рвались снаряды, трещали машины и мотоциклы, но Лиза в эти минуты ничего не видела. Для нее весь мир исчез. Не было ни взрывов, ни немцев — ничего вокруг, кроме самого дорогого для нее человека… Путаясь в бинтах, не имея сил поднять Орлова, она все-таки как-то сумела перевязать его. Потом подсунула под него руку и, плача, почти ничего не видя перед собой, попыталась сдвинуть его с места. Неожиданно и легко его тело подчинилось Лизиным усилиям, и она потащила Игоря Венедиктовича из окопа в лес. — Как там? Как? — стонал Орлов. Лиза утешала его как могла и продолжала тащить. Они были уже за первым завалом, когда он вдруг попросил: — Дай отдохну! Очень устал! Не сердись… Лиза положила его голову на еловую ветку. — Пить, — попросил Орлов. — У меня нет воды, — Лиза была в отчаянии. — Потерпи. Сейчас пойдем дальше. Она и не заметила, как перешла с Орловым на «ты». Вновь потащила Игоря Венедиктовича в глубь леса, не замечая, как за их спиной стали затихать выстрелы и разрывы. Орлов начал хрипеть. Изо рта появилась кровавая пена.. — Только не умирай! Прошу тебя! Не умирай! — захлебываясь от рыданий, повторяла Лиза. Она совершенно выбилась из сил. И вдруг Игорь Венедиктович затих. Широко открытыми глазами через стволы деревьев он, казалось, внимательно что-то разглядывал в небе. Растрепанная, со сползшим на плечи платком, припав к плечу Орлова, она продолжала твердить: «Только не умирай! Прошу тебя, не умирай…» Так ее и увидели Леонид Еремеевич, Люба Щипахина и еще несколько партизан. Они подошли и сняли шапки. Потом Люба опустилась перед Орловым на колени и пальцами закрыла ему глаза. В отряде подсчитали потери. Могилу вырыли на большой поляне среди берез. Дно ее выложили еловыми ветками. Лиза хотела попросить: «Похороните его, Игоря, отдельно», но не решилась. Командир отряда произнес речь. Убитых опустили в могилу. Труп на труп, в несколько рядов. Прозвучали выстрелы в воздух. Над могилой вырос большой холм. Его аккуратно обложили хвоей. К Лизе подошел Леонид Еремеевич, протянул руки. — Пойдем, — позвал он. — Держись! Он неловко прижал ее к себе. Когда они вернулись в лагерь, командир провел Лизу в землянку, уложил на нары. — Отдохни! — И, помолчав, тихо сказал — А Игорь знал, что ты его любишь.
Сын родился у Елизаветы Павловны зимой. Родильного дома в сорок седьмом в городе не было еще. Она лежала в специальном отделении городской больницы. Врачи боялись за нее, но все прошло благополучно. Обессиленная, лежала она в огромной палате вместе с уже родившими и только ожидающими родов. Хотела скорей увидеть своего ребенка. Наконец сестра принесла ей маленький белый сверток. — Три пятьсот. Рост сорок девять сантиметров. — Я знала, что будет сын, — смущенно призналась Елизавета Павловна. — Назовете-то как? Придумали? — спросила сестра. — Игорь. Давно придумала.
За зиму Лиза окончательно привыкла к отряду. Из тяжелораненых похоронили еще пятерых, остальных выходили. После всех перипетий отряд не совершал даже мелких операций, и новых потерь пока не было. Санитарная землянка почти опустела. Пользуясь свободным временем, Лиза научилась стрелять из трофейного немецкого автомата и пулемета Дегтярева, даже бросать гранаты и бутылки с зажигательной смесью. В марте в отряд поступили сведения о начавшихся передвижениях немцев в селе Кузьминки, но подробности разведать не удалось. Леонид Еремеевич вызвал Лизу и Шуру: — Справитесь? На всякий случай заранее придумали легенду: дескать, идут они в Жуковку, отдаленную деревню, к родственникам. Вышли из лагеря в сумерки, чтобы к вечеру дойти до Кузьминок. Туда пять километров. В воздухе уже чувствовалась весна, хотя по вечерам подмораживало. Снег посерел и осел, так что идти было нетрудно. Под ботинками легко похрустывало. Шли не торопясь и через полтора часа оказались на окраине Кузьминок. Это было большое село с церковью и двумя прямыми, параллельно идущими улицами. Разрушений никаких не видно. Вокруг сновало довольно много немцев, не только в обычной, пехотной, но в эсэсовской черной форме. Это уже было важно. Попадались и штатские. На Шуру и Лизу никто не обращал внимания. Но они решили не искушать судьбу и попроситься к кому-нибудь на ночлег. В первой избе, куда они постучались, ничего не получилось, оказалось очень много детей и умирающий старик. Во второй повезло. Они представились хозяйке, объяснили, что идут в Жуковку к родичам. Она их охотно пустила. Изба была небольшая, хозяйка жила с двумя ребятами. Они спросили про немцев. — У меня для немцев тесно, да и неуютно, — сказала она. — Они выбирают, где попросторнее да почище. — А много их? — Хватает. На днях батальон СС пришел. — А муж где? — Где ж ему быть? В Красной Армии. Хозяйка напоила их цветочным чаем и в начале десятого задула лампу. Утром на улицах села народу было еще больше. Немцы — пешие, конные, на мотоциклах. Возле многих домов со сломанными штакетниками стояли легковые и грузовые автомашины. Девушки прошли вперед, к церкви. Возле здания школы дежурили часовые в форме СС. В дверь то входили, то выходили эсэсовцы. Какой-то штаб находился и в поповском доме, возле церкви. Только тут вертелись немцы в полевой форме. Левее церкви, в поле, на расчищенной площадке стояли грузовики и зачехленные орудия. Лиза и Шура мысленно пересчитали их. Орудия, кажется, были зенитные или сорокапятки. Стволы длинные. Рядом, у двух каменных амбаров, ходили часовые. Девушки запомнили и это. Они спустились на нижнюю улицу. Здесь было тише, малолюднее. Только возле одного большого каменного дома ходил часовой и стоял шикарный легковой автомобиль с брезентовым верхом. — Какое-то начальство, — шепнула Лиза. Они прошли до конца улицы, поднялись чуть вверх и, миновав последние дома исараи, направились накатанной дорогой в поле, а потом оврагами в лес. Но операция в Кузьминках не состоялась. Немцы подтянули в деревню новые силы, усилили охрану, и Леонид Еремеевич отменил задуманное. — Нечего лезть на рожон, — отмел он все возражения. — Мы и так потеряли половину отряда. И в городе теперь никого. Подпольная группа разгромлена. Немецкие военнопленные работали на восстановлении города до сорок девятого года. Состав их несколько менялся, но незначительно. Одна группа специалистов была отправлена в подмосковный Красногорск. Другая — в Москву на завод малолитражных автомобилей. Двум группам разрешили досрочно вернуться на родину — создавалась ГДР. На их место в лагерь прибыли военнопленные из двух других находящихся в области лагерей, расформированных из-за малочисленности. Немцы отстроили заново городскую больницу, разрушенную дотла их же «юнкерсами», три школы, драматический театр, жилые дома на Колхозной и улице Красина. Работали они хорошо, не за страх, а за совесть. Были среди них и архитекторы, и инженеры, и неплохие специалисты разных строительных профессий. Многие трудились с превышением норм, получая за это материальное поощрение в виде дополнительного питания и даже увольнительных за пределы лагеря. Их водили группами в кино, а когда открылся театр, то и на спектакли. И если бы не форма, которая у всех вызывала чувство нескрываемой ненависти, они, пожалуй, ничем бы не отличались от остальных горожан. Лагерь был немаленький, около пятисот человек, и летом сорок девятого всем его обитателям предстояло возвращение на родину. Они выдраили и вычистили территорию лагеря, бараки, все подсобные помещения, а накануне отъезда сняли колючую проволоку, окружавшую лагерь, дозорные вышки, вырыли столбы и даже заровняли ямы. В полдень на станцию был подан длинный эшелон из пяти пассажирских и двадцати товарных вагонов с двумя паровозами. Пленных построили на территории лагеря. Впереди две колонны офицеров — старших и младших, за ними унтер-офицеры и солдаты. Все улицы города по дороге к вокзалу заполнили люди. Странные чувства, противоречивые, нелогичные, обуревали их. Тут переплеталось все — и ненависть, и сочувствие, и горечь, и радость, и какая-то чуть ли не до слез растроганность. Колонна двинулась. Лишь в начале и в конце ее шли наши — по офицеру и по двое солдат. Немцы шагали ходко, многие улыбались, другие пребывали в мрачном оцепенении, кто-то из них выкрикивал: «Прощай! Ка-ра-шо!», кто-то просто помахивал руками. Впереди солдатской колонны трое пленных на губных гармошках наигрывали «Катюшу». Елизавета Павловна стояла в толпе, приподнимаясь на цыпочках, чтобы лучше видеть, но не видела ничего, а только смахивала слезы. Может, она хотела увидеть унтера Карла? Пожалуй, да. Сейчас у нее уже не было обиды на Карла. Она не осуждала его ни в чем, как не осуждала и себя. Это был единственный мужчина, с которым она оказалась близка, и он стал отцом ее сына, ее Игорька. А как это случилось, в конце концов, безразлично. Важно, что она стала матерью, а разве может что-то сравниться с этим счастьем. И, конечно, она выделяла Карла из всех остальных пленных. Не потому, что он был лучше других, а потому, что был ближе. Ведь теперь эта близость на всю жизнь! И вот Карл уходил, как и другие. Она не жалела, что он уходил. Так должно было быть. И вместе с ними что-то уходило сейчас из ее и из их жизни. И это прощание окончательно подводило черту под страшной войной. Нет, Карла она не видела, да, пожалуй, и неважно сейчас это. Наверно, он шел с другой стороны колонны, а потом, они похожи в своей одинаковой мышиной форме. По чьей-то остроумной команде вслед за колонной пленных шли три поливальные машины, сильными струями воды смывавшие пыль и грязь с асфальта. А за машинами бежали мальчишки, явно бедокуря и кривляясь у всех на глазах, и на их лицах горела, расплескиваясь звонким смехом, неподдельная радость.
Городской гарнизон немцев после пережитой новогодней трагедии и неудавшейся акции против партизан жил странной, подчеркнуто деловой жизнью. Были назначены новый комендант и новый бургомистр, но никому уже и в голову не приходило восстанавливать театр или ТЭЦ, пускать трамвай или троллейбус, заботиться о приобщении жителей к «новому порядку». Партизаны немцев не беспокоили, заметных диверсий давно не случалось. Оставшиеся в живых жители, казалось, втянулись в обязательные трудовые повинности. Их перебрасывали с участка на участок, в основном на помощь немецким воинским частям — по разгрузке продуктов и снаряжения, уборке помещений и территорий. О пропитании населения никто не заботился. Чахлые подачки в виде второсортной муки, круп и концентратов были редкостью. Люди перебивались огородами, которых появилось в городе великое множество, и картошкой, что росла теперь и во дворах, и на улицах — на бывших скверах, газонах, прямо рядом с тротуарами вдоль домов. «Русский голос» окончательно захирел. Заместителя Штольцману так и не дали, сотрудников новых он не нашел, и газета выходила лишь раз в неделю, заполненная в основном официальными материалами и начисто лишенная местной информации. И даже когда в городе произошел из ряда вон выходящий случай — погиб по глупости, от неразряженного пистолета, начальник штаба шестой дивизии полковник Вайтруб, газета не откликнулась некрологом. Штольцман после новогодних событий замкнулся, ушел в себя, не искал контактов со своими хозяевами и выпивать стал еще чаще. Он откровенно боялся. Боялся исчезновения Лизы. Теперь он догадывался, что она была связана с подпольем. Он боялся не только партизан, боялся почему-то и немцев.
Что происходило в городе, было известно в партизанском отряде в общих чертах, но этих сведений было недостаточно, поскольку связь, живая связь с января потеряна. Леонид Еремеевич, другие члены руководства отряда не раз гадали, как наладить эту так необходимую связь. Тут и вспомнили про Юрика. Парень подрос, ему исполнилось пятнадцать, в отряде проявил себя наилучшим образом. Он продолжал ежедневно выпускать стенную газету «Советский партизан». И все же пустить Юрика в город одного Леонид Еремеевич не решался. Парень молодой, неопытный, горячий, мало ли чего может наделать. Мысли Леонида Еремеевича все чаще обращались к Лизе. С одной стороны, ее знают в городе, и это опасно, но с другой — уж очень она подходит по характеру и по внешнему виду. Ее можно как старшую направить вместе с тем же Юриком. И все же очень опасно! Леонид Еремеевич посоветовался с Любой Щипахиной, с другими своими помощниками и только потом уже вызвал Лизу и Юрика. Усадил их за стол, поставил кружки с чаем. Предложил как бы шутя: — Давайте погадаем об одном деле, пофантазируем. Заговорил о важности связи с городом, об отсутствии информации… Он не успел договорить, как его перебила Лиза: — В типографии есть метранпаж. По-моему, очень хороший человек, наш. Может, попробовать его привлечь? — Вот и это тоже хорошо, — согласился Леонид Еремеевич. — В общем, давайте советоваться. Юрик сообразил, какие открываются перед ним возможности, и стал горячо доказывать: — Я, Леонид Еремеевич, хоть сейчас… Поверьте, что… Да только скажите… — Ты не кипятись! — прервал его командир отряда. — Давай лучше все взвесим, обдумаем. Он говорил о том, что у отряда есть две главные задачи. — Одна — политическая и, если хотите, психологическая. Мы должны постоянно напоминать о своем существовании, чтобы фашисты не забывали, кто на русской земле подлинные хозяева. Другая задача, не менее важная, — чисто военная. Нам надо выбрать для удара объект, поражение которого нанесло бы фашистам в настоящий момент наиболее существенный урон. Так что, пожалуй, поступим так, — продолжал Леонид Еремеевич. — Разделим операцию на две части. Первая — это просто рекогносцировка. Сходите, присмотритесь, если нужно — поговорите с людьми, но, конечно, осторожно. Ну, а вторая? Ее начнем позже, когда все взвесим. На прощание он сказал Лизе: — Боюсь пускать вас, и все же надо! Пропуск у тебя сохранился. И еще одно. Если получится разговор с твоим метранпажем, разведай: нельзя ли с его помощью отпечатать в типографии две-три сотни листовок с последними сводками Информбюро? Они хотя и не ахти какие победные, но честные. И главная их правда в том, что все планы немецкого командования на молниеносную войну потерпели провал. Они вышли из лагеря с таким расчетом, чтобы в городе переночевать в Лизиной комнате. Если, конечно, она не под наблюдением. К себе после столь долгого отсутствия Юрик решил не ходить — он жил в коммунальной квартире. Добрались благополучно и нырнули на улицу Красина. Единственно, что заметили, — отсутствие патрулей. И у дома ничего подозрительного. Только у здания комендатуры стояли часовые и по-прежнему развевался фашистский флаг. Юрик выглядел обычно, а Лизу было не узнать. Она изменила прическу; платок натянут глубоко на лоб; длинная юбка почти до земли прикрывала ноги. Ресницы и брови перекрашены в белый, седоватый цвет. Даже горб казался почти незаметным. Утром они сразу пошли на Колхозную. Склады были на месте, но охрана увеличена. Рядом с ними на большой площадке стояли танки, бронемашины, орудия, шестиствольные минометы. Пересчитали — около двухсот. Пройдя по окраинным улицам — Озерной, Базарной, Вишневой, заметили новые воинские части. Зенитчики — не меньше дивизиона, дивизион гаубиц, конный полк. Чуть дальше опять танки — не меньше дивизии. Еще ближе к вокзалу саперная часть с понтонами. Виселицы в центре сняли. За зданием театра по-прежнему располагалось бензохранилище. Большие светлые цинковые баки были крупнее, чем прежде. Издали понаблюдали за комендатурой. К ней часто подъезжали легковые машины с офицерами высших чинов, среди которых заметили одного генерала. Вдруг из комендатуры вышел Штольцман, Лиза сразу же узнала его. «Опять стал ходить по начальству», — подумала она. Весь день они провели в городе, на ходу съев по куску припасенного хлеба. Около шести, оставив Юрика на улице, Лиза нырнула во двор типографии. Здесь было пустынно. Спрятавшись за стену, Лиза заглядывала через мутное стекло в ротационную, в надежде увидеть знакомого метранпажа. Он долго не появлялся. И вдруг возник почти рядом с окном. Лиза робко постучала. Он, прищурившись, посмотрел в окно. Лиза поманила его пальцем. Через несколько минут, в телогрейке и шапке, метранпаж появился во дворе. — Тебя не узнать, — вырвалось у него. — Куда вы пропали с Шурой? — Это потом, — быстро сказала Лиза. — Как у вас дела? — Да какие дела, — махнул рукой. Александр Васильевич рассказал, что работы почти нет. Газета выходит раз в неделю. Штольцману дали зама из таких же русских немцев. Вроде был учителем. Он выполняет все обязанности недостающих сотрудников… Даже информацию сам готовит. Письма, которые печатает газета, высасывают из пальца. Во всяком случае, он, Александр Васильевич, таких корреспондентов не знает. — А что нового в городе? — поинтересовалась Лиза. — В городе? — переспросил Александр Васильевич. — Народу осталось совсем мало. В основном обслуживают немцев. Правда, сейчас опять зашевелились на ТЭЦ. Похоже, собираются что-то восстанавливать. Бензохранилище и склады восстановили сами немцы. Появились новые части: танковая дивизия и нечто вроде инженерно-саперного полка. — Где их штабы? Александр Васильевич назвал: — Вишневая и Огородная. Лиза поблагодарила. — А теперь, Александр Васильевич, нужен ваш совет, — сказала Лиза. — Нельзя ли с вашей помощью отпечатать листовку? Нашу, советскую? Метранпаж загорелся: — Ясно, можно! Как я сам не подумал! — А мы бы вам предоставили информацию. Радио мы слушаем, — пояснила Лиза. — Так и я слушаю! — воскликнул Александр Васильевич. — После вашего ухода ежевечерне в редакции. Приемник-то работает. Я и текст могу составить. Доверьте, пожалуйста, мне! — попросил он несколько неуверенно. — Конечно, доверяем, — Лиза готова была броситься на шею старому метранпажу. Договорились, что через три дня листовки будут готовы. Триста экземпляров. Лиза зайдет к шести часам, и они вместе расклеят листовки по городу. Александр Васильевич приготовит две банки клея и кисти. — Я счастлив заняться добрым делом, — признался он. — А то прямо руки опускаются. На улице Лиза шепнула Юрику: — Опять на Вишневую и Огородную. Теперь, при более внимательном осмотре, легко обнаружили штабы саперов и танкистов. Через четыре часа они уже были у себя в лагере и доложили обо всем узнанном и увиденном командиру отряда. — Будем кумекать, а потом и готовиться. А через три дня Лиза уже одна, без Юрика, снова пришла в город. Под покровом темноты она развесила по городу около тридцати листовок: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь! За нашу Советскую Родину! Дорогие друзья, братья и сестры, наши советские люди! Не верьте немецкой пропаганде. Красная Армия ведет упорные бои под Ленинградом и Москвой, на Украине и в Белоруссии. Перемалываются отборные части немецких войск. Растет партизанское движение. Труженики тыла увеличивают выпуск продукции для нужд фронта. Верховный Главнокомандующий И. В. Сталин на посту в Москве руководит всеми операциями Красной Армии. Смерть немецко-фашистским оккупантам! Враг будет разбит, победа будет за нами!» Листовка получилась несколько общей, и все же ничего. Захватив десяток листовок с собой, Лиза и Александр Васильевич вместе уходили в отряд. Так было оговорено заранее с Леонидом Еремеевичем. Оставаться в городе метранпаж уже не мог. Да и не было у старика никого.
Летом и осенью отряд почти бездействовал, а немцы, наоборот, лютовали. Правда, удались несколько нападений на вражеские обозы — автомобильные и конные, что шли по дорогам Кузьминки — Жуковка, Старые Дворики — Епатьево, Безуглово — Лысая. Отряд несколько вырос и снова насчитывал около двухсот человек. Вторая зима приходила вместе с голодом. Немцы разграбили и обчистили почти все села в округе, и рассчитывать на помощь крестьян становилось все труднее и труднее. Запасы продовольствия в отряде иссякали. Единственный расчет был на то, чтобы отбить его у самих немцев. Но напасть на вражеские продовольственные склады в городе и вывезти оттуда продукты было трудно. И тогда подумали о железной дороге. Эту мысль подсказал Валек. В двадцати километрах от города находится разъезд Усово, где эшелоны обычно несколько замедляли ход. Охрана была там незначительная. Предстояло проверить, как часто через Усово проходят эшелоны с продовольствием, и попытаться остановить один из них. Разведку необходимо провести в течение нескольких дней. Выбор пал на Валека, который уже бывал в Усове, и бывшего железнодорожника Белехова. Всех одели в немецкую форму, снабдили сухим пайком. — Ну, как говорится, с богом! — напутствовал Леонид Еремеевич. На третий день разведчики вернулись. Охрана в Усове оказалась действительно мизерной. Четыре человека. Сменяются через каждые четыре часа. Привозят охранников из ближайшего села, что находится в двух километрах. Оттуда же доставляют и стрелочника. Удобно и то, что разъезд окружен с двух сторон довольно густыми лесами. В них легко спрятать машины и, если нужно, телеги. А эшелоны с продовольствием через Усово проходят ежедневно. Выслушав все, Леонид Еремеевич подвел итоги: — Пожалуй, поступим так. Выделяем вам три машины и пять подвод. Главным назначаю товарища Семенова. У него большой опыт общения с фрицами. Кроме шоферов и возчиков, сколотим группу человек в двадцать. Форма немецкая. Отъезд вечером, под покровом темноты. К ночи прибытие в Усово. Там замаскироваться, но тихо, чтобы не встревожить немцев. Охранников снять утром, свежих, только заступивших на пост. Стрелочника арестовать. С ним разберетесь на месте, смотря по его поведению. Если эшелон удастся остановить и атаковать утром же, то, погрузив продукты, немедленно отправляться назад. Если же произойдет задержка, то придется ликвидировать машину, которая привезет через четыре часа новую смену часовых. Есть какие-нибудь другие предложения? Других предложений не было. Двое суток после того, как экспедиция отправилась в путь, все в лагере только и жили этим событием. И вот возвращение, да еще какое удачное. Грузовики заполнены мукой, сахаром, маслом, салом, консервами, даже хлебом в пакетах. Семенов доложил командиру отряда, что все прошло точно по плану, и в конце добавил: — Было лишь одно непредвиденное обстоятельство. Вот. И он положил на стол немецкие документы. Объяснил: — По пути обратно встретили офицерскую машину с четырьмя мотоциклистами. Пришлось уничтожить, а документы захватили с собой.
В январе сорок третьего, когда пришли первые радостные вести из Сталинграда, многое изменилось и в этих краях. Фронт, отходивший от города на двести — триста километров, двинулся в обратную сторону. Город почти обезлюдел. Немцы бросили на фронт танковую дивизию, инженерно-саперный полк, зенитный дивизион, подтягивали к фронту тылы. По ночам в партизанском лагере была слышна дальняя артиллерийская канонада, на юге полыхали зарницы. Партизаны установили радиосвязь с наступающими частями Красной Армии и действовали теперь в полном контакте с ними. Была договоренность и о совместных действиях в боях за город. И все же сделано было не так уж много. Эти места — не Белоруссия и даже не Украина. Леонид Еремеевич все понимал. Но понимал и другое: был огромный смысл в существовании отряда, являющегося островом активного сопротивления в этих краях. Одной из последних акций партизан в феврале был разгром «Русского голоса» и уничтожение шеф-редактора Штольцмана. Немцы были так ошарашены дерзостью партизан, что ничего не успели предпринять, и партизаны благополучно вышли из города, унося с собой лишь пять раненых. К марту бои вплотную подошли к городу. Отряду было поручено отрезать немцам пути к отступлению. Партизаны покинули лесной лагерь и засели вдоль дорог, ведущих из города на запад. Шестнадцатого марта первые части Красной Армии ворвались в город. Семнадцатого марта на площади Революции партизаны соединились с частями Красной Армии. Город был освобожден. Странная, непривычная тишина стояла вокруг. Редкие группы горожан с волнением смотрели, как обнимаются на площади красноармейцы и партизаны, как возник стихийный митинг и кто-то ораторствует, взобравшись на броню танка. Здесь же наигрывали гармошки и трофейные аккордеоны. Партизанки, включая Шуру, танцевали с красноармейцами. Лиза стояла оглушенная и беспредельно счастливая. По ее лицу текли слезы…
Сейчас Елизавете Павловне трудно поверить в реальность тех дней. Голод, холод, разруха. Как они начинали? А ведь начинали! Уже через несколько дней в городе стали действовать партийные и советские организации. Среди работавших в них было немало людей из партизанского отряда. Александр Васильевич вернулся в типографию и вскоре вместе с Шурой выпустил первый номер «Ленинского пути». Номер был чахлый, на двух страницах, на большее не хватило бумаги, но газета вышла, и это стало событием. Постепенно город наполнялся людьми. Одни возвращались из деревень, где прятались от немцев, другие из эвакуации, третьи после ранений из армии. Лизе, учитывая ее некоторый опыт работы санитаркой и медицинской сестрой в партизанском отряде, предложили определиться ночной медсестрой в лагерь для военнопленных. Услышав об этом, Лиза сначала возмутилась, но потом, спокойно все обдумав и обговорив, согласилась. Лагерь был создан в июле на месте бывшего базара. Красноармейцы-строители за две недели возвели восемь больших бараков и другие службы, обтянули территорию колючей проволокой, соорудили две смотровые вышки. Через неделю после окончания строительства там было уже около пятисот пленных. Они сами произвели необходимые доделки, привели в порядок территорию. Со странным, тревожным чувством шла Елизавета Павловна в лагерь. Ненависть и презрение к немцам еще не перегорели, и поначалу ей тяжело давалось любое общение с ними. Почти все попали в плен в сорок первом — сорок втором годах и успели пообтереться в советских лагерях. Многие из них уже хорошо понимали, что русские обходятся с ними вполне по-божески, а кормят их не хуже, а даже лучше своих соотечественников. Правда, большинство офицеров держались заносчиво, но и среди них оказывались люди здравые. Некоторые даже пытались создать организацию «Свободная Германия», чтобы бороться за свержение Гитлера. Их выступления записывали на радио для трансляции в немецкие окопы, и сами они начали выпускать стенную газету, причем весьма позитивного толка. И все-таки не год и не два прошли, уже и победа наступила, когда Елизавета Павловна как-то освоилась, смирилась со своей работой, да и на нее перестали посматривать косо из-за этого. Вольнонаемных в лагере было мало, в основном медицинские работники. Ночью Лиза, как правило, оставалась совсем одна. Ее медицинского опыта вполне хватало: основной контингент пленных отличался завидным здоровьем. Случались простуды и прочая чепуха, чуть чаще травмы. Так что ночью Елизавете Павловне удавалось и прикорнуть.
Как это случилось, она и по сей день не могла себе объяснить. Да, этого вяло-добродушного немца, унтера Карла, она знала с первых дней работы в лагере. И не потому, что чем-либо выделялся из других, а потому, что однажды поранил руку. Карл неплохо говорил по-русски, и из этих немногих разговоров она узнала, что ему сорок пять, родом из Банска-Бистрицы, в плен попал под Москвой, а точнее, под Ельней, и счастлив, что война для него закончилась. Еще говорил, что он не нацист, а славянин, что ненавидит Гитлера и что немцы предали словаков и тому подобное, на что Елизавета Павловна не обращала внимания: «Все они, фрицы, сейчас так говорят». При встрече они просто кланялись, иногда перебрасывались несколькими фразами о чем-нибудь незначительном. Да, после Сталинграда, когда в лагере уже оформилась организация «Свободная Германия», Карл вошел в руководство ее солдатского комитета. Однажды они и говорили об этом. А то, что так неожиданно и, как ей казалось тогда, страшно перевернуло жизнь Елизавете Павловне, случилось летом сорок шестого. Ночью она сидела у себя в мед-кабинете у открытого окна и пыталась читать Достоевского. Спать пока не хотелось, но чтение шло плохо. Елизавета Павловна ловила себя на мысли, что читает, не понимая смысла, а думает совсем о другом. Ей тридцать девять, а личная жизнь, в общем-то, не сложилась. И не было в том ничьей вины — ни ее, ни других. Все и за всех много лет назад решила болезнь, оставив неимоверно горький след. Какая женщина не мечтает о семье, о детях, ведь самой природой ей предназначено о ком-нибудь постоянно заботиться, кого-нибудь все время оберегать. А нет этого — нет и того спокойного равновесия души, которое и есть личное счастье. И наверное, никто не ощущает так остро одиночество, как женщина. Только в войну Елизавета Павловна чувствовала себя и полезной, и нужной, и даже счастливой. А что сейчас? И странные страсти странных людей Достоевского не доходили в эти минуты до ее сознания… Елизавета Павловна не заметила, как в дверь постучали и на пороге появился ее знакомый унтер. — Вам что? — с досадой спросила она. А между тем немножко обрадовалась, что пришел кто-то и отвлек ее от мрачных мыслей, и потому уже более мягко добавила: — Садитесь. Карл молча сел на краешек стула, рядом со столом. Приняв его в свое одиночество, она тем не менее не обращала на него внимания и поначалу не смотрела на него. А если бы посмотрела, то заметила бы, что он держится как-то странно, без конца потирает свои большие руки, порывисто вдыхает ноздрями воздух. — Нет сон, сон нет совсем, — наконец произнес он. Елизавета Павловна подумала, что он пришел к ней за снотворным. — Снотворного у меня нет, — сказала она. — Не получили пока. — Нет, нет снотворный, — быстро выпалил он. — Я думай о вас. Она ничего не сообразила, не поняла, почему он встал, подошел к ней и положил свои большие руки на ее плечи. А дальше все было как будто бы не с нею. И то, что он быстро поднял ее и положил на покрытую простыней медицинскую кушетку, и что делал, и что говорил. Словно не отдавая отчета в том, что происходит, она как-то легко повиновалась ему, и почему-то, дрожа от нетерпения, обхватила его руками за могучую шею, и только все старалась отстраниться от его губ, от его поцелуев, и потому он целовал ее то в лоб, то в нос, то в щеки. — Я славянин, — шептал Карл, — я не нацист… Он торопясь срывал с нее одежды, она почти не противилась, и, только когда попытался открыть ей грудь, она мертво вцепилась в рубашку: никогда не оставляющее ее чувство стыда за свое уродство оказалось сильнее… Потом она будет очень часто вспоминать эту ночь, хотя уже забудет и имя унтера и память потеряет его лицо. Но память оставит ей грубую ласку мужских рук, туманящую близость мужского тела… Он встал и отошел к окну, заслонив его своей крепкой фигурой. Ей было горько и стыдно, хотя тело успокоенно и предательски замерло. — Отойдите от окна, черт вас возьми! — она сама испугалась своего крика. Он виновато отошел и опять опустился на стул. И тут Лиза отвернулась к стене и разрыдалась. — Не надо! Не надо! — он наклонился над ней и стал вытирать ей лицо уголком простыни. А она все никак не могла успокоиться и почти захлебывалась от рыданий. Потом снова сорвалась на крик: — Идите вон! Вон! Вон! Он послушно двинулся к двери и вышел из кабинета, а она продолжала больно плакать без слез… Лиза не могла простить себе случившегося и в следующую ночь не вышла на дежурство, сказав, что заболела. Только пропустив три или четыре дежурства, она немного успокоилась. В лагере старалась не столкнуться с Карлом, но, видимо, и он избегал ее. А потом она поняла, что беременна. И тут, как это ни покажется странным, она почувствовала в себе даже какую-то приподнятую уверенность. «Пусть так! Пусть! — твердила она себе. — А если я хочу? Я — хочу!!!» И опять все знакомые узнавали в ней прежнюю Лизу, а она чувствовала себя так, будто заново появилась на свет. В феврале сорок седьмого она родила сына.
До чего ж это смешно, когда твой (твой! твой! твой!) сын влюбляется. У Игоря это случилось впервые, когда ему было тринадцать лет. Был он тогда в пионерском лагере, и Елизавета Павловна приезжала к нему каждое воскресенье. Поначалу все шло по-старому, но на третий раз она заметила в сыне перемены. Он замкнулся. Молчал. Даже не притронулся к гостинцам, которые она привезла. По простоте душевной Елизавета Павловна стала щупать лоб и задавать вопросы, как он себя чувствует. И вдруг мимо них прошла девушка с комсомольским значком и в пионерском галстуке, сказав Елизавете Павловне «Здравствуйте». Игорь покраснел, по лицу его пробежала страдальческая улыбка. Девушке было на вид лет восемнадцать. И тут Елизавета Павловна все поняла. — Это кто, сынок? — Старшая вожатая, — буркнул Игорь. «Бог ты мой, какое счастье! — подумала Елизавета Павловна. — Сын-то становится совсем взрослым. Вот уже и влюбляться начал…» Ей было и смешно, и чуть грустно. Вспомнился почему-то Игорь Венедиктович. «Конечно, все это пройдет, — размышляла про себя Елизавета Павловна. — А все чудо! Неразделенная любовь…» Уж кто-кто, а она-то знала, что это такое.
День был обычный и вдруг превратился в необычный. Неожиданно приехал Игорь и заявился прямо в горисполком. — И ничего не сказал! — всплеснула руками Елизавета Павловна. Они пошли домой. — У тебя орден? — заметила Елизавета Павловна. — Кубинский. — Ничего, будет и наш. Когда ты вернулся? — Три дня назад — и сразу к тебе. — Как наш город? Гавана красивее? — Гавана хороша, но здесь лучше. — Как дома? — Дома все нормально. Знаешь, мама, очень хочу, чтоб у меня был сын. — Если хочешь, будет. Они проговорили до полуночи. Рано утром Елизавета Павловна провожала сына на вокзал. Попрощались, расцеловались, поезд тронулся. Елизавета Павловна по привычке вздернула правым плечом и побежала к себе на работу. Побежала, вспомнив при этом латинскую пословицу: Aqe quod aqis[27].
ТОНЯ ИЗ СЕМЕНОВКИ
Мне было пятнадцать лет, и я уже всерьез засматривался на молодых женщин. Именно на женщин, а не на ровесниц, которые казались мне несерьезными девчонками. В ту пору я не знал, конечно, что девчонки развиваются быстрее мальчишек. Я ездил в парк культуры, да и по улицам ходил в надежде познакомиться с кем-нибудь постарше себя. Уверенности придавал и мой рост. Я был выше своих одноклассников, и в школе меня звали второгодником. Но, увы, все было бесполезно. Страшная стеснительность обуревала меня, когда надо было действовать. И я пасовал. Оставалось одно — влюбляться заочно. И дня не проходило, чтобы я не влюблялся.Началась война, и судьба занесла меня в деревню Семеновку под Каширой. Там был совхоз. Семеновка — довольно большая, дворов на двести, деревня — лежала на берегу Оки, вся в зелени деревьев и кустарников. Со всех сторон, кроме речной, к ней подступали густые дикие леса. Говорят, в старые времена здесь находилось чье-то поместье и за лесами ухаживали всерьез. Но это было давно, леса смешались, и рядом со строгими рядами берез и кленов поднялись ели и осины, дубы и рябины, а еще больше повырастало калины и бузины. В лесах было много ландышей, ежевики и земляники, а редкие поляны усыпало разноцветье с ромашками, колокольчиками, одуванчиками и незабудками. Дома в деревне разномастные. От изб, крытых соломой и дранкой, до каменных домов под железом и черепицей, да еще три сарая-общежития — приземистых, одноэтажных. К ним чаще всего и подъезжала полуторка, единственная машина в совхозе, привозя и отвозя рабочих на дальние покосы и торфяники. Зато в совхозе было много лошадей — крепких, выносливых битюгов, которым здесь было хорошо. Трав и сена хоть отбавляй! Мы жили в деревне, а на работу ходили на станцию пешком всего за полкилометра. Там разгружали пустые бочки и ящики, а чаще мешки с солью — тяжеленные, по шестьдесят килограммов штука. Со мной работали мальчишки, такие же, как я, по четырнадцать-пятнадцать лет. Все они были здоровее и крепче меня — и совхозные, и городские. Иные шутили: «Смотри не переломись!» — но я пропускал эти шутки, поскольку чувствовал себя хотя бы ростом старше их, да и с мешками у меня ладилось. Не отставал. Деревенских мужчин в первые же недели и месяцы подмела войнами работу в совхозе выполняли женщины да дети, такие же, как мы, а то и помладше, школьники третьих — седьмых классов, и в основном девчонки. Пожалуй, война пока давала знать о себе только этим.
После работы мы мчались купаться. Берег Оки, в отличие от противоположного, был тут высокий, крутой, поросший кустарником и старыми ивами, и мы кубарем скатывались к воде. И глубина здесь приличная — по горлышко. В некотором отдалении от нас, слева, купались девчонки. Среди них я сразу же заметил невысокую, крепкую, с русыми косами и широким лицом, которая была вроде старше других, но не настолько, чтобы особенно выделяться. Может, лишь лифчик выделял ее — белый, с тонкими бретельками, да голубые трусики с красивым пятном-мячиком на боку. Остальные купались лишь в трусах, поскольку в лифчиках у них потребности не было. — Не заглядываться! — крикнула мне старшая в первый же день, когда мы оказались на берегу. И потом, после купанья, не раз, то ли в шутку, то ли всерьез, покрикивала нам: — А ну-ка, мальчики, отвернитесь! Дайте переодеться! Жара стояла невыносимая, какая-то удручающая, без единого облачка в тихом небе, без дождей и гроз, и после в общем-то изнурительной работы на станции река казалась блаженством. Она здесь была широка: метров пятьсот, а то и больше до другого берега. Мальчишки почти все смело переплывали ее. Впрочем, плыть приходилось метров триста, а дальше шло мелководье. Перебравшись на противоположный берег, они валились на песок. Девчонки туда доплывать не решались. Я смотрел теперь на нее с того берега, и издали она казалась мне необыкновенной, особенно ее мокрые косы и трусики с мячиком. Меня подмывало спросить у местных мальчишек, кто она, но я не решался, словно боясь ее спугнуть, нарушить то чувство, которое охватывало меня при виде ее. Как-то нас отпустили со станции раньше, не увидев ее у реки, побежал вместо купания в деревню. Она полола что-то на поле со своими девчонками, и я остановился, завороженный. На ней было длинное ярко-красное платье горошком и на голове такая же косынка, из-под которой выбивались тугие косы. Мне показалось, что тут, в поле, она еще более красива, чем на реке. Я присел на скамейке возле избы, в которой квартировал, и долго смотрел на реку. После шести они закончили работу и отправились купаться. Я побрел за ними. На берегу уже не было мальчишек, и я один из нашей компании прыгнул в воду и поплыл на противоположный берег. Сегодня мне особенно хотелось показать, как я плаваю! И, хотя не знал никаких стилей, я очень старался и какую-то часть проплыл даже на спине. А потом опять долго смотрел на нее с того, песчаного берега. Вернулся я, только когда девчонки переоделись и ушли. Прежде вечера я больше коротал с книжкой, а тут и чтение забросил. После ужина выходил на деревенскую улицу и слонялся из конца в конец в надежде увидеть ее. По улице ходили группы и парочки, с гармошкой и без, но ее почему-то не было. Я возвращался к себе в избу и, пока хозяева не потушили свет, брал книгу, но не читал. На листках бумаги выводил стихотворные строчки:
А еще было ночное. Удивительное время с лошадьми и ярким костром, с печеной картошкой. Вечером мы купали лошадей в Оке, а потом, сбивая себе копчики, без седел гнали их к лесу и там разводили костер. Лошади спокойно паслись на лугу, а мы, мальчишки, рассказывали страшные истории про леших и ведьм и тут же обменивались последними сведениями с фронтов, пожалуй не менее страшными, но все же далекими от нас. Все продолжали ждать чуда, что вот-вот Красная Армия остановит немцев и погонит их назад и скоро будет победа.
В двадцатых числах июля, как-то к вечеру, над деревней проползла немецкая эскадрилья. Люди повыбежали на улицу. Слышалось: — На Москву идут. — Прут, нахалы. — А наши что ж? Самолеты исчезли, и вдруг я увидел ее. Она стояла с коромыслом возле колодца и тоже, как все, смотрела в вечернее небо, а потом набрала воды и двинулась по тропке. Не знаю, откуда во мне взялась смелость, но я рванул ей навстречу и, подбежав, выпалил: — Давайте я помогу вам! — Ну что ты! Я сама! — смутилась она. — Нет, нет, — настоял я и снял с коромысла ведра. Схватил ведра в руки, а она осталась с коромыслом. «Только бы не расплескать, только бы не расплескать!» — думал я. Мы двигались по тропинке к дому, видимо к ее дому. Вернее, это был и не дом даже, а крохотная избенка, но под черепицей, аккуратная, с заросшим палисадником. По стенам избенки, вокруг двери и окон вился плющ. — Ты из Москвы? — спросила она. Я кивнул. — А родители? — поинтересовалась она. — Папа в армии, а мама у меня в Наркомземе работает. Вот я и приехал сюда. — В каком же ты классе? «Бог ты мой! Что же ей сказать? Неужели что окончил седьмой? Что совсем еще мальчишка?» — В десятый перешел, — как-то само собой вырвалось у меня. Мы уже подходили к ее дому. — Спасибо тебе! — сказала она и хотела забрать ведра. Но я не выпустил: — Я занесу вам. Дверь только… Она приоткрыла дверь, и я через крошечные сени прошел в комнату — совсем небольшую, но очень аккуратную. Кровать с горкой белых подушек, диван, сундук, над которым висели фотографии, чисто выскобленный стол и несколько венских стульев вокруг. — Сюда, — она показала на лавку возле печи. Я поставил ведра. — Как же тебя зовут? — спросила она. Я ответил. — Хорошее имя, — сказала она. — А мне… — я хотел было признаться, что мое имя мне очень не нравится. — Нет, хорошее, — повторила она. — А вы? Вы одна живете? — робко поинтересовался я. — Папа в армии, старшая сестра в Москве в институте учится, а мама у нас умерла в тридцать третьем, во время голода… — Ну, я пойду, — сказал я. Но на пороге остановился: — А зовут вас как? — В школе Антониной Семеновной, — объяснила она. — А ты можешь Тоней. Ведь ты почти взрослый. И она улыбнулась. Мне было радостно и горько. Она со мной говорила, и говорила всерьез, но она, значит, учительница. И ей не пятнадцать и даже не семнадцать, а все девятнадцать. И это «почти взрослый»! Почему же «почти»?
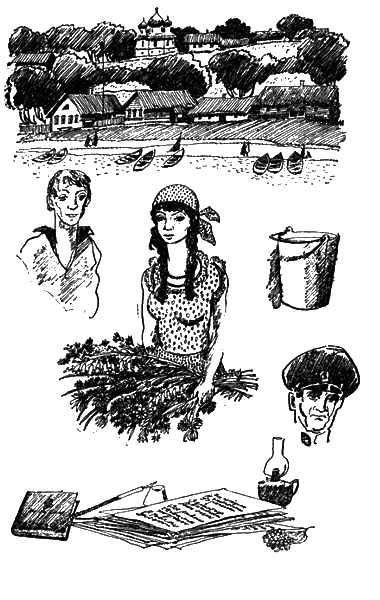
В тот день на станции работы не было; хотя мы и пришли туда, но нас послали на уборку гороха. Мы вернулись в деревню и направились в поле. Еще издали я увидел Тоню и ее девчонок. — Помощь принимаете? — крикнул я, когда мы оказались рядом. — Смотря как работать будете, — пошутила Тоня. Я снова видел ее совсем близко. Ладная фигура. Тонкие красивые ноги. Быстрые руки. Косы, спадающие вперед. Я механически срывал стручки гороха в подол рубашки, а сам не отрывал от нее глаз. Горох был вкусный, сладкий, но мне было не до гороха. Тоня работала быстро, и я еле поспевал за ней. Наконец догнал и даже чуть перегнал. — А у тебя, смотри, хватка, — бросила Тоня на ходу.
Теперь я не спал по ночам. Я писал:
Меня мучила совесть. «Как я мог обмануть Тоню? Сказал, что не люблю стихи и сам не пишу! Но не могу же я ей показать те стихи? Конечно, не могу!» Решение пришло неожиданно. «Напишу другие. И тогда покажу. Признаюсь, что сказал неправду…» Я не спал несколько ночей. И появилось такое;
В тот день я не пошел после работы на реку. Решил ждать Тоню в деревне. Заплывы через Оку — все это казалось теперь несерьезным. Мои товарищи по бригаде явно что-то заметили, особенно местные, деревенские. — На свидание? — многозначительно спросил один. — Уж не влюбился ли ты в нашу учителку? — добавил другой. — Тайна, покрытая мраком, — резюмировал третий. Мне было все равно, но я все же буркнул: — Не трепитесь! Я болтался по почти пустынной деревенской улице. В кармане у меня были стихи. На лавочках, после ослабшей дневной жары, сидели самые древние — старики и старухи. Возле копошились малые дети. Наконец я увидел ее. Она шла со своими девчонками с реки. Я неловко остановил ее: — Здравствуйте, Тоня! Мне… Мне надо поговорить с вами…Можно? — Идите, девочки, — сказала она. — Так? «С чего начать?» Я робел. — Ну, так? — повторила Тоня, и мне почему-то показалось, что в голосе ее прозвучала обида. Косы ее были мокрыми после купанья, с них падали капли воды. Падали на короткое выцветшее платьице с широким вырезом. Но лицо было доброе. Серо-карие глаза смотрели на меня скорей с любопытством, нежели с обидой. Я успокоился. Почему-то впервые в голове промелькнуло: «В Москве никогда не встретишь такую учительницу». — Я сказал вам неправду, — признался я. — Я люблю стихи и даже сам пишу. — Значит, я не ошиблась? А ты можешь мне почитать? Я пожал плечами. — Пойдем, — решительно взяв меня под локоть, она повела к себе домой. Дома сказала: — Только переоденусь… И скрылась за занавеской у печки. Вернулась в желтой кофточке и зеленой юбке, еще более привлекательная. — Почитай… Я начал читать подряд. «Мщение», «Зенитчикам», «Партизаны», «Красной Армии», «Украина», «Москва». — Мне нравится, — несколько раз повторяла она. А когда я закончил, подтвердила: — По-моему, хорошо. Потом говорили о стихах. Я вразнобой называл Веневитинова, Баратынского, Батюшкова, Майкова, Кольцова, Языкова, Кюхельбекера, Дениса Давыдова, Востокова. Мне правда нравились их стихи. — А я пишу только юмористические для стенгазеты и журнала, который мы делаем с пятиклассниками, — призналась она. Это было совсем неожиданно. Предложила: — Хочешь, прочту? Это уже было полное доверие ко мне, как к равному. Я даже вспыхнул и молча кивнул головой. Она прочитала:
А война все катилась и катилась на восток. Все уже привыкли и немецким самолетам в небе и к воздушным боям, которые все чаще вспыхивали над деревней, и к грохоту зениток на станции, и к проходящим через деревню воинским частям, и к колоннам беженцев, и тощим стадам, которые тянулись в глубь страны. Я раз в неделю писал маме, и вот в начале сентября от нее пришло грозное письмо: «…наш наркомат эвакуируется в Горький, а потом в Куйбышев. Немедленно возвращайся домой!» Письмо меня ошеломило. «Какая эвакуация? И зачем мне ехать в этот Горький или Куйбышев? Уж лучше бы на фронт! Или, в конце концов, здесь работать. Как-никак польза…» Я побежал к Тоне. Постучал к ней в дверь. Когда она вышла, сразу заметила, что что-то случилось. Я протянул письмо. Она долго его читала. Потом сказала: — Надо ехать! И добавила: — Дай я тебя поцелую! Она целовала меня как-то горячо и беспорядочно, а я прижимался к ней и думал, что вот-вот разревусь. Я не плакал, когда в школе катался на перилах и свалился в пролет лестницы, пролетев полтора этажа. Я не плакал, когда летом залез в колючую проволоку и меня вынимали оттуда с помощью ножниц. Я не плакал, когда прыгнул с крыши двухэтажного дома и сломал себе пяточную кость. А тут…
Немцы вошли в Семеновку в начале октября. Вошли без боя. Наши отступили за Оку, взорвав перед этим железнодорожный мост. Жители растащили перед приходом немцев все хозяйство. Лошадей, скот, зерно, овощи. Кое-что попрятали. Полуторку сожгли. В поле остались только свекла и капуста. Колонна немцев — бронетранспортер, три танка и несколько десятков мотоциклистов — прошла через всю деревню и остановилась на площади возле старенького клуба. Из бронетранспортера вылез белобрысый, загорелый обер-лейтенант, а с ним бывший житель Семеновки, преподаватель немецкого языка Иван Карлович Фогель. Несколько недель назад он куда-то исчез, ходили слухи, что его выселили, но вот он вернулся. На нем была немецкая шинель, на рукаве повязка со свастикой, на седой голове фуражка с околышем. Жителей деревни, включая самых древних, согнали на площадь. Фогель, что-то согласовав с обер-лейтенантом, поднялся на специально принесенную табуретку. — Слушайте приказ коменданта обер-лейтенанта Кесселя! — выкрикнул он. — Первое: все имущество и продукты вернуть в совхоз. Срок — двадцать четыре часа. Работать будете в совхозе только на нужды германской армии. Второе: с девяти вечера до шести утра комендантский час. За выход на улицу — расстрел без предупреждения. Третье, — и тут Фогель почему-то перешел на плохой русский. — Я есть ваш староста. Все! Тоня стояла среди молчавших и лишь изредка мрачно вздыхавших односельчан и собралась уже было направиться к своему дому, но увидела, что туда идут оберлейтенант с Фогелем, за ними денщик с чемоданом. Она остановилась, замерла на минуту и вдруг рванула влево к крайнему дому Михеевых. Сам Федор Прокофьевич, их учитель физики, еще в июле ушел в Красную Армию, но в доме осталась жена с ребятами. И Тоня скрылась там. Ее нашли вечером. Нашел Фогель, пришедший с тремя автоматчиками. Зло бросил: — Докомсомолилась! Одевайся! Живо выходи! Немцы связали ей руки за спиной. Пока связывали руки, Тоня пробовала плюнуть Фогелю в лицо. Он увернулся. — Гад, предатель! — процедила она. Фогель невозмутимо улыбнулся: — Крылышки обломают. Ее вытолкнули на улицу и повели по деревне. Жители испуганно смотрели на Тоню из окон и палисадников. Немцы шли с автоматами на изготовку, Фогель — держась за кобуру. Возле ее дома стоял офицерский денщик. Он приоткрыл дверь, и Тоню впихнули туда. Два солдата замерли у входа. Вскоре из дома вышли Фогель и третий немец. Они направились к дому Ивана Карловича. А утром дверь распахнулась, и на пороге оказалась Тоня. Лицо ее опухло, глаза заплыли, на щеках и на лбу виднелись кровавые царапины. Платье под расстегнутым полушубком было изодрано. За ней в сени вышел офицер в расстегнутой гимнастерке и крикнул часовым: — Ласэн зи зи дурхь! Золь зихь дас бист цум тойфель шэрэн![28] А Тоня, ничего не видя перед собой, спустилась с крыльца, открыла калитку, пересекла улицу и, как была, растрепанная — одна коса впереди, другая позади, со свалившимся на плечи платком, — направилась в поле. Фигура ее, медленно покачиваясь, двигалась вдоль рядов капусты в сторону леса. Сотни глаз следили за ней, а она все шла и шла, не оборачиваясь, будто слепая. Она не боялась, что ей выстрелят в спину, да немцы и не решались стрелять без команды. Они сами, как завороженные, смотрели ей вслед. А Тоня шла. Вот уже и поле осталось позади, а впереди появился кустарник и молодняк, осиновый и березовый. Она скрылась за первыми кустами и березками и вскоре совсем исчезла. Впрочем, я не видел этого и узнал все много-много лет спустя.
Есть, наверное, что-то закономерное в том, что к пятидесяти тебя начинает упрямо тянуть в детство твое и юность. Вот и я как-то не выдержал и, не сказав ничего даже домашним своим, направился в Семеновку. Деревню, конечно, узнать было невозможно. Асфальт. Слева и справа каменные дома — одноэтажные и двухэтажные. На площади Дом культуры, магазин с кафе на третьем этаже, какие-то службы быта. А в середине площади ограда. Мраморный треугольник со звездочкой наверху и с бронзовой дощечкой: «Комсомолка-партизанка Тоня Алферова. 1923–1942». А чуть ниже, на такой же дощечке, выбиты слова:
МАМА
Отец умер три года назад, когда ей, Зине, было тринадцать. Умер он далеко, на пограничной заставе, где находился в командировке, и в Москве, на похоронах, они прощались не с отцом, а с закрытым цинковым гробом. Мама была совершенно беспомощна, и похороны организовали сослуживцы. Их, военных, было много, и еще был военный оркестр и салют. Мама стояла с замершим восковым лицом, не плакала, ничего не говорила, и Зина придерживала ее за руку, чтобы не упала. Так же молча сидела она и на поминках, а когда все быстро разошлись, легла спать и спала больше суток. Зина ходила вокруг на цыпочках, боясь разбудить ее. Полгода они жили странно, почти не общаясь друг с другом. Правда, мама по-прежнему ходила к себе на ткацкую фабрику, ее наградили орденом по итогам пятилетки и избрали депутатом, и портрет ее висел на районной Доске почета. Зина каждый день видела эту доску по пути в школу и из школы. Но дома мама была замкнута. Готовила, стирала — и все. Телевизор почти не смотрела. И Зина не знала, как подобрать к ней какие-нибудь ключи, заставить встряхнуться. Пыталась про школу рассказывать, придумала даже какую-то смешную историю, будто влюбилась, но и это не действовало. Зина сама было уже захандрила, стала плохо спать по ночам, но как раз тут-то все и началось.Лето было на закате. Зина сидела у открытого окна, смотрела, вдыхала горячий пробензиненный воздух. Окно выходило на шумную людную улицу. По ней шли лафеты с готовыми стенами — по соседству домостроительный комбинат. Вокруг — много зелени, но от духоты она не спасала. Мама пришла вечером не одна. С ней рядом стоял мужчина высокого роста, с розовым тонким лицом и небольшими бачками на висках. От него сильно попахивало спиртным. — Дядя Коля, — сказала мама. — Познакомься! Он протянул Зине потную руку: — Дядя Коля. Мама была оживлена до неузнаваемости. Хлопотала на кухне и у стола, а потом они ужинали и пили чай. Зина не прислушивалась к их разговору и сама молчала. После чая сказала: — Я пойду. И ушла в отцовскую комнату, вернее, в кабинет, как его звали при папе. Она слышала, как за стеной мама и дядя Коля смеялись, как потом включили телевизор. Зина смотрела на часы и все ждала, когда дядя Коля уйдет. Но он не уходил. В начале двенадцатого мама зашла в кабинет. — Может, ты здесь ляжешь? — предложила Зине. — Хорошо, мама, — согласилась Зина и поняла, что дядя Коля остается. Зина перенесла свою постель в кабинет и забралась под одеяло. Включила радио.
К вечеру собиралась гроза. Где-то вдали ухало. На пустыре за церковью в лесах изредка сверкала молния. Но дождя не было. Только ветер вздымал пыль на мостовой и тротуарах: подгонял спешащих пешеходов. Дядя Коля пришел один, без мамы. — А где мама? — спросила Зина. — У нее партбюро, — сказал дядя Коля. Сейчас от него пахло сильнее, чем обычно. Раньше он никогда не заходил в папин кабинет (может, только когда Зины не было?), а тут не только зашел, но и уселся в кресло. Зина демонстративно села за папин стол. — Да, да, — говорил дядя Коля, рассматривая фотографии на стене. Они как раз все висели над столом. А кортик, кусок пробкового дерева, нивхская деревянная маска, голова леопарда — дальневосточные подарки отцу — над кушеткой, на которой спала Зина. — Музей! — воскликнул дядя Коля. Зрачки его сузились. Он, кажется, улыбнулся. — Да, кой-чего не хватает! — заметил он. — Чего ж это? — не поняла Зина. — Да хотя бы моей фотографии с твоей мамой. Ох как Зина возненавидела его в эту минуту! Ее всю передернуло. Дядя Коля не заметил. — Несогласна? — спросил он. — Нет. — Что ж это так? «Не хочу видеть вашу физиономию», — хотелось сказать Зине, но она сдержалась. Спросила: — А кто вы маме? Он хмыкнул: — Ну, хотя бы вроде муж. — Я такого мужа не знаю! — отрубила Зина. — Ну, даешь! — засмеялся дядя Коля. И вдруг замолчал, посерьезнел, стал каким-то жалким. И стал доказывать Зине, как им будет хорошо с ним, у него какая-то особая работа и связи, и он все может достать, и она, Зина, уже совсем взрослая девушка, и ей многое нужно: и одеться, и поесть повкуснее, а он, а он… Зина закрыла уши руками. Ей хотелось ударить его, выгнать из квартиры, чтобы он больше никогда здесь не появлялся, а сейчас хотя бы из папиного кабинета. «У него сальное лицо, сальные мокрые руки, и весь он…» — думала она. — Замолчите! — резко крикнула Зина. — И уходите… отсюда, — добавила она. — Я уйду, уйду, — засуетился он, вставая и направляясь к двери. В коридоре дядя Коля оделся и хлопнул дверью. «Слава богу», — подумала Зина. Но через полчаса он вернулся вместе с мамой. — Что у вас тут произошло? — мама бросилась к Зине, не раздеваясь. — Ничего, — холодно сказала Зина. — А все же? — повторила мама. — И все же ничего, — подтвердила Зина и ушла в папин кабинет, закрыв за собой дверь. Гроза так и громыхала где-то по соседству, небо разрезали молнии. Ветер налетал порывами на деревья и шелестел листвой. «Противно!» — сказала про себя Зина.
С мамой они так и не объяснились. Мама несколько раз спрашивала, но Зина стояла на своем: «Ничего!» А к дяде Коле приглядывалась все пристальнее. «Пьяница» — это ей было ясно. «Старше мамы, лет на десять старше, — отмечала про себя. — Папа тоже был старше мамы лет на пятнадцать, но он не выглядел стариком. А этот — старик». Зина не знала, где и кем работает дядя Коля, но ей казалось, что он какой-то снабженец. Вот и маме дарит дорогие вещи: оренбургский платок, брючный костюм, югославские туфли. И еще он казался ей каким-то неумытым. «Может, во мне ревность говорит? — думала Зина. — Нет, это не ревность. Да, я любила и люблю папу. И мама его любила. И я хочу, чтобы мама была счастлива. Но только не с этим!..» У них в классе многие увлекались плаванием, благо бассейн «Динамо» был рядом. Зина ходила уже второй год в бассейн. Ходила вместе с одноклассниками — подружками и мальчишками. Правда, абонемент на этот год выпал неудачный — сеанс вечерний, с шести часов. И все же в бассейне было хорошо и летом и зимою. Однажды она, как всегда, пришла в бассейн к шести часам, встретила своих и стала раздеваться. — Пошли! — крикнула она, выходя из кабинки. И вдруг увидела в бассейне маму и дядю Колю. Мама — худенькая, ладная, подтянутая, в голубом купальнике со звездочкой на груди, а рядом стоял обрюзгший дядя Коля с вываливающимся брюхом. Зина инстинктивно подалась назад: «Лишь бы не увидели». — Ты что? — спросила одна из подружек. — Я сейчас, — сказала Зина. — Идите, идите-… Она растерялась. «Ведь мама же знает, что я хожу в бассейн. И ничего мне не сказала». Зина с минуту смотрела в открытую дверь, как мама и дядя Коля спускаются в воду, потом резко повернулась и стала одеваться… Дома Зина с нетерпением ждала возвращения мамы. Судя по всему, мама и дядя Коля впервые были в бассейне, и Зина ждала, что мама что-то скажет ей. Мама, возбужденная, веселая, и дядя Коля вернулись в восемь. Поздоровались — и ничего. Дядя Коля поклонился, поставил на стол бутылку. «Забыла», — решила Зина.
День был отличный: ясный и свежий. По небу гуляли бледные облака, в воздухе пахло листвой и свежескошенным сеном. На газонах трещали ручные косилки. У Зины было прекрасное настроение. Она получила комсомольский билет. Еле дождалась вечера. — Мамочка, смотри, — подбежала она к двери, как только мама появилась, а за ней, как всегда, дядя Коля. — Поздравляю, — мама чмокнула Зину в щеку. — Это надо отметить, — сказал дядя Коля. Зина повернулась и ушла к себе. Дверь закрыла. Мама возилась на кухне и у стола. Зина слышала. Наконец открыла дверь: — Идем ужинать. — Я не хочу, — сказала Зина. — Ты что, поела? — Да. — Как хочешь. Она ушла, прикрыв дверь. Зина весь вечер просидела одна. Кое-как доделала уроки. Потом смотрела на фотографии. В столовой смеялись мама и дядя Коля. Потом слышала, как они включили телевизор. Зина не выходила. Прошел час и другой. Телевизор щелкнул. Выключили. Мама на кухне гремела посудой. Наконец и там стало тихо. Зина продолжала сидеть за папиным столом. Часы показывали половину двенадцатого. — Ты что не спишь? — мама появилась в ночной рубашке. — Не хочу, — сказала Зина. Мама прикрыла дверь и подошла к ней: — Почему ты злишься? — А почему ты замуж не выходишь? — резко спросила она. — Ах, вот ты о чем? — мама будто удивилась, — Лесли я не хочу? Зина молчала. — У меня с ним все кончено. У Зины подскочили брови. — Как? — А вот так! И она вышла, даже не сказав «спокойной ночи».
И раньше Зина ничего не понимала, а теперь запуталась вовсе. На следующий день дядя Коля действительно не пришел. Пришел другой, молодой, моложе мамы, в очках на горбатом носу. Представился Зине: — Валерий Алексеевич. Мама опять восторженно хлопотала, не зная, как угодить Валерию Алексеевичу. А тот стеснялся, молчал и от робости, видимо, называл Зину на «вы». Валерий Алексеевич был приятнее дяди Коли. Он оставался дома допоздна, Зина уже засыпала, но утром его никогда не оказывалось. «То ли ночью ушел, то ли рано утром», — думала Зина. Так было с полгода. Пропал Валерий Алексеевич так же неожиданно, как и явился. И буквально следующим вечером на смену ему пришел дядя Жора. Они сменялись, как солдаты на посту. Этот был опять сед и стар, ростом ниже мамы на полголовы, и еще заикался. Дядя Жора ночевал до утра и утром никуда не торопился, долго сидел в ванной, и Зина не успевала умыться. Мельком слышала, что Валерий Алексеевич был доцентом, а дядя Жора — художником. У него даже своя мастерская. — Приезжай ко мне, Зинуля, в гости, покажу свои работы. Дядя Жора тоже обращался к ней на «ты» и противно называл ее Зинулей, и руки у него были сухие, шершавые, и сам он напоминал пересохший сухарь. Летом дядя Жора, а потом и мама предложили Зине поездку по Волге до Астрахани, но Зина наотрез отказалась: — Нет, нет, нет, я еду в лагерь вожатой! И уехала на две полуторные смены, и была счастлива, что она не дома, не видит не только дядю Жору, но и маму. А в конце августа, когда вернулась домой, дяди Жоры уже не было, и никого не было, и мама опять ходила грустная, молчаливая, и все у нее валилось из рук. По вечерам они уже не ужинали (мама давала деньги: «Перекуси где-нибудь»), и даже чай иногда не пили, и не смотрели телевизор. Зина опять ходила в бассейн, а зимой еще и на каток ЦСКА по соседству, старалась возвращаться попозже. Много раз собиралась поговорить с мамой. Подходила, прижималась к ней, вот-вот соберется, но так у нее ничего и не получалось. И сама мама ни о чем не заговаривала, и в душе Зина обижалась. «Ведь уже не маленькая, — думала она. — Чужих ребят мне доверяют, а тут…» Мерно отстукивали на стене старинные часы, когда-то принесенные папой. Ходил влево-вправо могучий медный маятник, отсчитывая время. Каждые полчаса слышался тихий мелодичный бой. И может, впервые сейчас Зина подумала о времени. Как медленно и как быстро идет оно! Кажется, еще только вчера ходила в первый класс, а теперь скоро кончать школу. Кажется, еще только вчера дома все было так хорошо, а сейчас вот и папы нет. И фотографии — свидетели времени. Красноармеец. Старший лейтенант. Майор. Полковник. Мама молодая — и сейчас. И она, Зина, — от крошечной до почти нынешней. Время идет, идет, идет, а ничего еще не сделано. И у мамы. Эти дяди Коли, Валерии Алексеевичи, дяди Жоры. На работе маму ценят и любят, Зина знала, а дома — все кувырком, все случайно, как будто и время остановилось. Неужели так можно жить?
Перемена наступила как раз зимой. Он пришел в один из февральских вечеров вместе с мамой — высокий, обветренный морозом, в военной форме, чем-то очень напоминавший отца. От него пахло морозом и свежим снегом. Зина сразу поняла, что где-то видела его, но где — никак не могла вспомнить. А он был в меру скромен и вежлив, не лез к Зине в друзья, но вместе с тем разговаривал с ней как с равной. Когда шел умываться, спрашивал у мамы и у Зины, не нужна ли им ванная. Уходя на работу, интересовался, что купить — принести к вечеру. Если курил, то спрашивал разрешения. И мама рядом с ним была оживленная, но без суеты и нарочитой приподнятости. Его звали Василием Петровичем. Лет ему было сорок, может чуть побольше. Приходил Василий Петрович ежедневно, но не вместе с мамой (кроме первого раза), а чуть попозже. И приносил с собой какое-то спокойствие и солидность. Зине он понравился сразу, и у них установились хорошие, добрые отношения. Василий Петрович даже, пожалуй, с большим вниманием, чем мама, интересовался ее школьными делами и вообще всем — катком, бассейном, книгами, которые она читала. Часто сидели в кабинете и говорили об отце, которого Василий Петрович знал многие годы. — Ведь я моложе твоего папы ровно на десять лет и многому научился у него. Это мы потом подружились, а сначала я ходил у него в учениках. На войне я не был, по возрасту не попал, и тут опыт Сергея Константиновича мне очень был нужен, — так приблизительно говорил Василий Петрович. И рассказывал о том, как они вместе с отцом объездили за эти годы почти все границы, и как им вообще повезло, что они оказались в погранвойсках, и что вести политическую работу среди пограничников — дело особое и увлекательное. — На границе мирного времени не бывает, — добавлял он. От Василия Петровича Зина узнала, что отец ее с отличием окончил после войны военно-политическое пограничное училище, потом служил на далекой Камчатке и только позже попал в Москву в Политуправление погранвойск. Теперь Зина вспомнила, откуда знает Василия Петровича. — Я вас на папиных похоронах видела, — сказала она. — Да, я летал за Сергеем Константиновичем в Читу, когда все это случилось. И потом вот — с гробом в Москву. Грустное это было путешествие. Он говорил о папе как о живом. — Я познакомился с Сергеем Константиновичем как раз па Камчатке, — говорил Василий Петрович. — Служил у него в подчинении. Комсоргом был. А потом не без его участия попал в то же училище, которое и он кончал. Из училища — сразу в политуправление, где работал Сергей Константинович. Так наша дружба и восстановилась. Мама, накрыв на стол, приглашала их: — А ну, заговорщики, ужинать! — Мы не заговорщики, — оправдывалась Зина. Зине хотелось куда-нибудь пойти с Василием Петровичем или поехать, хотя бы на границу, как они ездили с палой. И обязательно чтобы мама была рядом. Но ее никуда не звали. Она вспомнила дядю Колю. Вот с Василием Петровичем она бы с удовольствием сфотографировалась. И с мамой. И пусть бы эта фотография висела в папином кабинете. Ведь папе не было бы обидно. Они с папой были друзьями. Но Василий Петрович не предлагал… Прошли зима, весна и лето. Лето они провели на даче, которую снял Василий Петрович, и Зине было совсем не скучно, поскольку там была дочь Василия Петровича — Маша, Зинина ровесница. Маша была девочкой тихой и замкнутой, но они подружились. Заводная Зина как-то быстро сошлась со спокойной Машей. От Маши Зина узнала, что мать ее очень давно, когда Маше было пять лет, погибла в геологической экспедиции, что папа потом не женился, жили с бабушкой, но и она умерла. — Я очень хочу, чтобы папа женился на твоей маме, — говорила Маша. — А ты? Зина вспомнила дядю Колю, Валерия Алексеевича, дядю Жору и осторожно согласилась: — Пожалуй… Они уже вернулись с дачи в Москву, когда Зина как-то заикнулась об этом маме. Василий Петрович был в командировке. Зина так и сослалась на Машу: — А Маша говорит, что очень хочет, чтобы ты с ее папой поженились. Мама задумалась. Потом сказала: — Не знаю, Зинок, не знаю… Зина молчала. Ей было немного горько, что мама не советуется с ней. — Боюсь я после всего, — продолжала мама. — Сейчас все так хорошо и просто, а если официально — как-то будет… Да, ну хватит об этом! Так опять у них не получилось разговора.
Это случилось в ноябре. Зима пришла ранняя и устойчивая. Каждый день шел снег, и транспортеры еле успевали очищать улицы. Дворники вовсе не справлялись со снегопадом. Тротуары сузились, и пешеходы с трудом пробирались по узким тропинкам меж бесконечных сугробов. Зина не помнит, чтобы мама когда-то болела и обращалась к врачу, а тут она пошла в поликлинику и вернулась удрученной: — Видимо, придется ложиться в больницу. Ни Василий Петрович, ни Зина не поняли, что случилось. — Говорят, какие-то спайки и нужна операция, — * сказала мама. Василий Петрович ходил куда-то с мамой, что-то выяснял. Через неделю маму положили в больницу. В больнице был карантин, и Зину не пускали туда. А Василий Петрович получил специальное разрешение и ежедневно после работы бывал у мамы. После больницы он, как и прежде, приезжал домой, и Зина с нетерпением ждала его: — Ну, как? Василий Петрович рассказывал, как Зине казалось, очень осторожно и передавал ей записки: «Зинок!.. У меня все хорошо. Как ты? Как в школе? Помогай Василию Петровичу. Целую! Твоя мама». «Очень скучаю по тебе, Зинок! Очень хочу видеть! Не знаю, когда снимут карантин. Целую! Мама». «Береги, Зинок, Василия Петровича! Очень он внимательный и хороший. Навести его Машу. У меня все хорошо. Целую! Мама». Зина расспрашивала Василия Петровича, что делают с мамой, чем лечат, когда операция. — Операция на следующей неделе, — говорил Василий Петрович. — Видимо, во вторник. А сейчас капельница. Уколы разные. Исследования. Зине казалось, что Василий Петрович чего-то недоговаривает, скрывает от нее. Но что? Как узнать? К Маше она заезжала после школы не раз, да и Маша дважды к ней приезжала. Ходили они на каток, но лед был еще плохим. В день операции Зина отпросилась из школы и поехала чуть свет в больницу. Дальше гардероба ее не пустили. Вскоре появились Василий Петрович с Машей. — А как же ты со школой? — спросила Зина у Маши. — Меня отпустили. Василий Петрович разделся, набросил халат. — Посидите, девочки! — сказал он и направился к лифту. Время тянулось медленно. Они почти не разговаривали. Смотрели на часы: десять, пол-одиннадцатого, одиннадцать, половина двенадцатого. Василий Петрович появился около двенадцати, тяжело присел рядом на лавку, сказал: — Только сейчас закончили. Привезли в послеоперационную палату. Она спит. Я через стекло видел. — И что нашли? — Зине не терпелось узнать подробности. Василий Петрович словно не расслышал ее. — Давайте собираться, — сказал он и направился к гардеробу. Когда вышли, Зина опять спросила: — Василий Петрович, так что все-таки у мамы? — Не знаю, Зина, не знаю! Ничего не берусь сказать, — неопределенно ответил он. У метро они попрощались. Василий Петрович поехал на работу. Маша — в школу. Зина решила в школу уже не идти — пошла домой. Вечером Василий Петрович сказал: — Маме, кажется, легче. — Вы были у нее? — Был. Через несколько дней Зина опять стала получать от мамы записки, бодрые и обычные, как будто никакой операции не было. Она ходила на рынок — покупала гранаты и грецкие орехи. Дома выжимала сок и колола орехи. Василий Петрович отвозил это все в больницу вместе с Зиниными записками. Еще доставал крабов и черную икру. Маму уже перевели в прежнюю палату. В конце декабря Василий Петрович достал елку и игрушки, установил ее в маминой палате. Новый год Зина встретила с Машей. Смотрели по телевизору «Голубой огонек». Василий Петрович был в больнице.
Январь — снежный и вьюжный. Город напоминал снежную целину. Крыши, улицы, тротуары — все утопало в снегу. А он продолжал валить и валить. Вскоре после Нового года Василий Петрович принес радостное известие: — С завтрашнего дня в больнице снимают карантин. Ты поедешь? — Конечно, как же! — воскликнула Зина. — Только приезжай к шести, как и я, — попросил Василий Петрович. — И… Он не договорил. Весь день Зина ждала вечера. И на уроках, и после. Ничего не лезло в голову. Сходила на рынок, купила три свежих огурца и одну помидорину. Дорого, но мама любила. Выжала гранатовый сок. Запас гранатов был. Без конца болталась по квартире, смотрела на часы… Четыре, полпятого, пять, половина шестого. Тут собралась, оделась. В больнице разделась, получила халат, поднялась на четвертый этаж. Больные лежали и в коридоре и на раскладушках. Она нашла номер палаты. В палате стояло четыре койки и раскладушка у окна. И если бы не Василий Петрович, уже сидевший у мамы, она бы не узнала ее. Мама с желто-синим осунувшимся лицом лежала на высоко поднятых подушках. Вид у нее был измученный, только глаза блестели. Голову держала плохо — голова качалась. Рядом стояла капельница. Резиновая трубка тянулась к руке. — Вот и Зина, — как-то неестественно бодро сказал Василий Петрович. Зина чмокнула маму в щеку и не знала, что спросить, что сказать. Василий Петрович взял у нее сумку, спросил: — Принесла? Сейчас мы попьем. Ох, и зеленые огурчики, помидор! Прекрасно. Это мы поедим. Он уверенно хлопотал вокруг мамы, а мама смотрела на него и на Зину какими-то виноватыми глазами. Зина молчала. Василий Петрович дал маме несколько ложек гранатового сока. Потом нарезал помидор и огурец, посолил, взял вилку: — Понемножку. Мама ела с трудом. В палату принесли ужин. Мама посмотрела и сказала: — Я не буду. Сказала устало, словно ей было тяжело говорить. И дышала тяжело, с хрипами. — Ну хотя бы ложечку каши! — попросил Василий Петрович. — Нет, — коротко ответила мама. Обратилась к Зине: — Ты как? Зина хотела сказать: «Не волнуйся, все хорошо, мамочка», но осеклась, боясь, что эти слова прозвучат не к месту. — Ничего, — сказала она. Еще немного посидели вместе, и мама, кажется, задремала. — Ты иди, — шепнул Василий Петрович, — и подожди меня внизу. Зина, совершенно обескураженная, вышла. Внизу долго ждала Василия Петровича. Наконец он появился. Сказал: — Договорился о ночном дежурстве. Целая проблема. Оказывается, Василия Петровича ждала у подъезда машина. Он открыл Зине дверцу, сел рядом с ней. — Женя! К Дементьевым! — бросил шоферу. А Зина даже не поздоровалась с водителем. В машине она спросила у Василия Петровича: — Это очень серьезно? — Очень, — ответил он сразу, не раздумывая.
Приемные дни в больнице были не каждый день. И назавтра Зина не поехала. Сидела дома, ждала Василия Петровича. Его не было долго. В девять зазвонил телефон: — Зина, это ты? Зина почувствовала недоброе: — Я. А что, Василий… — Немедленно приезжай в больницу! Зина помчалась. Бегом на метро, потом на троллейбусе, еще с километр пешком. Василий Петрович ходил по вестибюлю в распахнутом халате. Увидев Зину, подошел к ней, обнял: — Будь умницей, девочка! — Что? — не поняла Зина. — Все, — сказал Василий Петрович. Зину пробрал озноб, потом бросило в жар. Глаза заволокло. Придя в себя, она спросила: — А я?.. Мне можно туда?.. — Может, не надо? — неуверенно произнес Василий Петрович. — Надо! — решительно сказала Зина. — Ну пойдем, — согласился Василий Петрович. — Когда? — спросила Зина в лифте. Она еще не могла смириться со страшной мыслью. — Полчаса назад. В двадцать один ноль пять, — ответил Василий Петрович. На четвертом этаже они прошли по коридору до знакомой палаты. В палате мамина койка была прикрыта ширмой. Капельницу уже унесли. Василий Петрович приподнял простыню. Лицо теперь у мамы было не желто-синее, а белое. Василий Петрович опустил простыню, сказал: — Пойдем. Потом они сидели в ординаторской. Дежурный врач налил им по стакану горячего чая, пододвинул сахар. Они о чем-то говорили с Василием Петровичем, но Зина не понимала. Она пила обжигающий чай и старалась представить себе мамино лицо, только что виденное, но не могла. Видела маму с папой, с дядей Колей, с Валерием Алексеевичем, с дядей Жорой, с Василием Петровичем, а теперешнее не могла. Домой они возвращались на перекладных. Машины уже не было. — Женю я отпустил, — сказал Василий Петрович. На улице мела метель, выл ветер, было люто холодно. — Как все это было? — спросила Зина. — Когда я приехал, мама меня уже не узнала. Она была на наркотиках. Только в начале десятого широко открыла глаза, вроде узнала, хотела что-то сказать — и все… Я держал ее голову… Дома Василий Петрович позвонил Маше. Все сказал. — Ты ложись, я тут, — добавил он. Сами они долго не ложились. Зина бесцельно бродила по квартире. Василий Петрович — за ней. Потом вскипятил чайник. Сказал: — Попей! — Я не хочу! — ответила Зина, но села тут же на кухне и обхватила руками горячую чашку. Ее трясло. Словно вспомнив о чем-то, Зина вдруг спросила: — Может, не к месту, но… Вы знали, Василий Петрович, что было с мамой потом, после папы? Он подтвердил: — Знал. Она сама мне все рассказала… Помолчал и добавил: — И я не судил ее строго, а сейчас тем более. Зина не спросила почему. Она, кажется, понимала, что сказал бы Василий Петрович. Мама чувствовала приближение того, что случилось сегодня, и вот… Словно угадывая ее мысли, Василий Петрович сказал: — Единственно, чего не могу простить себе: не уговорил маму оформить наш брак. Пожили бы как люди… Они шли с кладбища к электричке. Зина, Маша и Василий Петрович. Народу на похоронах было много. Люди с ткацкой фабрики. Несколько военных из политуправления. Даже кто-то из райкома и райсовета. Говорились речи, но Зина их не воспринимала. Она видела маминолицо и красные подушечки с двумя орденами и тремя медалями. «Как у папы, как у военных», — думала Зина. Маму похоронили рядом с папой, в той же ограде. На папиной могиле стоял небольшой гранитный камень. Над маминой — груда венков и цветов. Было сумеречно, пасмурно. Под ногами скрипел снег. Подходя к станции, Зина спросила, вспомнив свидетельство, которое видела в эти дни у Василия Петровича: — А что такое острая сердечная недостаточность? — Это диагноз, — сказал Василий Петрович и добавил: — Как бы конечный результат. — А не конечный? — спросила Зина. — Ты же знаешь, — пояснил Василий Петрович. — Рак… На следующий день к вечеру Зине позвонил Василий Петрович: — В школе была? — Нет. — Пойдешь завтра. Хорошо? — Хорошо. — А сегодня к семи часам собери вещи, самое необходимое, и жди нас с Машей. — Но я… — хотела сказать Зина. — Никаких «но», — решительно произнес Василий Петрович. — Жди! Поедем к нам. У Зины все валилось из рук. Кое-как она что-то засунула в чемодан и портфель, оставшийся от папы. В семь приехали Василий Петрович и Маша. Взяли вещи, спустились вниз, сели в машину. — Женя, домой, к нам, — сказал Василий Петрович шоферу.
ПОЖАРНАЯ ДРУЖИНА
Наш Девяткин переулок был ничем не знаменит. С одной стороны, на углу Покровки, булочная, где мы получали хлеб по карточкам на сутки вперед. Другим концом Девяткин упирался в более интересный Сверчков переулок. Там находился трест «Арарат», из подвалов которого пахло вином. Его привозили и увозили в бочках огромные ломовики. Там же стоял сулимовский особняк, названный в честь председателя Совнаркома РСФСР. В саду мы собирали желуди, до войны просто так, а в войну они шли в дело — варили кофе. Там была и наша школа. Но именно наше домоуправление в Девяткином переулке отличилось первым. В июле сорок первого, когда начались налеты на Москву, оно объявило набор в добровольную пожарную дружину. В других соседних переулках таких дружин не было. В Красную Армию нас по возрасту не брали, и потому мы с радостью записались в эту дружину. Все — мальчишки и девчонки в возрасте четырнадцати — шестнадцати лет. Днем мы работали кто где. Я делал, например, петушки для автоматов в некогда мирной мастерской по производству замков, ну а по вечерам мы выходили на дежурство. Нам выдали противогазы, каски, брезентовые варежки без пальцев и железные щипцы, а к зиме и телогрейки. Командиром нашим был сантехник дядя Костя, которого не взяли в армию из-за одноглазия. Глаз он потерял на финской.Ирина. Ира. Ирочка. Она тоже была с нами в дружине, и это главное. Мы с Ирочкой считались женихом и невестой. С далекого детства. По крайней мере, с тех пор, как в начале тридцатых переехали в Девяткин после взрыва храма Христа Спасителя. Мы жили в одной огромной коммунальной квартире, только в разных концах коридора. Ира была старше меня на два года, но это не мешало нам играть вместе. Сначала после школы перестукивались по батареям (мы придумали свою азбуку), а потом собирались в ее или моей комнате. Родители наши находились на работе, и нам никто не мешал. Сначала играли поодиночке — она в куклы, я в машины, позже наши игры как-то соединились. Помню, мы даже играли в пап и мам. Мы ходили в кино, смотрели «Петер», «Кукарачу» и «Трех поросят», картины с Диной Дурбин, в которую я был тайно влюблен. Ездили на ВСХВ и в Парк культуры, где катались на «чертовом колесе» и прыгали с парашютной вышки. Сначала Ира боялась прыгать, поднималась на вышку и опять спускалась, жалея, что зря пропал билет, но потом однажды решилась. И после этого прыгала уже с удовольствием. Ира была странной девочкой, но этим она еще больше нравилась мне и тайно влекла меня. Однажды она предложила: — Давай полежим на постели, как настоящие муж и жена. Только смотри, чтобы ничего не было. Мне было лет двенадцать, и я не знал, что между нами может быть. И охотно согласился. Мы залезли одетые на постель Ириных родителей и торжественно замерли. — Только ничего-ничего, — повторила Ира. — Конечно, ничего. Так повторялось много раз. Мы лежали и мечтали о нашей совместной жизни, и Ира говорила, что у нас будет много-много детей, и все девочки, и мы будем отправлять их на лето в Артек. Мы представляли себе Артек, в котором и сами не были, и нам все это очень нравилось. Года через два Ира предложила: — Давай разденемся и ляжем под одеяло. Только смотри, чтобы ничего не было. Тогда я уже знал приблизительно, что может быть в подобных случаях, и мне этого, честно говоря, хотелось, но я конечно же пообещал Ире: — Хорошо. — Я первая, ты потом, — сказала Ира. Она отвернулась от меня, скинула все до нижней рубашки и нырнула под одеяло: — Теперь ты. Я робко разделся до трусиков и тоже полез под одеяло. — Только, чур, близко не прижиматься! — сказала Ира. Я не знал, что такое близко — не близко, бросился к Ириному лицу и стал целовать ее. Она не противилась, но без конца повторяла: — Только больше ничего! И вдруг: — Положи мне руку на грудь. Это было совсем нестерпимо. Но я положил руку на ее чуть заметную грудь. — Хорошо, — вздохнула она.
Война быстро сделала нас взрослыми. Мы встречались все реже. Ира училась где-то на зубного техника. Я работал сначала учеником слесаря, а потом получил разряд. Работать приходилось по полторы-две смены с шести утра, и освобождался я только вечером. Зато вечер и ночь — наша пора. Мы собирались в домоуправлении, в красном уголке, изучали комплексы ПВХО и ГСО, а главное, силуэты немецких самолетов. Все «мессеры», «хейнкели», «фокке-вульфы» были нами обсосаны до косточек, но видеть их и угадывать в ночном небе нам не доводилось. В июле и августе налетов на Москву было мало, а в сентябре и октябре, когда они усилились, было не до этого. Тут только успевай справляться с немецкими зажигалками да увиливать от града осколков наших зенитных снарядов. В дружине нашей насчитывалось около тридцати человек. Были и взрослые, но они дежурили, когда имели свободное время. Вечером жильцы спускались обычно в подвалы — в бомбоубежища, а те, что с детьми, уходили ночевать на станцию метро «Дзержинская». Правда, «Кировская» была глубже и ближе к нам, но она была закрыта: там жил и работал Сталин. Мы начинали вечер с проверки светомаскировки в четырех подопечных домах (двух двухэтажных, трех- и четырехэтажном), а потом уже забирались на крыши. Чердаки мы вычистили и посыпали песком еще летом, когда налетов было мало. В мою группу, кроме Иры, входило еще пять человек, среди них мой лучший друг по довоенным временам — Коля Лясковский. У Коли был фотоаппарат, что являлось редкостью в ту пору, и он часто фотографировал меня во дворе и на Чистых прудах (на фоне цыгана с медведем), а однажды даже у знаменитой церкви в конце Маросейки — начале Покровки, история которой была связана с именем Богдана Хмельницкого, но чем и как — я не знал. Я же часто давал Коле свои книги, некоторые без возврата. Я владел довольно приличной библиотекой, оставшейся от дедушки. Признаюсь, что некоторые книжки из нее я тайно от родителей сдавал до войны в букинистический, чтобы иметь деньги на мороженое и конфеты для Иры. Дежурили мы чаще всего на крыше нашего четырехэтажного дома. Я не мог наглядеться на Иру. Мне хотелось постоянно видеть ее, быть рядом, я любовался ею, когда она, разгоряченная, ловко орудовала с зажигалками. Это было прекрасно! В минуты отбоя мы часто забегали в нашу пустую квартиру, и я пытался поцеловать ее, но она мягко отстранялась и повторяла: — Не надо! Сейчас не надо!
Обычно я не спускался в бомбоубежище и вообще ни разу не был там, но вот как-то узнал, что нас должны переселить вниз (об этом сказал дядя Костя), и я решил сбегать к маме. Я спустился в подвал. Там было очень сухо, душно и людно. По стенам тянулись толстые трубы, видимо, от котельной. Маму я нашел быстро. — Нас переселять собираются, — выпалил я. — В первые этажи. Она заволновалась: — А как же вещи? — Возьмем самое нужное, а остальное оставим. Ведь война все равно скоро кончится. Тогда мы верили в быстрый конец войны. Мама у меня была совсем еще молодая, как я понимаю сейчас, но в то время она мне казалась старой или, вернее, очень-очень взрослой. Она работала бухгалтером в Наркомтяжпроме на площади Ногина, и я часто писал по ее просьбе заметки в их стенгазету, а дважды даже в многотиражку «Штаб индустрии». А однажды (по тем временам это был необыкновенный случай), к Восемнадцатому съезду партии, меня наградили коробкой трюфелей. Я отдал конфеты Ире, и она никак не могла понять: — Откуда такие дорогие? — Сам заработал, — с гордостью отвечал я. …В конце октября, когда бомбежки усилились, нас действительно переселили. Мы с Ирой попали в разные квартиры.
Какой же она была тогда? Наверное, ничего особенного. Девчонка как девчонка. Ростом чуть ниже меня, длинного. Лицо круглое, и, хотя все поотощали тогда на скудных военных харчах, оно у нее оставалось круглым. Нос чуть курносый. Серые, задумчивые глаза, а движения порывисты. Губы пухлые, большие и очень розовые. Волосы светлые, расчесанные на пробор, но на лбу небольшая челка. И очень сильные, упругие, пружинистые ноги. Она была первая для меня и самая неповторимая! Я толком не знал, как делается татуировка, и посоветоваться было не с кем, но я знал, что с Ирой у нас все навечно. И я взял иголку, синюю тушь и долго мучительно колол себе на запястье, заливая проколотое тушью. Получилась солидная буква «И». На большее меня не хватило.
Я никогда не отличался особой наблюдательностью, да и в людях разбирался плохо, за что мне и по сей день достается, но тогда, в октябре, мне показалось, что Ира стала ко мне относиться как-то иначе. Может, и не иначе, но что-то переменилось в ней. Мы уже не забегали во время дежурств в нашу опустелую квартиру, чтобы хоть минуту побыть вдвоем. И, конечно, не целовались. На занятиях в красном уголке и во время дежурств на крыше мы все реже и реже оказывались рядом. Как-то я не выдержал и написал Ире записку. Почему-то писать всегда легче, чем спрашивать, глядя в глаза. «Что случилось? — писал я. — Почему ты на меня не смотришь?» Но она на записку не ответила. Сделала вид, что ее просто не было. Вот и тогда. Тревогу объявили рано, в начале седьмого. Жители дома поползли в бомбоубежище, а мы заняли свои места на крыше. Я с Колей оказался на одной стороне, Ира и еще один парень на другой, а посредине крыши была семиклассница Зина Невзорова, самая крупная среди нас. Бывает же такое: лет меньше всех, а фигурой геркулес. Как всегда, в начале тревоги было очень тихо. Где-то вдали полыхали зарницы, а над нами висело почти мирное небо, изредка пронизываемое лучами прожекторов. Справа, в районе Чистых прудов, колыхались аэростаты воздушного заграждения — три слонообразные фигуры. Через час начался отбой, но ненадолго. Мы не успели даже спуститься вниз. Все вокруг загрохотало. С земли били зенитки, а с крыш трассирующими зенитные пулеметы. На наших крышах пулеметов не было. Самые ближние в Армянском, Потаповском переулках и на улице Кирова. Три луча прожектора выхватили в небе силуэтик вражеского самолета, и он, ослепленный, заметался в облаках. Но лучи прочно уцепились в него и повели куда-то за город. До двенадцати ночи было еще две тревоги, но потом объявили длительную, наверное до рассвета, хотя вокруг было относительно тихо. Подошла Ира и, кажется, впервые за много дней, обратилась ко мне: — Ты побудешь? — А что делать! Побуду! — сказал я. — Тогда пойдем, Коля, спустимся, — предложила она Лясковскому. — Пойдем, — согласился он. — Мы ненадолго, — бросила она уже от чердачного окна. А у меня на душе скребли кошки.
Так прошли октябрь, ноябрь и начало декабря. Немцев уже разгромили под Москвой, но налеты продолжались и становились все более мощными. К городу, как правило, прорывались два-три самолета, но чаще это было у нас, в центре. За эти месяцы случались и бомбежки, довольно сильные, но зажигалок хватало. Только на счету нашей пятерки их числилось больше пятидесяти. А по всему Девяткину! А по соседним! Декабрь стоял лютый, и мы порядком мерзли на крышах. Все чаще бегали греться домой, но и там было не сладко. Отопление не работало, а печка «буржуйка», которую мы поставили с мамой, пожирала последнюю мебель и даже книги. Я согревался только на работе. На крыше во время дежурства, несмотря на мороз, все время страшно хотелось спать. Спали мы мало, по три-четыре часа, не больше. Часто сразу после дежурства я бежал на работу, а после смены через час-другой в красный уголок на занятия. А после занятий опять дежурство. И признаюсь, если раньше они мне были в радость — повод лишний раз встретиться с Ирой, то сейчас я относился к ним как-то механически. Надо так надо. Если раньше я на дежурство шел с большей радостью, чем на работу, то теперь наоборот. На работе я чувствовал себя нужным (все-таки детали для автоматов делаем), а тут, на дежурстве, ежедневно видеть равнодушную, отдалившуюся от меня Иру. И гадать и думать, что же происходит. Писать записки я ей больше уже не решался, а спрашивать… Что я мог спросить? Выяснилось все само собой. Однажды после занятий в красном уголке ко мне подошел Коля Лясковский и предложил: — Давай пройдемся! Я даже обрадовался. В последнее время мы мало общались. Я, кстати, не знал, где он работает. — Давай! — с радостью согласился я. Мы вышли в переулок и пошли по заснеженному тротуару в сторону Покровки. — Коль, а где ты работаешь? — спросил я. — В лаборатории «Вторчермет», — сказал он. — Пулеметы делаем. — А мы автоматы. Вернее, детали к ним, — похвалился я. — Мы… — Я не о том, — перебил меня Коля. — Ты чего это так на Ирку смотришь? — Как? — не понял я. — Ну влюбленно, что ли… Я не знал, что сказать. — Хотя мы и друзья, — сказал Лясковский, — тем более. Смотри у меня! Если приставать будешь, я… — А я и не пристаю вовсе, — глупо оправдывался я. — У нас с Иркой все очень серьезно, — продолжал Коля, — и ты, пожалуйста, в наши отношения не лезь. — Я и не собираюсь, — опять почему-то начал оправдываться я, а сам думал о страшной женской измене, на которую настоящие мужчины, конечно, никогда не способны. Зачем же тогда все это: «Давай ляжем! Положи мне руку на грудь!»? А теперь…
В середине декабря морозы усилились, и дежурить стало совсем трудно. Мы все чаще прятались на чердаке, где было не так холодно, да и ветра не чувствовалось. Чердак мы совсем привели в порядок. Все стропила были покрыты огнеупорной краской. Под ногами приятно хрустел свежий песок. Кошками теперь не пахло. То ли от морозов, то ли еще почему, но все московские кошки куда-то исчезли. Город лежал в завалах снега. Улицы давно не убирались, пешеходов мало, трамваи и троллейбусы ходили редко. Только еще в метро чувствовалась жизнь, да на улицах, когда проходили воинские колонны — грузовики, танки, сани, пешие лыжники в маскхалатах. Перекрестки были перегорожены баррикадами и ежами. Между ними и пробирались колонны военных и по-довоенному мирные, покрытые инеем трамваи и троллейбусы. В ту ночь тревоги объявлялись одна за другой, и пятая, после двенадцати, оказалась особенно страшной. Поначалу все было относительно тихо, даже зенитки не стреляли и в небе не рыскали прожектора, но вдруг совсем низко в хмуром ночном небе послышался рев самолетов. Чувствовалось, что это тяжелый самолет, не истребитель, хотя его и не было видно. И вдруг вниз полетели зажигалки — так много, как никогда. Многие падали прямо на улицу, на мостовую, но не меньше уже пыхтело и шипело на крышах — и слева, и справа, и спереди, и сзади. У пас на крыше горело не меньше десяти, и мы не только щипцами, но и прямо ногами сбрасывали их на землю. — Сюда! — кричала нерасторопная Зина Невзорова. Она оказалась одна посреди крыши, и вокруг нее горели четыре зажигалки. И щипцы у нее, как назло, заело. Первым к ней бросился Коля. И, дико браня Зину, ногой выбил из-под нее вовсю горевшую зажигалку. — Сама сгоришь, дура! — крикнул он. Подбежал и я, прихватив щипцами и скинув с крыши еще две зажигалки. — Ой, спасли, мальчики! Ой, спасибочки! — бубнила Зина. А на соседней крыше двухэтажного дома горели три зажигалки, и там почему-то никого не было. — Побежали туда! — крикнула Ира, и мы бросились за ней. Когда поднялись по пожарной лестнице на крышу, под зажигалками уже горела краска железа. Хорошо, что на чердаке оказалась полузамерзшая вода. Зажигалки затоптали прямо ногами (увы, мои последние ботинки приказали долго жить) и залили водой со льдом. Вернулись к себе на крышу все, кроме Лясковского. Он пошел с докладом к дяде Косте. До утра было тихо.
Это случилось под Новый, сорок второй год. Я пришел с работы, как всегда, усталый и сразу же завалился спать. До семи было еще два часа. Не успел, кажется, уснуть, как чувствую, меня будят, трясут. — Вставай же скорей, соня! Открыл глаза и вижу дядю Костю, а рядом с ним Зину Невзорову. — Слышишь? — говорит дядя Костя. — Что? — Тишь-то какая, — поясняет он. — А времени сколько? — Не знаю. — В том-то и дело, что четверть девятого, а еще ни одной тревоги не объявляли. Только тут я сообразил, сколько проспал. И такого действительно еще не было. Пятнадцать минут девятого, а ни одной тревоги. — Давай вставай — и все по постам. Я быстро собрался, а когда через черный ход и чердак вылез на крышу, там уже ждали Ира и Коля. Они о чем-то противно ворковали, как два голубка. За мной пришла и Зина. Минут через двадцать объявили тревогу. Где-то вдали ухали зенитки да прожектора прорезали мутное небо… Но вскоре стрельба зениток стала ближе, и, хотя вражеских самолетов не было видно, небо над нами полыхало от выстрелов и трассирующих пуль. На крышу без конца падали осколки зенитных снарядов. И вдруг оглушительный, страшный вой, совсем рядом с нами, кто-то закричал «ложись!», и мы грохнулись плашмя на мерзлое железо. Слева что-то ударило, дом вздрогнул, и я увидел, как в небо взвился столб дыма с огнем. И неожиданно все затихло. Мы медленно поднялись. — Где Коля? — первой выкрикнула Ира. Коли действительно рядом не было. — Может, он на чердаке? — неуверенно произнесла Зина. Мы облазили чердак, никого не нашли и кубарем скатились вниз по лестнице. Коля лежал на мостовой. Он был мертв. Взрывная волна. — Глупая смерть! — сказал дядя Костя. — А что, бывают умные? — зло бросил я. А за нашим домом полыхало пламя, и в небо вился столб дыма, и кто-то кричал, и завывала «скорая помощь».
Колю похоронили только на девятые сутки. Хоронить тогда было очень трудно: давай хлеб, водку, мыло, соль. Хоронили Колю в закрытом гробу. Он сильно разбился, да еще, говорили, в морге крысы попортили ему лицо. Похоронили Колю на кладбище Введенские Горы, которое еще называется Немецким. Вся наша дружина вместе с дядей Костей пришла на похороны и еще какие-то люди, которых я не знал. Отец Коли на фронте, а мама была. И только Иры не было. Почему — не знаю.
Однажды на работе мне дали номер газеты «На боевом посту». Я еще не видел такой газеты. Под заголовком было напечатано: «Орган политотделов УМКМ, УПО г. Москвы и Московской области и парткомов УНКВД г. Москвы и Московской области». Значит, милиция и пожарная охрана. — Там про вас напечатано, — сказали мне. Газета рассказывала о делах нашей дружины, о Коле писала как о живом, а под заметкой были стихи:
ЗЕНИТЧИКАМ
Николай Лясковский, 16 лет,боец добровольной пожарной дружиныпри домоуправлении № 10
А я и не знал, что Коля писал стихи. Я отдал газету Ире.
Зима тянулась медленно, и, хотя на фронте дела шли удачно, у меня на душе из-за Иры было по-прежнему горько и неспокойно. С ней мы виделись ежедневно на дежурствах, но говорили мало и больше ни о чем. Какая-то ниточка уже давно оборвалась меж нами, а после гибели Коли это почувствовалось особенно. Но вот наступил март, а за ним и апрель. Налеты на Москву стали чаще, но пришла и первая радость. Меня, кажется, брали в Красную Армию. Я, конечно, похвалился перед всеми на работе и в дружине, прежде всего перед Ирой. И она сказала: — Хорошо. Немного вроде задумалась, а потом спросила: — А ты ничего не замечаешь? — А что? — не понял я. — У меня будет ребенок, — просто сказала Ира. Я опешил. — Как? — А разве не заметно? — сказала она. — Нет. — А все замечают. Наверно, это было глупо, но я молчал, не зная, что сказать, и панически боялся посмотреть на ее живот. Потом спросил: — А он кто? — Кто «он»? — переспросила Ира. — Ну, папа, что ли, как там? — промямлил я. — Коля, — сказала Ира.
Когда я попал на фронт, мы переписывались с Ирой. Не часто, но довольно регулярно. В сорок четвертом и она ушла на фронт, так и не доучившись на зубного техника, но мы были далеко Друг от друга и опять только переписывались. А после войны мы поженились. Наша старшая дочь ничего не знает о Коле. И дома мы о нем не говорим. Но часто, конечно, вспоминаем. И каждый по-своему.
ПОСЛЕДНЯЯ ПУЛЯ
Мы залегли на автостраде Бреслау — Берлин. Ребята наши, по большей части выходцы из деревни, не видали таких шикарных дорог и откровенно завидовали: «Умеют, чертяки, строить». В дни больших наступлений бывают глупые ситуации. Вот и сейчас была одна из таких. Части, которые до нас занимали оборону на автостраде, куда-то перебросили. Считали, видимо, что немцев поблизости нет. А они оказались. Выяснилось, что в противоположном леске расположилась крупная немецкая часть и будто она собирается выйти на автостраду. Вот нам и приказали занять оборону вдоль автострады, рядом с мостом. Вояки мы не ахти какие — Отдельный разведывательный артдивизион — топографы, фотографы, звукометристы, но бывать в таких ситуациях уже приходилось. Только жаль, что осталось нас мало — из ста двадцати положенных не более шестидесяти. Да кто-то еще оставался в части — офицеры, повара, дежурные, шоферы. Так что на автостраде залегло человек около сорока. Было тихо. Немцы не появлялись. Лишь за мостом подозрительно тарахтел мотоцикл. Звук этот не давал нам покоя. Лес на другой стороне автострады был метрах в трехстах. Мы внимательно вглядывались в него — ничего. Так прошел час и другой, по-весеннему припекало солнышко, и уже чуть-чуть зеленела трава, и стало даже жарко. И мы расслабились. Хотя шум мотоцикла не давал покоя. — Может, посмотреть? — спросил я у своего соседа Сережи Шарыгина. — А что? Только надо у лейтенанта отпроситься. Нами командовал лейтенант Бурков — командир нашей топографической батареи. Он лежал метрах в двадцати слева. Я подбежал к нему: — Товарищ лейтенант, а товарищ лейтенант… И рассказал про тарахтящий мотоцикл за мостом. — Я сам слышу, — сказал Бурков, — и сам думал. Валяйте, но осторожно. — Да мы с Шарыгиным, — сказал я. Мы с Сережей Шарыгиным не совсем по-пластунски, но все же пригибаясь к земле, нырнули на автостраду и потом под мост. И — о чудо! Почти рядом с мостом в кювете полулежал новенький мотоцикл с заведенным мотором. И рядом никого. Признаюсь, до войны у меня и велосипеда не было, не только мотоцикла, а тут вот он: только бери, садись и кати. — Попробовать? — спросил я у Сережи, боясь, что первым это сделать попытается он. — А что? — сказал он. — Давай я помогу. Мы приподняли мотоцикл и поставили его на бетонку. Я залез на седло, и сразу же от прикосновения моих ног мотоцикл поехал. — Ты куда? — только и успел крикнуть мне в спину Сережа, а я уже не мог остановиться и мчался по автостраде к следующему мосту. Я чувствовал, что Шарыгин бежит за мной и что-то кричит, но, от восторга и страха одновременно, я ничего не слышал, а только сильнее сжимал руль мотоцикла. Приближался мост. Вот он уже рядом, вот я под мостом — и вдруг впереди!.. Ничего не понимаю. Вся автострада разбита в шахматном порядке, и в каждом квадрате какие-то ящики. «Противотанковые мины!» — мелькнуло у меня, когда я уже проскочил мимо двух ящиков, инстинктивно нырнул вправо еще между двумя и… Когда я пришел в себя, то понял, что лежу в кювете, а мотоцикл, перескочив через меня, ударился в столб и заглох. Только колеса еще вертелись. — Ты жив? — подскочил Сережа. — Не знаю, — пробормотал я, стараясь подняться. Поднялся. — Ну и шишка у тебя на лбу! — сказал Шарыгин. — Черт с ней, с шишкой! Хорошо, что… — Да, кончилось, слава богу! А если б на мину! — хлопотал вокруг меня Сережа. — Пойдем отсюда скорей к ядреной бабушке. А то лейтенант… Я и сам понимал, чем все это могло кончиться. Но кончилось все, как ни странно, благополучно, и мне даже не пришлось лейтенанту рассказывать подробности. — Сосунки! Беда с вами! — Лейтенант устало отвернулся. Ну, сосунки так сосунки. Лейтенанту двадцать три, а нам по восемнадцать-девятнадцать. Тоже мне старик! Но, впрочем, он хороший. Вскоре принесли обед, после обеда стало клонить ко сну, а немцы все не появлялись. Шел уже восьмой час, когда все вдруг и началось.Поначалу немцы выходили из леса группами. Предвечерняя дымка размазывала их. Но чем ближе они подходили к автостраде, тем четче выстраивались в линейку. Ни танков, ни бронетранспортеров, ни мотоциклов не было, и это вселяло в нас большую уверенность. — Глядеть в оба! — бросил лейтенант. — И ждать моей команды! Почти у всех у нас к сорок пятому были трофейные немецкие автоматы. Свои неудобные карабины мы спрятали в машинах. Доставали их только при появлении большого начальства. По уставу нам автоматы не полагались, но местное начальство смотрело на это сквозь пальцы. Немцы шли в полный рост. То ли не видели нас, то ли чувствовали себя слишком уверенно. Шли без шинелей, хотя на улице было не жарко, шли как-то солидно. Не какой-то фольксштурм. Мы прижались к откосу автострады. Позиции у нас оказались отличными. А немцы все ближе и ближе. Их уже можно пересчитать. Человек двести, не меньше. Впереди три офицера. И тут прозвучала команда Буркова: — Огонь! Сам он привстал из укрытия и бросил вперед две гранаты. Немцы залегли. То ли были убиты, то ли из предосторожности. Нет, убитых, пожалуй, не видно. Они поползли. Мы вели прицельный огонь, хотя патроны можно было не экономить. Чем-чем, а патронами мы запаслись. И вдруг неожиданно наступила тишина. Замолчали немцы, и мы перестали стрелять. Минуты тянулись медленно, и прошло уже минут десять — пятнадцать, а вокруг по-прежнему было тихо. — Сейчас вновь пойдут, — словно угадывая мысли противника, сказал лейтенант. И действительно, через какие-то мгновения немцы вскочили и, стреляя, побежали к автостраде, прямо на нас. Их оказалось уже меньше, чем вначале, но было вполне достаточно. Бурков вскочил на автостраду и выкрикнул: — За мной! Вперед! И мы рванули вперед.
Результаты боя оказались несколько странными. Всех немцев перебили, и только у меня оказался один живой пленный. Из наших ребят лишь троих ранило. Их перевязывали. А все остальные толпились вокруг моего немца и без конца спрашивали: — Как ты его? Как? Да расскажи толком. А рассказывать было нечего. Я бежал, как все, и стрелял, как все. Какие-то немцы падали. Одного я свалил штыком карабина, который лежал в моей противогазной сумке. Сами противогазы мы, как и карабины, спрятали в машине. А потом появился этот немец. И неожиданно поднял руки и сказал «капут». Ну, я снял с него автомат. Вот и все. Подошел Бурков, тоже поинтересовался. — К награде представим, — пообещал он. Потом Бурков остался с частью ребят у автострады. Раненых, еще человек десять и меня с немцем он отправил к своим. — А что с этим делать? — спросил я комбата. — Немца отведи к начштаба, — сказал Бурков. Мы двинулись к своим. — Ужин пусть пришлют! — крикнул нам кто-то вдогонку. Да, есть очень хотелось. Время подходило к девяти. Я нашел начальника штаба майора Веселова и доложил ему про немца. Начальник штаба посмотрел на пленного: — Хорош гусь! Холеный! Только тут я толком всмотрелся в своего немца. Правда, холеный. Даже пальцы на руках отманикюрены. И ростом чуть выше меня. В общем, фриц что надо! Переодень, и за офицера может сойти. — Только мне он ни к чему, — сказал майор. — Я немецкого не знаю, допрашивать некому, был Самохин, да и того нет теперь. Мы же все немецкий знали на уровне «хенде хох». Костя Самохин — единственный человек в нашем дивизионе, хорошо знавший немецкий язык, погиб при форсировании Одера. — А что же мне с ним делать, товарищ майор? — спросил я. — Отведи к замполиту, — посоветовал Веселов и шутя добавил: — Ему все равно делать нечего. Замполита капитана Стрелько я знал давно, еще со школы в Глухове, под Ногинском, и он ко мне хорошо относился. Поручал делать в свободное время разную наглядную агитацию. Выпускал «боевые листки». Как-то Стрелько пришла в голову мысль разрисовать наши машины лозунгами. Я напридумывал: «Русские прусских не раз бивали, русские дважды в Берлине бывали», «Как сказал товарищ Сталин, бейте фрица непрестанно», «До победы шаг один, будь настроен на Берлин», «Победу в тяжком куй бою, вперед за Родину свою!», «Нас послала мать-Отчизна, бей основы гитлеризма». Стрелько очень понравились эти лозунги, и он приказал написать их на бортах машин. У нас было как раз пять машин. Все лозунги и сгодились. А однажды ему пришла в голову мысль создать своеобразный гимн нашего ОРАДа, и Стрелько поручил мне написать стихи для гимна и подогнать под него какую-нибудь мелодию. Я сочинил:
Припев:
Припев:
Припев:
В Найдорф мы пришли только к вечеру, когда уже смеркалось. Судя по всему, кроме медсанбата, других частей здесь не было, и все же я очень долго искал Валю. Наконец нашел на кухне. — Ты? — воскликнула она. — Живой? А я уж чего только не передумала. — И не один, — сказал я. — А это кто? — Да вот, веду пленного в штаб корпуса, — объяснил я. — Мы сейчас от него избавимся, — пообещала Валя. — Подожди! И куда-то убежала. Она была все такая же. Крошечная и взъерошенная, словно воробей. И ресницы большие. И веснушки на лбу. И глаза, которые поразили еще там, в Москве, на Сретенке. Не голубые и не серые, а словно какие-то морские, глубокие. Валя вскоре вернулась: — Пойдем! Возле какого-то полупогреба с большим амбарным замком стоял пожилой, лет за сорок, солдат с большими прокуренными усами. На плече у него была винтовка, а во рту огромная самокрутка. — Вот тебе фриц, Кирилл Мефодьевич! Прячь его под замок, и чтоб сидел там до утра. — Есть, Валентина Никаноровна, — весело отозвался часовой и полез за ключами. Немца сунули в погреб, и часовой запер замок. — Теперь твой фриц не пропадет, — сказала Валя. — Он Ганс, а не Фриц, — пояснил я. — Бог с ним, кто он, — сказала Валя. — А теперь ко мне. Девчонок я на вечер выставила, а ночевать с тобой мы будем на сеновале. Тут прекрасный сеновал! В уютной, на три койки, квартирке Валя накрыла на стол, даже спирт достала и вдруг спросила: — А ванну принять не хочешь? Я мигом! — А что? Пожалуй! — сказал я. — Как от вас ушел, так и не мылся. — Прекрасно! И я с тобой! — сказала Валя. — Ты? — А что ж тут такого? Я все равно сегодня собиралась. А голенького тебя я сколько раз видела? Не сосчитать! Водопровод, конечно, не работал, и Валя натаскала в ванну воды — горячей и холодной. Налила почти до края. И еще два ведра запасных принесла. — Ну, кто первый? Все стесняешься? Я молчал. — Давай я, — сказала она и быстро скинула сапоги, гимнастерку и юбку и еще что-то и почти нагишом, только в трусиках, нырнула в ванну. Я раздевался медленно, не веря в свое счастье. Долго разматывал чертовы обмотки, укладывал полусырые портянки. Я слышал, что Валя уже полощется в воде, и мне все это казалось каким-то чудом. И этот немецкий дом в Найдорфе, и Валя, которая вся моя, и то, что мы будем сейчас мыться вместе. Я еще никогда не мылся с женщиной, даже с такой близкой, как Валя. Но делать нечего, я окончательно разделся и влез в ванну. — Привет! — сказала Валя, — А ты чуток похудел после нас. А мне безумно хотелось Валю. — Потерпи до ночи! — говорила она. — Ведь скоро уже. Заберемся на сеновал, и вся ночь наша! — Не могу, Валюш! — признался я. Она разрешила. А потом мы ели и пили спирт и чай, разговаривали, разморенные и усталые. И Валя сидела с распущенными мокрыми волосами и была такой прекрасной, как никогда. — Очень плохо нам, девчонкам, на фронте, — говорила она. — Мужики лезут, проходу не дают. Иная и влюбится, выберет одного, а он сегодня жив, а завтра… Я долго собирался, но все же решился: — А как старший лейтенант? Она вроде задумалась. — Нет никакого, — сказала. — Убили? — Почему убили? Просто отставку дала. У нас ничего и не было. Меня уже чуть развезло после трех (или уже пяти?) полстаканов, а Валю, казалось, хмель не брал. — Ну, а к тебе-то пристают? — спросил я. — Не без этого. — И как ты? — Говорю: у меня солдат есть, мне офицеров не надо. Это я про тебя. Хотя знаю: замуж ты меня все равно не возьмешь. — Почему? Откуда ты взяла? — возмутился я. — Стара для тебя. И вообще ты очень чистый, а я баба дрянь… Вот оно что! Язык у меня начал заплетаться. — Почему стара? Три года каких-то! И почему «дрянь»? Что ты наговариваешь на себя? — Нет, я правда очень люблю тебя. И потому говорю правду. Ведь ты у меня второй в жизни. — Второй? — Второй. — А первый кто? — Первого еще в начале сорок второго убили. Я тебе с ним изменяла. Плохо это, знаю, но изменяла. И если бы не убили, может, и сейчас… Она замолчала. И я молчал. Валя крутила в руках полупустой стакан, будто гадала, заглядывая на донышко. — А кто он был? — спросил я. Мне не давал покоя этот, теперь уже не существующий соперник. — О, это был большой и старый человек. — А все-таки? — Генерал… Генерал-полковник… Командующий армией… — Но ты же девочка! — Может, потому и влюбилась, что девочка. Если бы он дожил до конца войны, я знаю, он все равно бы меня бросил. У него семья, дети, наверное уже и внуки, а что я? — Я тебя люблю и никогда не брошу, — почему-то сказал я.
Прежде чем пойти на сеновал, мы расстались на минуту. Валя пошла навестить своих раненых («У меня двое тяжелых. А сегодня четвертый день после операции. Самый трудный»), а я — немца. У погреба стоял уже другой часовой, но он встретил меня как давнего знакомого. Видно, его предупредили. Открыл замок, посветил фонариком. Немец приоткрыл глаза. Он сидел сжавшись возле каких-то коробок. — Не замерзнет он тут у вас? — спросил я. — Да нет, туточки и не холодно совсем, как на дворе. Мы туточки лекарства всякие храним, да продукты. — Смотри, чтоб он тут у вас не объелся. — Да нет, он тихонький вроде. Не шебуршит. Я бы услышал. Валя ждала меня уже возле сеновала. — Как твои тяжелые? — Живы. Бог даст, пронесет. Правда, еще седьмой день бывает трудный. Сеновал был огромный, и запах сена в нем еще не выветрился — вкусно пахло летом. Мы забрались с Валей под самую крышу, и я прижал ее к себе. — Разденемся? — Ага. Мы долго не спали. — Вот таким я тебя люблю, как сейчас, — говорила Валя. — А каким не любишь? — Как там в доме, в ванне. — Почему? — Набросился, как голодный, и даже радости никакой. — А сейчас? — А сейчас — да! — Я тебя никому не отдам! — клялся я. — А утром все равно уйдешь… — Война теперь уже скоро кончится. До Берлина-то пустяки… — Эти пустяки еще столькими смертями обернутся. — Зачем ты о плохом? — Не буду! Не буду!
Утром Валя накормила нас с немцем («Тоже человек!» — сказала), и мы отправились в путь. Когда вышли, снова вспомнил про веревку, можно было попросить Валю, но ничего не поделаешь: пришлось снять ремень и затянуть Гансу за спиной руки. С час шли хорошо, но вдруг Ганс стал останавливаться, кривить лицо, что-то изображать глазами. Я никак не понимал. Прошли с полкилометра, и Ганс совсем остановился. Кажется, я сообразил: — Оправиться захотел? Давай! Давай! Я развязал ему руки, и Ганс тут же стянул штаны, сел. — Скотина! — вырвалось у меня. — Отойти не мог. А еще интеллигент. Правда, об интеллигентности Ганса я мог только догадываться. Ну, студент! Это уже кое-что. У меня семь классов. Неполное среднее. Между тем пленный справил свои дела, подтянул штаны, я связал ему руки, и мы тронулись. Если раньше нам еще попадались какие-то люди, военные, то сейчас наступило полное безлюдье. Стояла тишина, и ни души вокруг. Я смотрел на карту, вроде идем правильно, но до «хозяйства Семенова» все оставалось десять — двенадцать километров. Я уж стал подумывать, хорошо бы мне встретилась любая воинская часть, спихнул бы я этого Ганса под расписку, и дело с концом. Почему, в конце концов, десятый арткорпус? А если он перебазировался куда! Немец осточертел мне. Был бы человек, поговорили о том о сем, а с этим и словом не перемолвишься. Вспомнил еще одно немецкое слово, «кляйн» — «маленький», но про «кляйн» что ему скажешь. Ни к чему сейчас это слово. Стал думать о Вале, и на душе полегчало. Почему только она говорит, что «дрянь баба»? Что стоит за этим? А ведь что-то стоит. Но ничего, скоро все кончится, мы снова встретимся, и тогда… Впереди была небольшая дубовая роща. Я еще подумал — «обойти, не обойти», но дорожка шла через рощу, и мы углублялись в нее. Немец мой шел вроде спокойно, хотя и рыскал изредка глазами по сторонам. Где-то пели невидимые птицы. Солнце упруго пробивалось сквозь голые ветви. На некоторых деревьях уже набухали почки. «Глубокий тыл», — подумал я. — Гут, — улыбчиво сказал немец. Видно, и на него подействовало наступление весны. — Гут, гут, — повторил я. Как-то забылась долгая и, в общем, бессмысленная дорога, и на душе стало хорошо. А когда мы вышли из рощи, я от радости глазам своим не поверил. По шоссе тянулась колонна — газик, за ним пять или шесть подвод. Я подтолкнул вперед Ганса: — Шнель! Бегом! Мы побежали и скоро уже оказались возле шоссе. — Братцы! Кто у вас старшой? — кричал я. — А тебе што? — спросил один из возниц. — Откуда ты сорвался, да еще с фрицем? — Кто старшой у вас? — злясь, повторил я. — Старшой — младший лейтенант, он в машине, — объяснил возница. Я опять подтолкнул Ганса и бегом к машине. — Товарищ младший лейтенант! Товарищ младший лейтенант! Машина остановилась, и из нее вывалился грузный пожилой младший лейтенант. — Чего тебе? — Товарищ младший лейтенант, — начал я. — Пожалуйста, возьмите у меня этого пленного. Понимаете ли… — На кой лях он мне сдался! — не дослушал меня младший лейтенант. — И куда я его повезу? Нет уж, ты веди его куда положено. — Да далеко, — признался я. — Мы уже вторые сутки… — Не знаю, какие сутки у вас, а мы вот вторые сутки свой полк догнать не можем. Будь здоров! — И он полез в кабину. — Поехали! — приказал шоферу. Я с моим Гансом остался ни с чем. — Давай посидим, — сказал я ему и первым присел у дороги. Немец сел тоже. — Если б ты знал, как ты мне опостылел! — в сердцах сказал я. — Гнида ты несчастная, а не человек! Свалился на мою шею! Посидели, помолчали, потом пошли дальше. Километра через три показалось небольшое селение. Деревня не деревня, больше похожа на хутор. Ни наших военных, ни цивильных в селении не было. Я посмотрел на карту — нет такого. И вообще карты здорово врали, особенно когда мы попали в Польшу, а потом в Германию. Дома были целы, но никаких признаков жизни. Тут я то ли загляделся на пустое селение, то ли упустил что-то, но случилось непоправимое. Я и опомниться не успел, как Ганс сбросил с рук ремень, схватил меня за грудки и начал бить головой о столб. Когда я чуть пришел в себя и поднялся, немца уже не было. Я бросился в одну сторону, в другую — нет. Хорошо хоть, автомат мой он не забрал. Я выпустил очередь вправо и влево, наугад, но все было бесполезно. Я почувствовал, как у меня разламывается голова. Тронул затылок — кровь. Я вернулся к месту происшествия, поднял шапку и ремень и, совершенно обессиленный, опустился на землю. Что было делать?
— А может, все-таки сказать, что при попытке к бегству? Валя утешала меня как могла. И голову перевязала. И умыла. И поила спиртом. — Кто поверит? — отвечал я сам же себе. — Болтался с этим немцем двое суток, и вдруг при попытке к бегству? Наступил вечер, и мне предстояло опять остаться ночевать у Вали. Только сегодня, как назло, у нее было ночное дежурство. — Я к тебе буду забегать, — обещала она. Одно к одному. И тут не повезло. Но дежурство у нее оказалось спокойное, и мы, по существу, полночи провели вместе. — Скажи, Валя, почему ты сказала, что «дрянь баба»? — Так и есть, — говорила она. — А все же! — Не надо об этом! — попросила она. — Лучше обними меня покрепче! Потом она убегала на полчаса и вновь возвращалась, а мне все было ее мало.
К двадцатому апреля мы уже прошли Госту, Першен, Дрешниц и Шефенберг. Где-то впереди Шпрее. Дороги забиты техникой и войсками. Много пленных. Они идут в тыл сами во главе с офицерами. История с моим сбежавшим немцем забылась, хотя на первых порах было худо. И издевки, и смешки, и откровенный нагоняй от майора Третьякова. Хорошо, что он как-то пропустил мимо ушей мой доклад о пяти сутках ареста, полученных от маршала Конева. В местечке Грос-Мессау на нас налетели немецкие «мессеры», дали несколько пулеметных очередей, но все обошлось благополучно. Мы остановились в доме немца, у которого было двое русских рабочих: молодая женщина с ребенком из Брянска и средних лет мужчина из Киева. Только они начали рассказывать о своем житье-бытье, как прозвучала команда: — Привести себя в порядок и через двадцать минут строиться. Не забыть взять карабины. Через двадцать минут нас выстроили, и незнакомый подполковник из штаба корпуса начал вручать награды. Получил и я медаль за своего сбежавшего Ганса. — А теперь вперед на Котбус! — закончил подполковник. Про Котбус ходили всякие слухи. Говорили, что там находится штаб-квартира Власова, офицерское и унтер-офицерское училище. Говорили, что немцы оставили город на власовцев. Мы, не успев сменить карабины на автоматы, двинулись к городу. По нему уже била наша артиллерия. Котбус горел. От Грос-Мессау до Котбуса километров десять, которые мы преодолели за полтора часа. Когда мы оказались на улицах города, там шли бои. Наши вытряхивали из развалин и подвалов немцев и власовцев. Власовская форма отличалась от немецкой и внешне, и специальным знаком РОА — Русская освободительная армия. В моем карабине оставался последний патрон, и я только подумал, чтоб перезарядить карабин, когда в предвечерней мгле и вспышках пожара из-за какой-то подворотни на меня выскочил очумелый власовец. Не успел я вскинуть карабин, как он выпустил в меня автоматную очередь. Правую руку обожгло, и я чуть не выронил карабин. А власовец вдруг остановился, тупо посмотрел на меня и, бросив к ногам автомат, поднял руки. — Братец, — пробормотал он, — не стреляй, братец! — Сволочь ты, а не братец, — я нажал спусковой крючок. Он вскинул руки и грохнулся затылком наземь. Я мельком взглянул на него и пошел искать медицину. Индивидуального пакета у меня не оказалось, весь рукав уже был в крови.
Так двадцать первого апреля и кончилась для меня война. Лежал я в знакомом медсанбате, и вокруг меня хлопотала Валя, а медсанбат медленно продвигался вперед, вслед за наступающими частями. Я лежал и вспоминал всех немцев, которых знал живыми и мертвыми. Их было не так уж много за четыре года войны — семь. Но лица их я хорошо помнил. Помнил и упущенного Ганса, на которого у меня уже давно не было злости. Наоборот: «ловкий мужик, перехитрил меня», — думал я. И только физиономии власовца никак не мог вспомнить, хотя была она вроде колоритная. Никак не вспоминалась.
ПРОСТО САША
I
Почему-то все люди ждут весны. Будто с ней наконец придет то, чего ты всю жизнь ждал-ожидал, и она, весна, как лотерейный билет, принесет тебе не рублевый, а самый главный, несбыточный выигрыш. Вот и этот больной: — А там уже весна на улице, да? — спрашивает. — Да, да, — говорит Саша, утешая его, хотя и не совсем понимает, что с ним. Ну, вырезали аппендикс, обычная операция. И какая погода на улице, он не хуже ее знает: больного привезли часа два назад, а она не выходила на улицу с утра. — Скоро и почки лопнут, и птицы запоют… Так говорит она, потому что он — больной и вообще, как ей кажется, симпатичный человек. А сама Саша любит все времена года. И зиму, и весну, и лето, и осень. И, может, дождливую осеннюю погоду — особенно, но не холодную, а теплую. В дождь хорошо думается. Саша поправила одеяло на оперированном и сказала: — Отдыхайте! У вас все хорошо. Отдыхайте. — Спасибо, — сказал он и тронул Сашу за рукав халата. — А звать-то вас как? — Саша, — сказала она. — Александра, значит, а по отчеству? — Да что вы! Так просто, Саша. Она вернулась в ординаторскую, где уже переодевалась Лена Михайлова, и тут у них начался разговор. Начался с врачей и с белья, которое не успевают стирать. А потом… — Ты зачем в медицину пошла, ты понимаешь? — Не знаю, — сказала Саша. Когда на нее наступали, она всегда терялась и не знала, что сказать, — У меня мама… — Мама, папа, это же наивно! Пойми, мы ж — медики, а медики всегда немного циники, Подумаешь, ну почище белье, погрязнее. Разве это — главное? Мне бы твои заботы. Может, ты еще и грозу прошлогоднюю вспомнишь, что наш дом чуть не спалила? Ох, и глупая же ты, Сашка! Прошлогоднего снега ищешь! Не сердись, глупая, хотя и взносы принимаешь!.. Наверное, неумная! Лена беспокоит ее. Двадцать лет всего, а уже такая — ни во что не верит, ничего не слышит, все сама понимает. Может, и понимает. Лена другая, на Сашу непохожая, и жизнь у нее не такая, как у Саши. Но двадцать лет — это не двадцать пять, хотя, по правде сказать, и двадцать пять не кажутся Саше старостью. Наверное, глупая она! Права Лена. Можно, конечно, было ответить Лене Михайловой. И надо было, как Саша поняла уже потом, ночью, обдумывая снова весь этот разговор. Сначала про грозу. Да, гроза была, страшная гроза, но ведь ни у кого в городе она не спалила дома. И у Лены не спалила. Так что тут и говорить нечего. А если бы и спалила, то дом у Михайловых застрахован на любой случай. И на случай грозы — тоже. И все равно они новый дом рядом строят, каменный. Вернее, из шлакоблоков. Но и не в доме вовсе дело, а в грозе. Все лето почти страшная засуха была. Не только что в полях, а на своих малых грядках все завяло. Огурцы пропали, помидоры, морковка с луком — и те чахли. А тут, после этой грозы, погода установилась. Дожди пошли, такие нужные дожди, и жара спала. А про снег… Конечно, ее, Лену Михайлову, этот снег не волнует. А вот Вячеслава Алексеевича он занимает. Когда она еще в начале зимы выскочила на улицу с ведром — санитарки не было, — то столкнулась с хирургом на крыльце. — Ох, Вячеслав Алексеевич! Отдыхаете? — Думаю, думаю! — О чем — не секрет? — Вот снег идет — о жизни думаю. Речку мы, дураки, загрязнили, а снега весной хлынут в нее и станут чистить, промывать… Вот так… А вы что? — Я ничего… — Вы о генах слышали? Да, впрочем, что это я?.. — Вы же сами нам рассказывали! — Знаю, знаю… Бегите, бегите, а то я задержал вас дурацкими разговорами… Саша не спала всю ночь. Не из-за Лены и обидных ее слов, нет. О Мите думала. Ну, и о Лене Михайловой, конечно. И, пожалуй, главное — все же о ней. Лена — замкнутая, как говорят, сама в себе, А Саша — наоборот. Замкнутым, наверное, лучше. Никто ничего не понимает в тебе, и ты кажешься умнее других. А у Саши все на лице и на языке. Только потом она будет учиться, если что-то не так вышло. И только с Митей она стала замкнутой, но он не видит этого, не понимает. Он тоже — сам в себе. Замкнутым хорошо, и все же… И в самом деле, ну почему она, Лена Михайлова, не думает? Должна думать! Вячеслав Алексеевич думает. Многие думают и говорят. И о дожде, и о снеге, и об урожае, и о событиях в мире — обо всем, а не только о работе. Ведь урожай всех касается, и все в мире всех касается! И вот Митя тоже. Странный он… Есть люди странные, как Вячеслав Алексеевич, и это интересно, к ним даже тянет, как к чему-то непонятному, загадочному. А Митя — просто странный, и к нему… Впрочем, что это она о Мите, когда о Лене начала? С Леной она сидела в опустевшей операционной, поспорила, и Лена ушла, обозвав ее глупой. Когда Саша спорит, она будто становится даже выше ростом. Глаза блестят, светлые, с рыжинкой, волосы разлетаются в стороны, и она становится похожей на какую-то очень сердитую птицу. А с ростом у нее, на самом деле, так — серединка на половинку. В Москве, в Третьяковке, или Пушкинском, или даже в просторном Манеже Саша не могла близко разглядеть многие картины. Конечно, на картины смотреть лучше издали, это она и сама знает, но иногда все же хочется подойти поближе, рассмотреть хорошенько лицо Алексея, глаза Незнакомки и мало ли что еще, если это не портрет, а картина наподобие ивановской о Христе. Вот тут-то и не хватает роста. А снизу вверх смотреть плохо. Лучше уж издали. И на танцы она, когда ходила, каблуки повыше подбирала, чтоб от других не отставать. А сейчас это все равно. На танцы они не ходят, Митя не хочет, да и занят он почти каждый вечер. В Москву они вообще ни разу с Митей не ездили. А в кино она ходит одна, Митя сидит в будке, крутит ленту. Вроде он ее и позвал, а вроде и нет. Может, поэтому, а может, не поэтому, но Саша и в кино стала ходить реже. Да, Лена права, глупая. А она еще другого не знает, Про Вячеслава Алексеевича. И то хорошо… Скоро обход. Об этом надо думать. И скоро весна. Должна же она наконец прийти в апреле! Странно, четвертое апреля, а за окном снег. Его мало было в эту зиму, и сейчас зима словно заметала следы своей плохой работы. Весна приходила и отступала. Говорят, что до тридцати — все просто в жизни, если, конечно, не война или что-нибудь такое, особое. А почему же ей, Саше, все так не просто? Ей двадцать пять! Или она старше своих лет? Или ей труднее, чем другим? Но и другим, многим их девочкам, например, не так просто. Из-за Мити? Из-за всего этого сложного, тайного и трудного? Или… Зря, конечно, она поссорилась с Леной. И другие девочки тоже, а она на них так не нападала… А Лена в декрет готовится. А ведь это, наверное, страшно — в декрет, когда тебе двадцать? Непонятно даже вовсе! Вдруг стать матерью и отвечать за маленького! Бог знает, что у нее на душе. Будущая мать! А она, Саша, вместо того, чтобы подсказать ей, она… А еще секретарь комсомольской организации. Ведь и взносы Лена платит вовремя, и санитарка — одна из лучших в больнице, и даже на собраниях выступала, когда других не вытянешь… Нет, не надо было придираться к ней, не надо! У них всего четыре комсомолки в хирургии. Четвертая — сама Саша. Не самая же худшая Лена? Нет, не самая. Правда, она ветреная. Но ей же только двадцать. Молодая? Да. Но в чем-то она, пожалуй, умнее Саши, увереннее, что ли. Может, так и должно быть, бог знает, что человек за год, за пять лет пережить может. И Лена переживает, хотя она и моложе. И сейчас у нее беда, только Лена не понимает этого. А в райкоме говорят: «Подходите внимательно к каждому члену организации, к каждому комсомольцу, вникайте в его заботы, трудности…» Вячеслав Алексеевич, тот все время думает. Это он только на операциях деловой, как машина. Тампон, шприц, кислород, тампон, дыхание, тампон… И на обходе. А Саша видела его на улице — он бродит по городу просто так и думает, Саша замечает его во дворе больницы, когда он стоит, запрокинув голову, и тоже, наверное, думает… Таких врачей у них не было раньше. За пять лет, как Саша окончила медучилище и пришла в больницу. И вот с прошлого года, когда приехал Вячеслав Алексеевич… Надо думать самой. Надо! Сейчас вот о Лене… Вечером после работы она пошла на Интернациональную, где жила Лена Михайлова,II
Городок маленький. А все же — районный центр. Восемь тысяч жителей, летом с приезжими — больше. А так, если район взять, то и совсем немало — тысяч тридцать. Для больницы их — и вовсе много. Больница теперь стала Центральной, и ей подчиняется все, что есть в районе. Пять больниц, двадцать пять фельдшерских пунктов, работа со всем медперсоналом района. Плюс медучилище. Значит, надо возиться и с девчонками-практикантками. И главный врач больницы чудеснейший Акоп Христофорович Оганесян — главный врач района, преподаватель и председатель экзаменационной комиссии в медучилище, да еще депутат. Саша любила свой город. Может, и не то слово в данном случае: «любила». Любовь — это ведь что-то очень сложное и путаное. И Митю она, конечно, любила. Но город свой особенно. Городок и впрямь был ничего. С горки на горку взбегали и падали его улочки и улицы, старинное, кое-как восстановленное после войны, соседствовало с новыми, разными, вплоть до самых модных стеклянно-алюминиевых, постройками, и еще была река внизу, и искусственное море — озеро рядом с плотиной, и зелени — хоть отбавляй, в городе и вокруг, и Москва рядом. Теперь — совсем рядом. Автобус до Москвы ходил дважды в сутки. Саша родилась здесь, когда город был не город, а одни развалины. В сорок пятом году в декабре, когда мама уже демобилизовалась и стала работать в больнице, в их больнице, но, конечно, не в такой, как сейчас, а прежней — на развалинах. И когда папы уже не было — он был в Порт-Артуре, и когда он остался там, не вернулся. Саша знает его только по фотографии. Одна — подполковник, и другая — совсем простой, в кепчонке рядом с мамой еще до войны, и еще раньше — мальчишка. Они приехали сюда как раз перед войной. А теперь и мамы нет, вот уже пять лет нет, но Саша слышит ее голос и помнит ее слова, потому что город их долго был таким, каким он остался после войны, и Саша уже в школу ходила, а развалины и запустение, оставшиеся с войны, были рядом. Город отстраивался, и Саша росла, и школу кончила. У нее не было никого, кроме мамы и отца, который жил, пока жива была мама, жил, как и она в сегодняшнем и вчерашнем вместе с ее словами. Все это вместе взятое и сливалось для Саши в тот один рассказ, которым она жила и который был таким живым, словно она и мама — одно…III
«В деревне, значит, у нас тридцать два дома было. А в семье я — четвертой родилась. У отца с матерью маленькое хозяйство, но вскоре отца забрали на войну. Я родилась в десятом, а в четырнадцатом — война. Жили как жили. В разруху после гражданской у мамы нас двое осталось. Тиф. Коля и я, значит, младшенькая. Когда коммуну в деревне создавали, мы первыми вступили. В двадцать седьмом — двадцать восьмом голод был страшный. Колю кулаки убили, мама еле выжила. Я держалась как-то. Даже в школу ходила, в шестилетку. А потом… Я с детства почему-то к медицине тянулась. Бывало, собираемся девочки, а я у них заводиловкой, и начинаем, значит, в больницу играть. Микстуры из всяких трав наварим, порошки из опилок, таблетки из глины и хлебного мякиша, вот и лечим, значит, своих кукол. Может, оттого, что больных вокруг было много…» Рассказывать Анна Савельевна не умела, да и не очень-то любила. Почему-то вся напрягалась, вспоминая, как, робея и заикаясь, рассказывала свою биографию, вступая в комсомол, потом тоже, хотя и на фронте, уже при вступлении в партию. «…А в тридцать первом году, доченька, курсы медсестер при больнице открылись. Мама и говорит: иди, иди, учиться тебе надо. К чему ж, мол, шестилетку кончала? Пошла, а это пять верст от нашей деревни. Приняли. Днем в колхозе, а как вечер, топаю на занятия, а оттуда опять домой. Так год. Учиться было нелегко. Забыла со школы много, а тут еще латынь. Ничего, кончила через год. Тут как раз и с папой твоим мы встретились. Поженились, значит, как положено. Он младшим политруком был. В тридцать пятом девочка у нас родилась. Умерла. Дали было зарок: больше детей не заводить, да не выдержали потом. А тогда я, значит, уже в районной больнице работала с врачом-окулистом. Тут мама умерла. Дом мы продали и начали солдатское кочевье. Куда папу пошлют, туда, значит, и я за ним. На Дальнем Востоке были, потом в Калуге, Воронеже. В Воронеже я двухгодичную школу медсестер кончила, без отрыва. Работала в городской клинической больнице, в терапии. А потом папу сюда перевели, и я за ним. Да только недолго мы пожили — война. Нас с папой на границу Литвы. Часть была инженерно-саперная. Отступали вместе до самого Валдая. В пути контузило меня в первый раз. А тут нашу санчасть ликвидировали, перевели всех нас в госпиталь. Расстались мы с папой на станции Налимово. Думали, и не встретимся: уж очень тяжелые бои были. Хотя сорок второй год — не сорок первый, а трудно было. Папу я так и не видела, пока нас на Украину не перебросили, а потом уж в излучине Дона мы были вместе, считай, значит, на другом краю войны. В сороковой гвардейской стрелковой дивизии мы, значит, и встретились. В нашем как раз медсанбате, куда он привез своего командира, тяжело раненного. Вот ведь как бывает! Папа уже подполковником был, по новым званиям. Но любил говорить: «Я комиссаром родился, комиссаром и помру…»IV
Пока Саша бежала на Интернациональную, дважды к ней приставали. Сперва — подвыпившие шоферы из автоколонны. С ними оказалось просто. Шоферы — их постоянные пациенты, и кто-то узнал Сашу, сказал: — Так это из больницы, братцы! А ну, сгинь! Здравствуйте! Да вы не бойтесь… Видно, он пытался вспомнить Сашино имя, но не вспомнил, а Саша его помнила и по фамилии и по имени-отчеству: пять недель пролежал. — А я и не боюсь, Степан Антонович, — сказала она. — Как ребро-то? Погода сейчас такая… Степан Антонович сразу протрезвел, и все вокруг него замолкли. — Все в порядке! Рейсы даем. И в честь… — Пьете вы все много, — простодушно сказала Саша. — А потом из-за этого все беды… — Так это сегодня, сестричка! — кажется, Степан Антонович нашел вместо забытого имени нужное слово. — Сегодня у нас выходной… — Я пойду, — сказала Саша. — И вы, Степан Антонович… Хорошо, что не забыли… — Вспомнил, — вдруг обрадовался Степан Антонович. — Как же я забыл! Ведь просто Саша, да? Правильно? — Правильно, — кивнула Саша. — Вот память! Но скажу вам, признаюсь, хороших людей, настоящих она не обходит… На углу Трудового переулка Сашу остановили какие-то юнцы, с лохматыми прическами и походкой Буратино — на шарнирах. Эти были хуже. Схватили за руки, и ей пришлось отбиваться, а потом, взглянув в лицо, бросили: — Старуха! Она убежала, но слово «старуха» обидело. Уже сколько лет она видит эту шпану в городе, и пускай ее мало и она ничего не значит, но ведь и это о чем-то говорит. Значит, плохо мы все вместе что-то делаем… Она уже почти подходила к дому Лены Михайловой, когда ее окликнули: — Это вы? Она обернулась и увидела Вячеслава Алексеевича. В руках у него были какие-то свертки и еще что-то, и все это вываливалось у него из рук; и даже апельсины, прорвав пакет, высыпались, два упали в мокрый снег. — Вот, — Саша подняла апельсины и сунула их Вячеславу Алексеевичу, положила поверх многочисленных свертков и предложила: — Давайте, я помогу вам! — А я ведь тут живу, — сказал Вячеслав Алексеевич. — Снимаю комнатку у хорошей хозяйки. Спасибо! Только как вы… Но Саша уже выхватила из его рук часть покупок и еще раз повторила: — Я помогу вам, Вячеслав Алексеевич. Пойдемте! Я помогу! Он совсем растерялся, не знал, что делать и что сказать, хотя в руках у него остался единственный маленький газетный кулек с конфетами. — Да, да… А Саша уже подошла со свертками и кульками к калитке, тронула ее, спросила: — Сюда, Вячеслав Алексеевич? — Сюда, сюда, — сказал он, — но..» Он открыл калитку, пропустил Сашу вперед. — Но, — произнес он, — вы только не пугайтесь. У меня не прибрано и вообще… — Ну, что вы, — сказала Саша. Они прошли через темные комнаты пустого дома («Хозяйка моя на дежурстве сегодня», — объяснил Вячеслав Алексеевич) и наконец попали в четвертую — крохотную, с раскиданной по стульям одеждой и разбросанными повсюду книгами. Саше очень хотелось осмотреться и даже в заглавия книг заглянуть, но она прошла между этажеркой и кроватью к столу. — Сюда можно положить? — спросила она Вячеслава Алексеевича. Она, конечно, не понимала его состояния, но сама была смущена и не знала, что с ней происходит, почему ей так хорошо и одновременно страшно. — Конечно, — сказал Вячеслав Алексеевич. — Вы уж только не обращайте внимания… Может, вы снимете пальто? Она покорно положила свертки на стол и сняла пальто, а Вячеслав Алексеевич так и остался стоять с кулечком в руке, надо ему положить кулек на стол и снять плащ. Тем более что сама Саша тоже стояла. — Может, вы присядете? — спросил он наконец и, спохватившись, переложил снятое ею пальто в сторону. Саша села на краешек продавленного дивана, пружины внутри его вздрогнули и, чтобы хоть что-то сказать, тихо проговорила: — A y вас уютно, Вячеслав Алексеевич. Вот у нас с Митей… тоже вроде хорошо, но все же у вас… Зачем она — это? Ну чего вспомнила Митю, да еще при Вячеславе Алексеевиче? Саша сама не могла понять себя. Или это для пущей самостоятельности? Или ей хотелось чем-то оправдать себя перед ним? — Это хорошо, я рад за вас, — сказал Вячеслав Алексеевич. — Что вы, спасибо! — опять заносило Сашу. — Вот у вас… И работа, и все! Вы знаете, как к вам относятся у нас в больнице. И… Она лгала ему и себе, а может, и не лгала, потому что у нее дома ничуть не лучше было, но дома она как-то успевала, прибиралась, а здесь он, видимо, всегда один, и что уж тут требовать, когда у человека так сложилось, а складывается все в жизни всегда по-разному. — Пожалуйста, конфеты! Вячеслав Алексеевич высыпал на стол конфеты «Мишка» и «Мишка на Севере» и еще какие-то. — Берите, пожалуйста! Прошу! Саша не взяла. — Спасибо! — сказала она, хотя ей очень… Саша не знала, что сказать еще. Вячеслав Алексеевич продолжал стоять, когда она сидела, и странно поворачивался к ней то лицом, то чуть боком, но вот он сел на диван, передвинув верблюжье одеяло в сторону Саши так, что оно оказалось между ними. — Вот так, — сказал он. — У вас действительно хорошо, — повторила Саша. И опять они замолчали. — Сашенька, включите, пожалуйста, радио, — вдруг попросил Вячеслав Алексеевич. — Там «Спидола» на столе. Он назвал ее Сашенькой, и, кажется, это было впервые, и она почему-то смутилась, вспыхнула и тут же обрадовалась. — А что там? — спросила Саша. — Давайте послушаем насчет референдума. Утром не успел. — Какого? — Во Франции, — объяснил Вячеслав Алексеевич, положив руки на стол. — Не знаю, как вы, а я чего-то пе понимаю. Саше всегда казалось, что заведующий отделением всегда все понимает. А тут опять для нее неожиданное, Вячеслав Алексеевич признает сам, что чего-то не понимает. Саша крутила ручку приемника. — «Маяк» продолжает свои передачи, — сказало радио. — Передаем русские мелодии… — И то хорошо, — сказал Вячеслав Алексеевич. — А что? — Да так… Слишком уж много всякого… В общем-то мне на автобус было пора. Но теперь не поеду. Не хочу! — Это из-за меня? — робко спросила Саша. — Что вы, Са… Что вы! Просто передумал… Вячеслав Алексеевич был смущен, и Саша потому чувствовала себя не очень уютно, она услышала, поняла это недоговоренное «Са…». — Я и спросить вас забыл: вы куда-то направляетесь? — Да, к Лене Михайловой, нашей, знаете? — сказала Саша. — Она здесь, на Интернациональной живет, рядом. Вот я к ней и шла… — Ну бегите, бегите, не буду вас задерживать! — встал Вячеслав Алексеевич. Уже прощаясь, Саша вдруг спросила: — Вячеслав Алексеевич, а вы нам заметку напишете в первомайский номер? А то, знаете, никто не хочет… — Если нужно, напишу, — согласился Вячеслав Алексеевич. — Только вы подумайте, о чем вам нужно, и скажите мне. Хорошо? — Я подумаю, — пообещала Саша. — И скажу. Он проводил Сашу через чужие пустые комнаты на улицу к калитке. И здесь понял окончательно: никуда он не поедет. И все правильно. Когда Саша ушла, он заметил вербу. Первое весеннее дерево уже выбросило свои мохнатые серые шарики и вот теперь ждет только тепла, чтобы первым расцвести этими ласковыми комочками. Они превратятся из серых в желтые раньше, чем появятся подснежники и одуванчики из не прогревшейся еще земли, раньше, чем вскроются почки на осине и ветле, и, может быть, вместе с прилетом скворцов и других заморских птиц. А потом зацветет орешник — тоже раннее дерево, и зазеленеет лиственница, и выплеснется из земли, поднимая сухую прошлогоднюю листву, свежая травка. Тогда и наступит весна. Но не деревья, не цветы и не трава заявят о смене времени года и о том, что пришла наконец она, настоящая весна, а воздух, пахнущий прелью и свежестью, прогретый солнцем и теплом земли. И, конечно, птицы… Птиц еще мало в этом году по запоздалой весне или, точнее, не мало, а просто они боятся, что вновь грянет непрошеный снег и ударят заморозки, и птицы таятся, дожидаются ясного, устойчивого дня — и синицы и зеленушки, и мухоловки, и поползни, и все остальные, что живут здесь и переносят подмосковную зиму, и лишь дятлы, кажется, работают, как ни в чем не бывало. Вот уж — настоящие работяги. И сейчас на соседнем участке слышится дробный стук — это, конечно, он, дятел, стучит по сухому стволу дуба. И во всем этом есть свой определенный, ясный смысл. И, конечно, в том, что именно сюда, в этот город, приехал Вячеслав Алексеевич, тоже есть свой смысл. Мало кто знает об этом, но ведь он родился здесь. Все, что было до немцев, до войны, он не помнит, но потом… Родители, убитые немцами, и дом, спаленный ими, хотя это было без него. Дом, каким он был тогда, не запомнился, а немцы, ворвавшиеся в город и, значит, в их дом и потом спалившие все из огнеметов, запомнились. Запомнились по тому, как это было на Украине. А родители не запомнились, хотя он и пытался не раз вызывать в памяти их лица. Не было их лиц, а были другие — немецкие. И он не раз представлял, как они стреляли в отца и мать и хихикали, кричали… Вячеслав Алексеевич вернулся домой в неуютную комнату и ходил, ходил по ней. Шаг от дивана и назад до двери, три шага к столу и два к этажерке с книгами! Главное, вероятно, он понял, главное, что не надо ехать в Москву, но еще что-то неясное все вертелось в голове. Да, вот что. Хорошо, что никто в этом городе не знает, почему он приехал именно сюда. Милый, добрый их главный Акоп Христофорович Оганесян — не знает, хотя поначалу и допытывался. И никто в больнице, даже Саша, Сашенька, — может, лучшая из всех, кто есть, — не знает. А впрочем, что тут знать! Сколько ему лет тогда было в сорок первом? Восемь. Тогда его увезли на Украину к брату матери. И ничего, кроме самого страшного, не запомнил. Сейчас важно, что он здесь. Вячеслав Алексеевич, взглянув на невыключепную «Спидолу» и сваленные рядом покупки, вернулся к столу. Включил погромче концерт русских мелодий. Еще раз удивился чему-то. Потом достал бутылку «Московской» калужского происхождения и налил полный стакан. «Не надо, — подумал про себя и тут же: — Нет, надо!» И выпил залпом, как это делал не раз после сложной операции.V
Интересно, что апрель еще не апрель, и зима никак не сдается, и лежит снег, а верба уже стала вербой. Саша заметила вербу, как только простилась с Вячеславом Алексеевичем, и представила себе, как желто она зацветет, как потом зацветут другие деревья, и на земле среди сухих листьев, оставшихся с прошлого года, появятся подснежники и одуванчики и зазеленеет трава, а в лужах, йодисто-темных холодных лужах, появятся лягушки, которые начнут играть свои весенние игры, и метать икру, и вяло гоняться друг за дружкой. А пока не было ни цветущей вербы, ни других деревьев, ни цветов, ни лягушачьего кваканья, ни шума всплеснутой воды. Не было теплого солнца и согретой солнцем земли, но что-то весеннее и в воздухе, и в небе, и на земле уже было. Снег медленно таял, и в нем, тающем снеге, было уже что-то весеннее. — Это ты? Лена провела ее в дом. Они долго сидели и говорили. — Лен! Ну, как же это, Лен! Почему же ему-то не скажешь? Не понимаю! Саша удивлялась искренне и пыталась возмущаться, но тут, в этом доме, почему-то ничего не помогало. Она доказывала Лене, что не все люди подлецы… Надо как-то думать о жизни и о том, как устроить ее. Об этом Саша и сама слышала от старших. Ее папа и мама жизнь свою специально никак не устраивали в этом понимании, они просто жили, но сейчас вот все чаще Саше советуют: «Надо устроить жизнь! Пора устроить жизнь!» Иногда вместо «устроить» говорят «наладить», но это одно и то же. — А чего устраивать? Дом новый строим, — сказала Лена. — И построим с мамой. — Не об этом я, Лен! О ребенке. Он же у тебя родится… — А что дом — не важное? Дом и ребенку нужен! Тут Нина Петровна вмешалась. — Ленку вырастила, слава богу, без мужицкой помощи. И Ленке это не надо. А забеременела, пускай родит, выходим. Для нас человек прежде всего, а кланяться ни к кому не пойдем, не надо нам это… Саша опять что-то говорила, но больше спорила с Леной про себя и с мамой ее — про себя. — Ты что сюда пришла? Воспитывать? Меня, что ль? — вдруг спросила Лена. — Что ты, Лен! — Им всем указания дают, в райкоме, воспитывай, воспитывай, — мимоходом сказала мать Лены. — А чтоб жить дать, как люди хотят, этого нет… Саша смутилась. Это было оскорбительно и для нее, и для всех, пусть и врайкоме, где тоже люди, хорошие люди, и зачем же их так обижать, но ведь Лена и мать ее сами только что говорили, что человек — прежде всего. Так почему же в одном случае, когда речь идет о самой Лене, и о ее маме, и о ребенке, который родится у Лены, человек — это человек, а тот солдат, отец ребенка, не человек, и сама Саша сейчас, которую они обижают, не человек, и в райкоме люди — не человеки… — Никто меня не воспитывает, Нина Петровна! — отчетливо сказала Саша. — И я не хочу никого… Она совсем нахохлилась. Раз и еще раз пригладила волосы — как назло, разлетаются в стороны, и Саша опять поправляет их. Серые, маленькие глаза Саши вспыхивают и гаснут, гаснут и вспыхивают. Неужели она, на самом деле, такая глупая? — Тебе хорошо говорить, когда у тебя твой Митя есть, — сказала Лена. — Я бы мечтала о таком… А на улице, кажется, потеплело. И даже через форточку, которую открыла Лена, запахло весной. Прелым чем-то и свежим. И Саша вспомнила вербу, ту самую, что росла у дома Лены Михайловой, и снег, который растает, может быть, позже, чем расцветет эта верба, и о том вспомнила Саша, как зазеленеет трава, и еще о том, что Вячеслав Алексеевич собирался в Москву и почему-то не поехал, и она, Саша, чувствовала себя перед ним виноватой. — Митя твой хороший, — продолжала Лена. — Самостоятельный и опять же при деле. Кино, что ни говори, это — вещь. И будущее у него большое. У кино, конечно. Сейчас в год, говорят, по триста фильмов будет! И все по две-три серии, а то и по четыре! — Ну и что? — сказала Саша. Она еще что-то хотела сказать. Но уж очень хорош был воздух с улицы.VI
Да, у Саши был Митя. И кино теперь стало многосерийным. И, может быть, поэтому Саша не торопилась домой. Раньше Митя освобождался в девять — в половине десятого, а сейчас чаще около двенадцати, и если они не договаривались заранее, что она придет к нему, и если не ходила на его сеанс, то обычно ждала его дома. Саша жила одна, и Мите было удобнее ходить к ней, в ее половину дома (вторую Саша продала после смерти мамы). Он, как правило, оставался до утра, а потом, когда Саша убегала в больницу, уходил досыпать к себе домой. Она привыкла к этому. Медики, они ведь, как говорит Лена, циники и все-то все знают с малолетства, с медучилища, по крайней мере. Но когда им случается полюбить или поверить в любовь, то любовь эта отбрасывает в сторону все — разумное и неразумное. А уж как это было, Саша не помнит. Это уже давно у них. Мама еще была жива, а Митя уже был. Саша приходила к нему. Он приходил к ней. Она ходила к нему в кино. Он задерживался, и она ждала его. Он опять приходил к ней и помогал ей — особенно в продаже половины дома. Он был ее Митя, и она была… Нет, конечно, он только к ней приходил. Она знала это. Никого другого у Мити не было. Это хорошо, конечно. Хорошо, но… Саше трудно было все объяснить. Но вот Вячеслав Алексеевич тоже медик, а никогда не был циником. И с больными, и с врачами, и с медсестрами он не был циником. И если иной больной был обречен, и все знали это, то Вячеслав Алексеевич никогда не говорил об этом вслух, да еще заранее. Саша помнит, как на той утренней пятиминутке, на которой Вячеслав Алексеевич о генах рассказывал, он заговорил о хирургии: — Иные считают, что хирургия — наиболее ясная область медицины. Вскрывай, режь, удаляй — чего уж тут проще! А ведь мы к этому еще и лекари, а значит, в каждом из нас должен сидеть и терапевт, и невропатолог, и уролог, а главное, психолог. Прочитал я тут на днях один роман. Так вот в этом романе у автора как бы идефикс: дескать, сообщи заранее раковому больному, чем он болен, и, глядишь, он и сам пересилит в себе болезнь. Может, и заманчивая идея для исключительно сильных личностей, а особенно для тех, у кого опухоль оказывается незлокачественной. А всерьез — это кощунство. И теория эта — вне медицины настоящей и практики лечебной. Пусть старо это, хочу напомнить вам наше правило: слово врача может вылечить, но оно же может и убить. Слово сильнее хирургического ножа… Эх, опять Саша перескакивает с одного на другое. Была у Вячеслава Алексеевича, думала о Лене Михайловой, была у нее, думала о Мите, а сейчас… Нет, все же Вячеслав Алексеевич… Но Митя, Митя… Да, у Саши был Митя. Как это все сложилось, как получилось, сразу и не скажешь. Можно, конечно, так: полюбила, а потом… И то верно, и другое, но все не так. Можно еще проще: ошибка молодости и никакой любви, а так, одно влечение, но и это… Не так, не так! Но все-таки Митя? Что он для нее, Митя? Если бы Сашу пригласил кто-то и начал задавать официальные вопросы, она бы сказала, что Митя очень хороший человек, и все им довольны, и даже на районной Доске почета висит его фотография, потому что он никогда не отказывается крутить дополнительно сеансы для детей, а если нужно, то и в район выезжает. И еще, и еще, и еще тысячу раз Саша говорила бы добрые слова о Мите, потому что нельзя вслух говорить о человеке плохо. В каждом обычном человеке есть, наверное, что-то и плохое, а не только хорошее, и в ней самой, конечно, тоже, и в Мите… Но что делать, если вроде ничего не происходит, а ты постепенно узнаешь о человеке то непонятное, далекое и противоречащее тебе, чего раньше не видел, не чувствовал, не знал? Пять лет — большой срок, для Саши совсем огромный, и вот все пять лет накапливалось в ней по крупинке «это». Сашу обижало, что Митя не хочет жениться. Она замечала, как Митя боится ребенка, и ей думалось, что именно в этом он становится для нее другим, неприятным. То и не то, но все собиралось вместе, и она много думала об этом, особенно в последний год, когда в больнице появился Вячеслав Алексеевич… Но вот и опять — Вячеслав Алексеевич! И вновь Саша перескакивает с одного на другое. Ни при чем тут Вячеслав Алексеевич. Надо думать о другом, о другом. Ну, вот хотя бы об этих кучках земли, которые подняли кроты, подняли даже на ее маленьком огороде, и о том, что тепло все-таки придет и надо что-то посадить на огороде рядом со своим полудомом. С огурцами она, пожалуй, в этом году возиться не станет. Огурцы и в магазинах появляются, и в палатках, пусть желтые и несимпатичные, но это все равно, а морковь, укроп, лук и салат посадить, наверное, надо. Салат Митя любит, когда она готовит его с уксусом и сахаром и добавляет в него укроп и совсем немного мелко-мелко нарезанного лука. А морковка и в суп, и просто так, для себя. Саша любит выхватить из грядки морковку и похрустеть ею, и иногда это заменяет ей обед, который она не успевает приготовить, или когда вообще не поела — просто, чтобы заморить червячка. Но при чем же здесь Митя? Огурцы, морковь, лук… Лук… Акоп Христофорович Оганесян (Саша не сразу привыкла к этому необычному для нее набору слов) как-то говорил, что во Франции едят луковый суп. Конечно, если бы Митя вдруг захотел жениться на ней и сыграть настоящую свадьбу, то Саша разузнала бы, как готовят этот французский луковый суп и подала бы на стол. Уж тут она бы постаралась. И Оганесяна они обязательно позвали бы. И он бы пришел, обязательно пришел бы, потому что это удивительный человек, как и Вячеслав Алексеевич, впрочем… Акоп Христофорович, Вячеслав Алексеевич, Митя… Да, у Саши был Митя. А он бы, может, и не позвал их на свадьбу, если бы свадьба была. Он ведь про них просто не знает. И про то, что Саша отвечает в больнице за стенгазету, не знает. А скоро опять День печати, и даже в «Правде» наверняка напишут о тех, кто выпускает стенные газеты, Митя знает, как крутить фильмы. Но не всегда даже знает, что за фильмы крутит. А потом приходит к ней — и они ни о чем не говорят, а если Митя… Она уже подошла к дому и открыла дверь в свою половину, когда ее окликнула соседка: — Где же вы так, милая? А тут Митя приходил и ждал, минут пятнадцать ждал, все интересовался, не сказали ли вы мне чего, не предупреждали ли? Наказал к нему зайти, как вернетесь. Он ждет. — Спасибо, — смутилась Саша и добавила: — Большое спасибо! Я сейчас! Вошла в дом, быстро переоделась и выбежала снова на улицу, направляясь к Мите. Зачем, почему? Этого она и сама не понимала. А все-таки шла к нему.VII
В больницу привезли солдата. Он был без сознания, Со слов сопровождающих записали имя, фамилию, номер воинской части. Когда и как случилась беда — никто не спрашивал. Было не до этого. Солдат — «тяжелый». В таких случаях сначала надо спасать, а потом выяснять. У солдата были сломаны ребра, повреждена голень, пяточная кость. К этому плюс — сотрясение мозга и повреждение левого глаза. Младший лейтенант, сопровождающий солдата, суетился во дворе у машины, потом бегал возле носилок, пока солдата несли в коридор хирургического отделения, затем все пытался помогать, когда больного укладывали в коридоре на диван. Места в палате не было, да оно и не нужно было сейчас. Нужна операция и сложная, и одну из сестер срочно послали на дом за хирургом Вячеславом Алексеевичем. Солдат изредка приходил в себя и настойчиво просил о чем-то или звал кого-то, но понять его было трудно. — Ты что, Еремеев? Скажи, что? — вскакивал младший лейтенант, наклоняясь к дивану, на котором лежал солдат. Он умолял и просил Еремеева и не знал, что делать, потому что свалилось на него это несчастье как-то сразу, неожиданно и не рядом с расположением части. Просто он шел по шоссе, и тут эта авария, и Еремеев, лежащий на асфальте возле своей машины с помятым кузовом, а было уже совсем темно. Тогда он остановил крытый грузовик, первый попавшийся, и погрузили солдата в кузов и вот доставили сюда, поскольку медлить было нельзя ни минуты. Младший лейтенант и шофер не очень тихим шепотом обсуждали происшествие, а сестры и нянечки без конца шикали на них, и тогда шофер все время спрашивал: — А сестричка Саша где? Саша? Просто Саша! Светленькая, такая маленькая и чуть рыженькая? Шоферу никто не отвечал, и он виновато возвращался к младшему лейтенанту, объясняя: — Сестричка здесь хорошая есть, я сам у нее лежал, но сейчас, наверно, нет ее, что ли… Поздно ведь. А она такая… Что он там говорит? — Я и не поблагодарил вас, — вспомнил младший лейтенант. — Спасибо, что вы так, а то, знаете… А говорит он, я не пойму что, Зовет кого-то. Бред это, наверное? Страшно? Младший лейтенант относился к шоферу с подчеркнуто вежливым и вообще-то естественным уважением: — Ведь вы могли не остановиться, когда я вас… — Да как же я мог? Шофер был старше младшего лейтенанта не меньше чем в два раза. Он без конца вскакивал и искал по коридорам хирургического отделения какую-то сестрицу Сашу, просто Сашу, как он говорил, и повторял, что она, именно она, спасла его после страшной аварии, в которую он попал по собственной глупости, а она все поняла и именно поэтому спасла. Младшему лейтенанту стало спокойнее, раз тут спасают после чего-то страшного, то и Еремеева должны спасти, а Еремеев его беспокоил сейчас больше всего. Солдат опять что-то забормотал и даже чуть приподнялся на диване и стал просить подбежавшего к нему младшего лейтенанта и пожилую нянечку: — Она тут… Я ж в больнице… Я все знаю, но позовите ее! Сестрица! Товарищ младший лейтенант, позовите! И нянечка, и младший лейтенант наперебой заговорили: — Ложись, миленький! — Еремеев, тебе покой нужен, понимаешь, покой! — А ну, вот так, на подушечку! Потерпи! Потерпи! — Успокойся, Еремеев, успокойся! Давай, как говорят, лежать спокойно. — Ничего, миленький. Наш Вячеслав Алексеевич сейчас придет, он мигом тебя на ноги поднимет. Знаешь, какой он врач! — Слышишь, Еремеев? Сейчас Вячеслав Алексеевич придет! Понимаешь? Солдат чуть успокоился, замолк, и тогда нянечка спросила у младшего лейтенанта, показав на шофера: — Дружки небось? Объяснять было трудно и длинно. — Да, — сказал младший лейтенант. — Ты отсядь пока, — посоветовала нянька, — лучше ему. Пусть подремлет. Младший лейтенант отошел от солдата и вернулся к шоферу, спросив его: — Я и как звать-то вас не знаю. Все так… — Степан Антонович, — сказал шофер. — Да, вот жалко все же, что Саши нет. А ночь уже… По коридору прошли двое, судя по всему, врачи, как поняли младший лейтенант и шофер. Они на ходу дали какие-то указания, а один наклонился над солдатом. Когда солдата переносили с дивана на носилки, младший лейтенант опять услышал, что Еремеев кого-то звал, и Степан Антонович слышал, как один из врачей, более молодой, сказал другому: «Акоп Христофорович, мне бы Неродову вызвать. Операция сложная». И тот, кого звали Акопом Христофоровичем, сказал: «Конечно, конечно!» — и дал кому-то поручение найти срочно Неродову. Степан Антонович, шофер, не выдержал и подошел к врачам: — Простите, у вас тут сестричка есть, Саша, просто Саша. Я знаю… Может, она нужна? Она… Я бы сбегал, если нужно? Один из врачей, молодой, вроде бы удивился: — Так мы о ней и говорили. Сейчас ее найдут, Неродову Сашу. Вы правы. Незаменимая операционная сестра! Мы за ней уже послали.VIII
«…И вот еще, значит, Рогачки. Местечко такое есть на Украине. Городок. Или поселок, скорей. Маленький такой. Летом, видно, зеленый, а тут зима, значит, ноябрь. Сорок второй год. Это еще раньше Сталинграда было. Так вот, эти Рогачки. Там я в медсанбате работала. Там и с папой мы встретились после многих месяцев. Медсанбат как медсанбат. Размещались в палатках: пять столов самодельных — хирургических, из них три перевязочных, два операционных. Работать можно, но плохо, что немец рядом. Повесит немец фонарь над самым медсанбатом, то есть осветит его с самолета, и тут делай, что хочешь. Свет от движка выключим, коптилки зажжем и при них оперируем! Злимся на немца, естественно, мешает он нам, хотя и толку от его освещения для немецких войск никакого. Но что с него, с немца, взять? Гитлер! Перевязочного материала у нас не хватало. Бинты стирали, потом сушили, а уж о белье, значит, не говори. Простыни там, накидки, подстилки и все такое прочее. Только зря я тебе все это рассказываю, ведь не о том начала. Так вот, значит, один раз нам в медсанбат мальчишку привезли. Из партизанского отряда, а лет ему не больше десяти, а может, и меньше. Говорили, что на Украину он случайно попал, а сам — русский, из-под Москвы. Ранение серьезное, крови потерял много. Делали все, что могли. При свете от движка. А потом, когда немцы ударили, при коптилках. Переливание крови нужно было, а у нас, у всех, как назло, первая и вторая группа крови, а у него редкая — третья. Тут вспомнила я, что у папы твоего третья группа. Ну, бросилась его искать, а самого-то главного мы, оказывается, не знали! Часть наша, значит, уже три часа, как в окружении оказалась, и мы со своим медсанбатом тоже в окружении…» Эх, Саша, Саша! И что с тобой происходит? Опять вот маму вспомнила. Почему? Может, потому, что к Мите пошла, а не надо было? Человек должен любить людей. Любить и видеть в них хорошее. Саша, наверное, еще не умеет так, а вот мама умела, и папа, по рассказам мамы, умел. Может, так за пределами медицины можно, конечно, по-разному рассуждать о людях. Эти, дескать, хорошие, эти — похуже, а те еще хуже. Но когда они попадают в больницу или, как раньше у мамы, в медсанбат, санчасть, госпиталь, то они — люди. С плюсами и минусами. С достоинствами и недостатками. Это — все потом. А сейчас — каждого спасать надо. И мама — на войне. А там… И опять Саша слышит мамин голос: «Окружение, значит. А нам не до окружения. Раненые у нас в медсанбате и еще вот этот, мальчишечка. Папа тут прибегает твой, кричит на врачей и на меня, а я ему про мальчишку, про группу крови. Посмотрел он на него и вроде сдался. Кровь, говорит, дам. Сейчас приду, потерпите, дам, значит, команду. А там что выяснилось? Разведчики наши нашли узкий выход из окружения. Конечно, по военным законам надо было немедленно выходить. У нас, в конце концов, сто с лишним раненых, а в окружении многие сотни бойцов и коридор для них готов, чтобы выйти к своим. Вернулся папа. Говорит: давайте берите кровь, но только побыстрее. А я, значит, только потом поняла, что и как было. А тогда взяли мы кровь у него и мальчишечке этому перелили. Спасли. Потом на четырех машинах медсанбат вывезли вместе со всеми и самого тяжелого нашего раненого, которому папа кровь дал. Когда уже у своих оказались, я узнала, что пришлось нашим ради этого сорокаминутный бой держать, чтобы сохранить коридор для выхода из окружения. И не от папы узнала, а от других… А мальчишечка этот выжил и опять на войну пошел. Только не в партизаны уже, а воспитанником танковой бригады. Сначала у нас отошел, потом — госпиталь, а уже после госпиталя в танкисты. Один лейтенант нам рассказывал о нем в сорок третьем году, уже после Сталинграда. Он его видел, и вроде тот и меня вспоминал, и папу твоего, и часть нашу, и еще говорил, что он из наших мест, из городка нашего, что в сорок первом попал к родственникам на Украину, а родителей его немцы тут поубивали…»IX
— Все могу понять, все, — говорил Акоп Христофорович, — но одного только, дорогой Вячеслав Алексеевич, понять не могу. Не первый раз на ваших операциях. И сейчас вот. Сколько? Час сорок? Час сорок смотрел я на ваши руки. Это не операция, а симфония. У вас же руки скрипача тончайшего! Руки художника! Паустовского, Бурденко, Клиберна, не знаю уж кого, но поверьте, вы доставили мне, немолодому медицинскому чинуше, когда-то подававшему надежды в урологии, наслаждение! И это не в первый раз — но сегодня особенно. Ведь парень этот был кончен, признайтесь, кончен, если бы не вы… А вы!.. У обрусевшего очень давно Акопа Христофоровича не хватало горячих армянских эмоций, он потерял их давным-давно на российских землях, и здесь, где он уже тридцать лет, с довоенных еще времен пестует эту больницу, а тут его прорвало: — Ну, как можно было бросить докторскую вам, человеку, у которого не только руки хирурга, но и талант, признанный, зафиксированный, так сказать, официально. Ведь анастомоз по Кириллову, разве это не признание? Я бы…
Вячеслав Алексеевич не знал, что тут нужно говорить. Чтобы увести разговор от неприятного для него предмета и как-то разрядить обстановку, сказал: — С бельем у нас плохо, Акоп Христофорович. Вот и сейчас, даже во время операции. Сами видели… Это подействовало, но только на первых порах: — Слушайте, дорогой мой, а что делать? Триста килограммов белья в сутки на двух прачек. А сейчас одна уходит. Я уже в райисполкоме и в райкоме тысячу раз говорил: «Дайте мне прачечную!» А так? Прямо жалко наших прачек. Зарплата у них та же, что у санитарки, а труд адов. И я понимаю их. Уж лучше в санитарки податься или в уборщицы… Вот так. Но мы это наладим, Вячеслав Алексеевич, непременно наладим! А сейчас я все-таки хочу вернуться к началу. Так как же с докторской? Как вы ее назвали, дай бог памяти? — Да какое это имеет значение? — отговаривался Вячеслав Алексеевич. Он был очень милый человек, Акоп Христофорович. И главное — врач отличный, особенно сейчас, когда их больнице подчинили весь район. Главный врач больницы — это безумная должность, а главный врач района — это просто непостижимо. Своя районная больница, пять больниц в городах и поселках, двадцать пять фельдшерских пунктов — и все под началом Оганесяна, и всюду у него свои хлопоты и заботы, включая то же белье, и на все Акопа Христофоровича хватает. Позавчера Вячеслав Алексеевич был свидетелем того, как Оганесян собирал у себя молодых специалистов — фельдшеров, точнее, фельдшериц, молодых, посланных в колхозы и совхозы, как говорил с ними. К каждой девочке у него был свой подход и тут же решение. То он звонил директору совхоза, чтобы отремонтировали помещение фельдшерского пункта, то просил кого-то пилить двухметровку для печки, то — дать лошадь, то — бланки бюллетеней в печать! Вячеслав Алексеевич поражался, глядя на Оганесяна. Главврачу уже под шестьдесят. Инфаркт был. Да, пожалуй, он сам не смог бы так. — Как — какое значение? — говорил между тем Акоп Христофорович. — Огромное! В медицине у нас масса бездарностей, вот и ваш покорный слуга, в частности. Знаете, когда я кандидатскую защитил? В тридцать седьмом, еще до войны! И успокоился, и закрутился по адмхозлинии, а время, чувствую, обгоняет меня. Медицина и вообще наука идет вперед, и тут нужны таланты, таланты! — Акоп Христофорович передохнул и добавил — Как вы! Так как вы назвали свою докторскую? Я же спрашивал вас… Будьте любезны, дорогой! Вячеславу Алексеевичу не хотелось говорить об этом — он давно решил не думать о том, что было вчера, и разговор этот волей-неволей бередил душу и вызывал малоприятные воспоминания, но он решил не обижать Оганесяна. — Кандидатская у меня называлась: «Новый вид анастомоза при тетрада фалло», — сказал он, — ну и докторская вроде как бы продолжение в этом плане… — Не морочьте голову! — уже совсем спокойно сказал Оганесян. — Я-то знаю, тоже за литературой слежу. А разработка постоянного зонда в сердце — это что? Вы и у нас дважды делали. А ведь этого, дорогой, ни в Европе, ни в Америке пока нет. А вы — «как бы продолжение в этом плане». Это не продолжение, а начало, и анастомоз по Кириллову — начало всех начал… Они вышли на улицу и остановились у ворот больницы. Так и стояли здесь, вдыхая свежий ночной воздух и тишину, опустившуюся на город. Город спал, но не просто так, а как бы в ожидании весны. Морозец затянул растаявший под дневным солнцем снег, покрыл льдом лужицы, сковал грязь. Изредка потрескивали деревья под самым малым дуновением ветра, потрескивали не нутром своим, как зимой, а корой, кожей, которая днем оттаивала и уже готова была принять весну. И если днем обманчивая весна заявляла о себе, то к вечеру и к ночи о ней уже никто не вспоминал. Воздух был морозен и чист по-зимнему, и, наверно, Акоп Христофорович и Вячеслав Алексеевич потому и не спешили сейчас. Такие ночные прогулки у них случались не часто. Операция, верно, прошла неплохо, и, пожалуй, она не была такой уж сложной, как кажется Акопу Христофоровичу, скорее она была хлопотной — у Еремеева сразу несколько переломов, один открытый, а самое страшное — глаз и позвоночник. Быть теперь солдату калекой — это Вячеслав Алексеевич, увы, знал точно. Жаль, что Саши Неродовой не было. Ее не нашли. С ней оперировать куда проще: не приходится отвлекаться на слова, а сегодня приходилось, и много раз, но дежурные сестры делали все, что нужно. — А Неродову так и не нашли, — произнес Акоп Христофорович, словно угадывая его мысли, и Вячеслав Алексеевич почему-то смутился. Он тоже думал о Саше и даже покраснел, хорошо, что темно… — Каждый человек имеет право па личную жизнь, — сказал он неопределенно и, может быть, несколько отвлеченно, потому что относил сейчас это только к Саше, только к ней… — Люблю все это! — вздохнул Акоп Христофорович. — Вот не поверите, как художник, люблю. Только что рисовать не умею. И весну эту запоздалую, и городишко наш маленький, и вообще. Мои армяне удивляются, все в Ереван зовут, а у меня дом-то тут. И город этот, и больница, и все. Вот по ночам сижу, пописываю, как вы подсказали. Помните? Все, как было в нашей районной медицине, как стало, к чему придем. Удивительное это дело — мы, люди. Мотаешься, клянешь порой все на свете, и там у нас плохо, и здесь плохо, и всюду неладно, а сейчас пишу историю медицины нашего района, с чего она начиналась раньше и какой была уже при мне, и поражаюсь. Что мы сделали за эти годы! И гордость, именно гордость тебя за душу берет! Какие там, к черту, прачки и прочие проблемы. Не было этих проблем десять, двадцать лет назад, а уж раньше — и говорить нечего! А то, что сейчас есть, — слава богу! Значит, не зря мы трубили, раз медицинское обслуживание наладили, да такое, что только и решай, где чего не хватает, где что упущено, где какой дурак лошадь фельдшерице дал, чтобы она профилактикой в семи отделениях совхоза занималась… Нет, определенно Вячеслав Алексеевич был влюблен в Оганесяна. И принял его год назад Акоп Христофорович хорошо, тактично, ни о чем не спрашивал. Другой на его месте и принял бы, но где-то мог обронить какую-то фразу, слово наконец, глядишь, и пошла бы по больнице молва, а может, и сразу две. Одна сочувственная — «Как, мол, такого?» и так далее, и другая, ехидная, тихая: «А вы знаете, что Вячеслав Алексеевич был благодарен Оганесяну». Не было и третьего, о чем сегодня опять заговорил Акоп Христофорович: никаких слухов о роли Кириллова в медицине. Никто не знал этой роли, никто ни о чем не спрашивал, а однажды прозвучавший вопрос об анастомозе по Кириллову на общерайонном совещании работников здравоохранения очень не трудно было отвести. Мало ли Кирилловых на свете! И Оганесян, сидевший в президиуме и все знавший, понял и принял ответ Вячеслава Алексеевича, понял как надо, и только у Саши тогда, сидевшей в первом ряду, вдруг потухли вспыхнувшие было, как ему показалось, глаза. А может, это лишь показалось? И не надо так часто вспоминать Сашу и думать о ней. Вот сегодня он особенно ясно понял это. Да, у каждого человека есть право на личную жизнь. И у Саши — оно свое, недоступное ему и далекое, но оно есть, и, наверно, у нее свое счастье, и у нее все хорошо. И так должно быть. Вячеслав Алексеевич вдруг вспомнил, что Саша просила его написать в стенгазету. Даже подсказать что-то обещала, но не успела, да это и не важно. Сегодня же напишет. Не надо ее подводить. И секретарь комсомольской организации она, и просто — не надо подводить. Сейчас он придет домой и напишет. Теперь все встанет на свои места. Вячеслав Алексеевич думал о Саше только в связи с операцией и стенгазетой. Только. Вывод — заметка. Второе, что же второе? Да, Москва. Он не поедет туда. И дело вовсе не в диссертации, о чем говорил Оганесян. Из-за диссертации он и так бы не поехал. Он не поедет в прежний дом, просто сообщит Ирине, что не возражает против развода. И когда он собрался поехать, — это была глупость, конечно, — ему казалось, что он может в чем-то переубедить ее, что-то доказать, но хорошо, что он этого не сделал. Как это ни странно, его остановила Саша, хотя она об этом и не подозревает. Невольно уберегла его от глупого шага. И пусть он был только чуть-чуть не в себе, но ведь он мог сесть в автобус, и хотя, может быть, еще не доехав до дому, понял бы, что делает явную глупость, но было бы уже поздно, и он все равно пришел бы к Ирине, и начался бы у них очередной дурацкий разговор, усмехнулся Вячеслав Алексеевич. Впрочем, он и не очень-то сердится на Ирину. Нет, не надо ни на кого сердиться. Люди есть люди, и их надо воспринимать так — с их плюсами и минусами; и не ее вина, а его, что он когда-то выбрал ее. Тогда по молодости все было иначе, а может, и не в молодости дело, а просто: семья — это куда сложнее, чем просто влюбленность. Ему хотелось детей. Ирине не хотелось. И она была в чем-то разумнее его, потому что думала вроде бы не о себе, а о нем. Ведь это ему надо было закончить институт, потом кандидатскую… Надо было! И дети, конечно, помешали бы. Во всяком случае, не помогли. Все равно он кончал институт, потом защищал диссертацию, и она, Ирина, вроде была права, но он не мог спросить ее о том, что мучило его. Почему она так печется о нем? Словно вся ставка идет только на него. А сама? Средняя школа. Два года лаборанткой, и все. Дом, а дома детей нет. Он не говорил с ней никогда об этом. Не говорил потому, что всегда считал, что человек все сам понимает, а если не понимает, то заставить его, переубедить — невозможно. Ирина раздражала его, сердила, но за все время он сорвался лишь раз. Ирина ничего не поняла в этой идиотской борьбе, которая была затеяна в институте перед защитой докторской, не поняла и того, почему он бросил институт и клинику, бросил диссертацию и решил уехать сюда. Как раз тогда она была очень нужна ему, и ему хотелось верить, что она его поймет, поймет все — несправедливость свершившегося и правильно оценит его шаг: уйти, уехать. Он звал ее с собой. Она не поехала. Он пытался ей все объяснить. Она не хотела понимать. Ей нужна была его докторская куда больше, чем ему самому. Пусть так. Он уехал. Пусть так. Они расстались и, если нужно, разойдутся по закону. Она устроит себе жизнь по своему желанию. А у него есть работа, и это главное, здесь он нужен, здесь он находит удовлетворение в деле, вот даже милого Оганесяна он заставил писать историю больницы, и вообще все хорошо. И не надо делать попыток вернуться к прошлому. Надо написать Ирине… И заметку для Саши. И все…
X
— Мить, а Мить? — Ну, что тебе? — Скажи, ты меня хоть чуточку любишь? — Чего это ты? Давай спать! — Нет, ты скажи, скажи! Для меня это очень важно! — И чего это тебя повело? — Митя уже задремал, и ему не хотелось просыпаться. Но Саша обняла его и настаивала. — Ну, конечно, а как же еще? — произнес он сквозь сон. — Давай и правда спать! Поздно ведь. Пришла бы пораньше… А Саша не успокаивалась, никак не могла успокоиться и все продолжала теребить его вопросами: — А почему ты так? Сначала вроде ласковый со мной, а потом сразу меняешься? — Ничего я не меняюсь… — Нет, ты скажи, скажи! — повторяла Саша. — Вот пришла к тебе, и ты вроде ждал, хотя и отругал меня, и все же я думала, что нужна тебе, и так было… А сейчас? Сейчас ты уже совсем другой, чужой и… И спишь… Саша словно цеплялась за что-то последнее, во что уже сама не верила, но все же цеплялась, и ей казалось, что может случиться чудо и все переменится, стоит только Мите сказать ей самое малое, то, что она ждала уже много лет, или просто спросить ее о чем-то. Или сказать: «Давай в Москву съездим, ты в свою Третьяковку, а я…» Пусть так! Или повернуться к ней липом и положить руку на плечо, и произнести то же: «Давай спать», но по-другому, ласково, и добавить: «Ну, ведь знаешь же, что люблю». Или… Или… Или… Любое «или» Саша восприняла бы сейчас как откровение, окончательно решавшее все. Но Митя лежал к ней спиной и, кажется, спал. — Не морочь голову, — пробормотал он, — давай… Саша замерла, стараясь не шевелиться. Левая рука ее лежала на Митиной щеке. Она и раньше не раз гладила его колючие щеки, но сейчас вдруг подумала, что не побрился к ее приходу, хотя время у него было, ведь он говорил, что долго ждал ее. Раньше он всегда приходил к ней чисто выбритым, и когда она приходила к нему, тоже успевал побриться, а однажды не успел, и она застала его в мыле, недобритым, и обрадовалась, заметив, что он, кажется, смутился. Но это было уже давно, не в прошлом году во всяком случае. Сейчас щека его была небрита, и вообще он давно встречал ее так, словно ничего и не было у них, словно привык к тому, что она есть и все так и должно быть. И рука ее сейчас… Он не чувствовал ее. Саша боялась пошевелить хоть одним пальцем, и ей было неудобно так, но она лежала, не двигаясь, пока рука окончательно не затекла. Она не хотела приходить сегодня сюда. Но пришла и вот осталась. Зачем? «От мамы скрывала про Митю, — думала Саша. — Мама ничего о нем не знала, а мы тогда… Лучше бы все рассказать ей…» Саша убрала руку с Митиной щеки, когда он захрапел. И опять замерла. Не хотелось беспокоить его. Потом еще долго лежала. Уснуть она не могла, все ждала чего-то, и путаница мыслей мешала ей, а мысли крутились, вертелись в голове, перескакивая и сталкиваясь, противореча одна другой, и вновь возникали новые, не связанные с тем, о чем она только что думала. В четвертом часу уже начало светать. Где-то на окраинах города пропели сонливо первые петухи, а потом и машины тронулись из автоколонны в дальние рейсы — за можайским молоком, пороховским кирпичом, калужской водкой, московскими апельсинами и лимонами… Может быть, и в универмаг что-нибудь интересное привезут. Здесь появляются иногда товары, которые и в Москве непросто найти… На улице уже начинали галдеть галки. Они народились в этом году, как положено, но весна спутала карты, и галки страдали не столько от холода, сколько от голода — ни червей тебе, ни гусениц, ни мошек! — тянулись к жилью, к людям, неистово попрошайничая. И люди подкармливали галок, и Саша кормила их и дома, и в больнице, и вот даже тут, у Мити, когда приходила к нему. Саша не любила приходить сюда, потому что в доме было много людей, и все знали ее, и еще потому, что сосед Мити по квартире — районный фининспектор — часто лежал в больнице, не в их хирургии, а в терапии, но это все равно; он ругал медицину и всех врачей, начиная с Акопа Христофоровича, о котором и понятия не имел, а ей было обидно за главного врача, потому что таких врачей и людей на свете не так уж много, а Акоп Христофорович и совсем особенный. Митя повернулся во сне, скинул одеяло, и Саша воспользовалась этим, будто ждала, вынырнула из постели на холодный пол. Прикрыла Митю, подправила ему подушку и начала одеваться. Половицы скрипели, как назло, и Саша вздрагивала, боясь, что разбудит фининспектора в соседней комнате, а тут еще она задела стул и тот загремел. Когда она оделась, было уже совсем светло, и можно было спокойно найти бумагу, которая ей сейчас была нужна. На Митином столе бумаги не было. Она открыла стол — ящик за ящиком, но и там не нашла ни листка. А Саше нужен был сейчас хотя бы клочок бумаги, потому что она все решила и решенное требовало завершения. Наконец она нашла. На окне. Маленький желтый бланк расписания сеансов в кино. Расписание было старое и Мите не нужное. Сейчас Саша уже вовсе не была похожа на запуганного нахохлившегося воробьишку. Ей даже малый рост не мешал. Она взяла карандаш и написала на обороте расписания: «М. Я больше не приду. Не сердись! И ты не приходи! Прошу! Саша». Еще и еще раз прочитав написанное, она оставила бумажку на столе и на цыпочках пошла к вешалке. Накинула платок. Надела пальто. Потом вернулась к столу и порвала записку. «И так поймет, — решила она про себя, — а если не поймет, значит, все равно».XI
К концу апреля потеплело. Зацвели вербы, ольха и орешник, трава и желтые одуванчики появились вдоль ручейков и луж, на сухих полянках и бугорках, прилетели грачи, и только деревья еще стояли раздетые, с готовыми вот-вот раскрыться почками, но пока не спешили, выжидали, боясь ночных заморозков. А по ночам продолжало морозить. После первых дождей снег сходил быстро, и лед на реке уже не виден был под талыми водами, которые бежали со всех пригорков вдоль улиц и тротуаров, а то и пересекая их, вниз, смывая прошлогоднюю грязь, неся в потоке и старую листву, конский навоз и автомобильные масла. Городок ожил, засуетился в весенних хлопотах — уличных и огородных, и крошечный рынок его стал местом паломничества, он расцвел рассадой и саженцами, загудел голосами дальних приезжих продавцов и местных покупателей, запах конским потом и зеленью, бензином и кислым молоком, нафталином отдыхавших всю зиму одежд, и одеколоном, и землей, и старой картошкой. И ко всему этому были еще запахи весны, каждый раз неповторимые в своей новизне. Вот и в этом году особые, ибо тепло, талость и холод соседствовали и перемешивались в них и сливались во что-то одно. Неизвестно почему Вячеслав Алексеевич пошел бродить сейчас по городу. Пошел просто так, хотя собирался поспать после ночных перипетий в больнице, а ночь нынче была напряженной — три операции подряд и потом еще в родильном отделении — кесарево сечение. Но Вячеславу Алексеевичу не спалось, и он вышел в город. В конце концов, на дежурство не скоро, вечером успеет отдохнуть. И не пожалел, что поступил так. Вячеслав Алексеевич потолкался на рынке, съел там с удовольствием пару пирожков с капустой, а потом спустился к реке и долго смотрел на воду. Мерное течение воды успокаивало, вызывало какие-то смутные воспоминания… Одни, говорят, любят смотреть на огонь, ибо он, огонь, вызывает у них толчки мысли и жажду деятельности. Вячеслав Алексеевич где-то читал об этом, кажется, у Горького. Другие смотрят на небо, звездное или солнечное, и оно вызывает у них стремление понять непонятное и познать свое собственное «я», а у третьих это «я», как фотоснимок, проявляется при дождливой дурной погоде, и тихий, спокойный дождь зовет их куда-то. Да мало ли какие тут еще варианты есть. Все это, конечно, то, что называется «чудинкой», то есть тягой к необычному и осуждаемому, может быть, другими, но такие «чудинки» свойственны всем людям, и у Вячеслава Алексеевича такой «чудинкой» была вода. Вода в реке и в море, иногда в малом ручье или даже текущая из-под крана, но именно текущая, а не стоячая. Что-то было в этом с детства, очень далекого, связанного, может быть, вот с этой рекой, но не такой обмелевшей и заросшей, как сейчас, и с украинскими речками вдоль дубрав, куда он попал в войну, и еще с тем, как его спасали после первого ранения; был таз, из которого струйкой текла вода, а потом — кровь, льющаяся так же, струйкой в прозрачную колбу, а из нее ему в руку, и она текла медленно-медленно, как сейчас талые воды текут по льду не вскрывшейся еще реки… О чем это он думал сейчас? Да. Вот, Оганесян, например. Ведь он совсем уже не молод и, как сам признается, поотстал в медицине, но сколько в этом человеке доброй энергии и бескорыстия. Потому он и встретил так Вячеслава Алексеевича, заставил его и здесь заниматься хоть немного наукой, а теперь вот ругает за отказ от докторской. — Я-то лично, как вы понимаете, дорогой, никак не заинтересован в этом, — говорил Акоп Христофорович. — Ну, что? Защитите вы докторскую, и заберут у меня вас, заберут лучшего хирурга, и с чем я останусь? Но мне науку жалко, вас, наконец, жалко! Нельзя так! А мне все равно доживать здесь, крутиться и вот историю для потомков написать, как вы посоветовали, успеть бы. Казалось, люди, работавшие с ним в Москве, в институте и клинике, такие же. Тоже не очень молоды, хотя и моложе Акопа Христофоровича, тоже с кандидатскими довоенных лет, которые утешили и успокоили их на все многие десятилетия вперед, вплоть до пенсии. Они так же, как и он сейчас, резали аппендиксы и делали другие простейшие операции, лечили дедовскими методами старух и стариков, и им никто не мешал. За год они выдавали одну, в лучшем случае две научные работы на весь институт, и Вячеслав Алексеевич поначалу вовсе не посягал на их тихую, обычную для десятков подобных медицинских учреждений, жизнь. Пусть так и будет для них, но себе он не мог позволить этого. Он специально занялся врожденными пороками сердца у детей. Новый вид анастомоза он испытывал именно тогда. И все шло хорошо, и все его поздравляли, пока он не разработал постоянный зонд в сердце. Уже потом, и не без посторонней подсказки, он решил, что это может стать темой докторской. А так он просто занимался делом, и его радовало, что прежние, казалось бы, обреченные больные вставали на ноги, и клиника теперь выдавала уже по пять-шесть научных работ в год. Но вот тут-то все и началось. Сначала исподволь, как бы в порядке туманных намеков и замечаний, а потом и в открытую. И если прежде смертный случай у того или иного врача, да и у него самого, не являлся чем-то чрезвычайным, ибо смерть — всегда есть смерть, то здесь вокруг его порой неудачных операций начали шушукаться. Вот вам, дескать, и новый метод. То ли это была зависть, то ли чувство самосохранения, трудно сказать, особенно когда вокруг тебя одни женщины, и все немолодые, и заведующая клиникой — женщина, обиженная жизнью и судьбой. Кто-то намекал ему, что боятся его докторской именно поэтому. Если он защитит диссертацию, то уж, конечно, станет заведующим. Но, право, Вячеслав Алексеевич никогда не стремился к этому. Более того, он привык с уважением относиться к старшим, вне зависимости от их возраста и достоинства, так же он относился и к заведующей. Но понять ее логику он не мог. И не хотел. На него посыпались анонимки, где говорилось, что кардиохирург в последнее время, помимо всего, начал злоупотреблять спиртными напитками, что кто-то где-то видел раз и два, что и после операции он иногда позволяет себе пить чистый спирт. Вячеслава Алексеевича пытались вызвать на откровенный разговор и в институте, где он должен был защищать диссертацию, и в министерстве, где разводили руками, явно сочувствуя, но он проявил характер. Он отказался от диссертации и попросил направить его на работу в районную больницу, сюда, где он когда-то родился и куда не раз собирался съездить после войны. Новый министр, сам хирург, отлично знавший Кириллова, тоже не смог отговорить его. Здесь, в больнице, ему было просто. Люди были заняты делом и судили друг о друге по делам, и не было ни зависти, ни подсиживаний, и к Вячеславу Алексеевичу относились как ко всем, может быть, лишь с чуть большим вниманием, раз он приехал из Москвы. Да и то это было на первых порах. И самое главное — был Оганесян. Тон, конечно, задавал Акоп Христофорович, которого почитали главным не по должности, а по существу, а что касается его должности, то знали и видели: больше, чем он, никто не работает, больше, чем ему, никому не достается. Вячеслав Алексеевич обычно трудно сходился с людьми. Мешала застенчивость, а может быть, и настороженность, появившаяся с годами, когда, увы, приходилось в ком-то разочаровываться. Но с Оганесяном он мог бы сойтись. Мешало другое. Оганесян, конечно, знал причины отъезда Вячеслава Алексеевича из Москвы. А если и не знал поначалу, то узнал потом: он часто бывал в Москве по делам и вряд ли там — в облздравотделе или министерстве не заходила речь о Кириллове. Там могли говорить всякое, Вячеслав Алексеевич прекрасно понимал это. И в этой ситуации пойти на откровенность с Акопом Христофоровичем — волей-неволей значило жаловаться, оправдываться, доказывать свою правоту и неправоту других, чего Вячеслав Алексеевич терпеть не мог ни в себе, ни в других местных «борцах за справедливость», которые практически боролись всегда не за справедливость вообще, а за свою справедливость, то есть за себя. Вячеслав Алексеевич не хитрил перед Оганесяном. Не говорил, что отложил защиту, поняв, что в диссертации мало практического материала, что приехал сюда, мол, как раз для того, чтобы еще и еще все проверить на опытетипичного массового лечебного учреждения. Он говорил проще: «Куда спешить? Успеется!» и что-то еще в этом духе. И Оганесян не стремился вызвать его на откровенность, хотя мог бы сказать: «Не морочьте мне голову, дорогой! Если б не было там у вас в клинике этой дурацкой склоки, вы прекрасно защитили бы докторскую, и не делали из себя наивного скромника, и не говорили: «успеется»! Но Оганесян не говорил так. И спасибо ему. Но, что греха таить, думал Вячеслав Алексеевич и о другом. И сейчас, стоя на берегу весенней речки, думал и раньше не раз после приезда сюда. Он всегда гнал мысль об одиночестве, но в последние годы это одиночество все больше давало знать о себе. Он собирался в Москву, чтобы еще раз поговорить с Ириной, которую в глубине души жалел… И вот тогда этот вечер. Саша Неродова, лучшая из сестер и вообще умница, чудо-человек — у него дома… Сашу он приметил с первых дней работы в больнице, и ему показалось, что в этой девочке есть что-то особое, притягательное, а позже он увидел ее на операции и понял, что вовсе она не девочка, а опытнейший медик, какими не часто бывают врачи и чаще, но тоже не всегда, сестры. Но самое удивительное, это было Сашино лицо. Вячеславу Алексеевичу казалось, что он знал его, знал давно, и не только лицо, а и весь облик, манеры, разговор, что это было знакомо издавна. Логика подсказывала: это не так. Саша молода, совсем еще молода. Она росла и училась здесь, где он не был после войны, а до войны Саши не было на свете. Но сколько раз он думал, что видел ее, видел! И вот, когда она пришла к нему случайно и, сама того не подозревая, помогла принять правильное решение — не ехать в Москву, он окончательно понял: она близка ему и знакома давно, и он много раз думал о ней, вспоминал, звал ее по ночам, делился с ней дурным и хорошим и сейчас мог бы. Оганесяну не мог бы, а ей мог бы рассказать обо всем, что наболело, и, он уверен, она поняла бы и не стала бы жалеть и сочувствовать, а просто сказала, что все это правильно. Она, Саша, ведь очень умная девочка, не похожая на других в больнице, хотя здесь вроде и нет плохих людей. Сквозь пасмурную дымку робко выступило и засветило солнце. На отмелях запели птицы, и вода в реке, кажется, потекла быстрее, и громче зажурчали ручьи, а лягушки, освещенные солнцем, лениво шевелясь, уходили под воду. И уже не торчали из воды их головы и страшно выпученные глаза. Вячеслав Алексеевич встал с березы, поваленной прошлогодней грозой, и стал подниматься вверх, к рынку. Ручьи гремели возле его ног, и все они неслись оттуда сверху, от города и от рынка. Поднявшись наверх, Вячеслав Алексеевич не мог отказать себе в удовольствии еще раз пройтись по рыночным рядам. Он прислушивался к голосам. И верно, тут царил интернационализм — грузины, украинцы, белорусы, русские, молдаване, даже узбеки, продающие прошлогодний свежий виноград. Марксов закон стоимости… Спрос вызывал предложения. Предложения диктовали цену. Накладные расходы заезжих продавцов взвинчивали цены и вызывали порой скандалы. Огурцы из Цхинвали стоили в два раза дороже можайских, хотя и те и другие выращивались в парниках. Апельсины, купленные в Москве, продавались по двойной цене, пока не выяснилось, что рядом с рынком в магазине и на лотках продаются такие же апельсины из Москвы. Шампиньоны все обходили, поскольку никто из местных жителей не считал их грибами, зато сушеные грибы шли бойко. Грибы привозные. Странно. А сколько этих грибов здесь — только суши! Он уже собирался уходить с завернутыми в бумагу пирожками в руке, чтобы дома ничего не придумывать и в столовую не ходить, как ему показалось, что кто-то очень знакомый прошел с тремя саженцами мимо него, и он невольно спрятал за спину пирожки и посмотрел вслед уходящему. Неужели это Акоп Христофорович! Но к чему ему саженцы? У него ни сада нет, ни огорода, ни дома своего! Подумав об Оганесяне, Вячеслав Алексеевич вернулся на рынок, прошел к москательной лавке, возле которой торговали саженцами, торопливо съел пирожки, а потом долго выбирал березки. «Посажу у нашей хирургии, там как раз есть где, — думал он. — За чудака посчитают? Ну и пусть». Он с гордостью нес эти три березки через весь город. С гордостью и с немалым смущением, потому что знал: не все благие порывы понимаются правильно.XII
В последние дни Саша почти не отходила от Еремеева. Даже после дежурства. И в майские праздники. На ночь трижды оставалась. И днем забегала в послеоперационную чаще, чем обычно. И не оттого, что Еремеев был плох. Он поправлялся, но вот моральный фактор… С этой точки зрения у Еремеева все шло как нельзя хуже. Это знали все, в том числе и врачи, и офицеры из части, где служил Еремеев. Саша понимала: чем чаще приезжают к нему его товарищи по службе, тем хуже для него. Солдат, что бы ни говорили ему, знает, что уже не будет солдатом. Еремеев замкнулся. Но почему? Потому что, став калекой, он не вернется в родную часть? Может, так, но лишь чуть-чуть так. О какой уж тут армейской службе можно думать, когда ты чудом в живых остался? Значит, не это. Значит, он понимает, что будет там. А там — это отец с матерью в Калининской области. Он просил ничего не сообщать им о случившемся, чтобы не приезжали, хотя это и рядом совсем. И там же, там — за пределами бывшей службы, и в преддверии всего нового, что его теперь ждет и не ждет — она, Лена… Лена каждый день приходит в отделение, но к Еремееву и не заглянет. Когда была очередь ее ночного дежурства, специально подменилась, чтобы не заходить в послеоперационную. Стыдно, ужасно, глупо, возмутительно! Так думает Саша, но Саша думает, а Лена… Саша говорила с Леной, трижды говорила. — И не пойду, не думай! Что ты хочешь, чтобы я его травмировала? Это было в первый раз. Саша думала о Лене и еще больше о матери ее, Нине Петровне, и вспоминала свою маму. Пусть Лена смеется: «Мама, папа, это же наивно». Пусть будет наивно! — Ты что, Сашка, дурочка? Человек пострадал, понимаешь, пострадал? А тут я со своим ребенком. Это — во второй раз. В третий раз все было куда непонятнее. — Он же калекой на всю жизнь останется! Думаешь, я не знаю? Так что — мне в сиделки к нему? Ребенок и тут же калека на содержании! Нет, уж изволь! Уж лучше ребенок! С ним жизнь не потеряю! Саша ничего не сказала Лене, но стала все чаще и чаще ходить к Еремееву. Со слов нянечек Саша знала, что на первых порах солдат все время вспоминал Лену, звал ее, но сейчас, при ней, он ни разу не вспоминал ее. И вообще молчал. Единственным поводом для разговора у них стало окно. Поначалу Сашу пугало это окно. У Еремеева теперь один глаз, другой закрыт тугой повязкой, и больной не привык еще к этому, и, может, не надо его бередить. Но Еремеев, молчавший долгое время, сам спросил Сашу: — А там, за окном, что сейчас? Что там, за окном? Сейчас, сегодня, сию минуту? Борьба весны с зимой была за окном. Прогревался воздух, голубело небо, дотаивал снег, ударила первая апрельская гроза, перед которой дико кричали и суетились галки, молодые, глупые, еще не испытавшие в своей жизни ни одной грозы. Синицы и поползни заглядывали в окно, и где-то совсем рядом, на сухом дереве, как на пишущей машинке, долбил дятел, а по утрам, когда плохо спалось, совсем не близко, в парке, наверно, или скорей в сохранившемся за рекой лесу куковала кукушка и лаяли собаки на окраинах, чутко прислушиваясь к ленивому кукареканью полусонных петухов. В мае, уже после праздников, когда совсем потеплело, лопнули почки и бледная, еле заметная зелень появилась на деревьях. — Хорошо, когда у человека глаз есть, на все — свой, — говорил, помолчав, Еремеев. — Я не о своем, о другом. Вот вы все замечаете, видите и рассказать можете. А я и при двух глазах мимо всего проходил. Потом как-то спросил: — А как вы думаете: вот художники, писатели, как они все это видят? Ну, вот, как вы, в окно? И как это объяснить можно? Что, человек родится таким или ему специально надо учиться? Он никак не называл Сашу, хотя знал ее имя. — Вы учились? — спрашивал Еремеев. Саша пожимала плечами: — Как все… — А этому, чтоб понимать все и видеть? Как художница, что ли? Саша смущалась. Она ничему не училась. Она просто бывала в Москве — в Третьяковке, в музее Пушкина, на выставках. Это очень интересно, и Еремееву надо обязательно… Она удивлялась, что Еремеев никогда нигде не был, рассказывала ему, как могла, про любимых художников, про картины, которые помнила и знала наизусть… — Я в Мавзолее и то не был, — признался ей Еремеев, — и на могиле Неизвестного солдата, и картины мне хочется посмотреть… Саше чем-то нравился этот Еремеев. Саша никак не могла отделаться от мысли, что с Леной его трудно сравнивать, хотя они сами нашли друг друга, и что-то было у них общее, хотя Лена теперь не хочет знать Еремеева… Нет, Еремеев просто интересный как человек, а Лена как человек… Саша не знала, что думать сейчас о Лене и как судить, потому что здраво она судить никак не могла, хотя и пыталась понять Лену и жалела ее… Еремеева Саша тоже жалела. Вообще, говорят, все сестры очень жалостливы, не то что врачи. Кто это говорил? Оганесян, конечно. Акоп Христофорович, когда они кончили училище. Он тогда смешно говорил об этом, и все они, девчонки, смеялись, но Саше это запомнилось. — Вот вы теперь так называемый средний медперсонал. Не бойтесь этого слова «средний» — оно хорошее. Есть младший медперсонал, и это куда труднее, почетнее и, увы, денег меньше. Мы без вас — ничто. Вы, средние, без младших ничто. Это понятно. Но есть одно, о чем хочу предупредить вас заранее, по многолетнему опыту своему. Медички, особенно сестрички, очень часто влюбляются. Жалостливы они, что хорошо само по себе, но и слишком доверчивы, что уже, простите… Опыта мало, дорогие мои, не медицинского, а жизненного. И вот по секрету вам скажу; пятый выпуск сегодня наш в училище, а вспомню предыдущие: беда! Каждая вторая моя выпускница нормальной жизни себе не устроила. Будьте жалостливы к больным, внимательны, чутки, но по части доверчивости… Прошу ухо держать востро, а нос морковкой. Мы, дескать, тоже не лыком шиты, женщины! А у женщин, как бы сказал поэт, собственная гордость. Ведь это вы нас, мужиков, породили! Может, Саша к Еремееву слишком жалостлива? А Лена? Саша увидела Еремеева только здесь. А Лена? Лена Михайлова тоже медичка, и для нее Еремеев не просто больной, а теперь вроде и не больной никакой, раз она не заходит к нему. И у Саши получалось, что и с Леной сравнивать Еремеева трудно. Надо с кем-то другим, и лучше всего с мужчинами… Она вспомнила Митю. Митя был умнее Еремеева. Наверно. Интеллигентнее? Тут Саша задумывалась. Как-то так повелось, что интеллигентов определяют сейчас по образованию. А по Сашиному разумению, ни Митя, ни она сама не были интеллигентами. Ну, какой она, к примеру, интеллигент в сравнении с Вячеславом Алексеевичем? И хотя Саша никогда никому не говорила об этом, и, может быть, тут нет никакого открытия особого, но она считала, что интеллигентность — это что-то чуть ли не врожденное, передающееся через эти самые гены, о которых рассказывал Вячеслав Алексеевич, из рода в род, из поколения в поколение. Митя считал себя интеллигентом. Так он говорил ей как-то. Саша не знала его родителей и вообще ничего не знала о нем, потому что он не рассказывал. Но теперь? С того дня, как она ушла от него, он глупо ее преследовал и грозил, а Первого мая пришел к ней домой пьяный и такого наговорил, о чем даже вспоминать стыдно. А солдат Еремеев? Интеллигент он или нет? Может, и нет, но он молчит, не спрашивает о Лене, хотя наверняка думает о ней. Значит, есть в нем что-то такое, чего нет в других, чего нет, может, и в самой Саше, — что она считает интеллигентным. Он не киномеханик, не врач, не поэт, не художник, но в чем-то он такой же, как Вячеслав Алексеевич. — Саша! Еремеев впервые назвал ее по имени. Саша, кажется, даже растерялась. — Сашенька, вы слышите меня? — полушепотом спросил Еремеев и взял ее за руку. А она почему-то вспомнила другие руки, которые так часто видела на операциях, при перевязках. На обходах странно было бы специально смотреть на руки Вячеслава Алексеевича, а в операционной и в перевязочной — там не было его, а были его руки, удивительные, живые, тонкие, все понимающие и чувствующие. И тут уже не руки были при нем, а он при этих руках, потому что руки выражали его, как это бывает у самых лучших художников. Саша спохватилась, сказала, как и он, тихо, чтобы не слышали соседи по палате: — Конечно, говорите! — Вы не обижаетесь, что я вас так называю? — спросил он. — У меня сестренка младшая, тоже Саша, так я все стеснялся и думал, ну, как бы не испугать ее, что ли, когда вот такой одноглазый да и не очень здоровый вернусь… Саша утешала его, утешали соседи по палате, но Еремеев перебил их: — Я об окне, Саша. Что там за окном появилось? Видите, деревце? За окном, а вернее, под окном, ночью появилась березка. И рядом еще две. Странно. Вчера вечером березок не было. — Березки? — удивленно сказала Саша. Вспомнила, у главного корпуса поликлиники такие же березки посадил Оганесян. Может, и это его работа? Саша рассказала Еремееву, какой хороший человек их главный врач. Про березки у главного корпуса рассказала. Пояснила: — Я комсорг. Понимаете ли, комсорг? А мне и никому из нас даже в голову не пришло такое. А наш Акоп Христофорович каждый год по деревцу, по два-три сажает. Так, сам по себе. И это, конечно, он. Или сам, или поручил кому. Березки, которые были видны из окна, еще только приживались. Тонкие, без листьев, с сухими, не набухшими еще почками, они и так были удивительны стройностью и белизной своей и какой-то необычной, почти по-человечески душевной открытостью. Одна веточка, самая тонкая, прикасалась к стеклу, чуть выше подоконника, и за ней, как показалось Саше, мелькнуло чье-то лицо. Теперь Еремеев сжал ее руку так больно, что хрустнули пальцы, и Саша стерпела. — Сашенька, — прошептал он. — Что? — Вы хорошая… Вы даже не знаете, какая вы… Хотите, я вам что-то скажу? Можно? — Можно, — ответила Саша, радуясь тому, что Еремеев становится совсем другим. — Хотите, чтобы я вас полюбил? — сказал Еремеев. — Так полюбил, что все вам будут завидовать? Я могу, поверьте, могу… Саша съежилась, потом вдруг погладила руку Еремеева. — Я знаю, — сказала она. — Я знаю, что вы ее любите… Ее! А меня не надо… Саша продолжала говорить с Еремеевым, а сама, все поглядывала туда, в окно, и опять на минуту или секунду заметила лицо, узнала Лену, а возможно, ей это и почудилось, и Саша отвела взгляд от окна… Еремеев огорчился, взял свою руку из ее рук, и тогда Саша привстала с его койки, наклонилась над ним так, чтобы не видели соседи, и осторожно поцеловала его в небритую щеку. — Не надо! Хорошо? — шепнула она. Солдат что-то пробурчал, будто извиняясь, но как раз в эту минуту открылась дверь, и в палату вошла Лена Михайлова. В руках у нее был букетик подснежников — белых и лиловых с маленькой веточкой нерас-пустившейся черемухи. Она подошла к Саше и Еремееву, который растерялся, ничего не понимая, и Саша сказала: — Молодец, что пришла. И встала с кровати Еремеева, уступая место Лене. — Я подменю тебя, — сказала Лена. И больше ничего.XIII
В мае, а особенно к концу его, страшные ураганные ветры обрушились на Подмосковье. Таких здесь еще не было, а может быть, о них просто забыли, а на памяти у всех были недавние зимние сообщения о песчаных и пыльных бурях на Кубани, Северном Кавказе и в Поволжье, уничтоживших озимые, и о других необычных затеях природы, которые все чаще и чаще поражали людей. В маленьком городке люди укрепляли антенны, крепче привязывали только что посаженные яблони и вишни, к ночи укрывали чем попало огородные грядки и цветочные клумбы. А ветры продолжали буянить, завывая в трубах и звеня стеклами, врываясь на чердаки и в плохо прикрытые двери, ломая сухие ветки и слабую молодую листву, взметая пыль и песок. В такую погоду люди рано забирались домой и почему-то раньше обычного выключали телевизоры и гасили свет, и уже к одиннадцати часам городок замирал, и только природа оставалась вокруг со всеми своими неповторимыми голосами и звуками. Выл ветер, и наперекор ему, словно ни с чем на свете не считаясь, пели ночные птицы, и даже в самые грозные порывы ветра нетрудно было различить голос соловья. Странно было слышать его и чувствовать, особенно если представить себе маленькую, легкую, стеснительную птицу именно сейчас, в этом ветровороте, где и как она скрывается и прячется, но соловей пел — упрямо и ласково, то чуть стихая, то вновь выдавая замысловатые коленца, и, казалось, ничто ему не мешало и не могло помешать. Трещали и содрогались деревья, хлопали калитки, и по асфальту летело что-то металлическое, гулко гремящее и звенящее, а лягушки все продолжали начатые две недели назад свои дикие концерты, и еще к ним, кажется, добавились утиные голоса, редкие ныне в этих краях, но частые именно на их реке, которую утки почему-то приметили еще с прошлого года, когда закончилось строительство плотины и образовалось искусственное море. И этой весной утки во второй раз прилетели сюда, в затопленные овраги и выемки, еще не успевшие порасти камышом и осокой, но сохранившие в воде земную зелень — деревца, кустарники и всплывшие на поверхность мхи. И сейчас утки крякали, то ли разбуженные лягушками, то ли вторя им, и кряканье, мало отличимое от лягушачьей истошной музыки, нетрудно было все же разобрать даже в этом ночном ветреном хаосе. Вячеслав Алексеевич плохо спал по ночам. Видимо, это началось у него с войны, с детства. Тогда сутки не делились на части — утро, день, вечер, ночь, и уж, во всяком случае, понятие режима, которое он потом так долго изучал в медицинском (а позже и советы давал по этой части и до сих пор дает) было другим. Сутки делились на боевые операции и передвижения, которые тоже всегда были частью операции, и хотя он был мальчишкой и его все старшие опекали, как маленького, но и тогда, как и теперь, он не мог поступать иначе. Нельзя спать, если подрывники пошли на «железку». Нельзя спать, если немецкая «рама» кружит над лесом, и неизвестно, что еще будет за этим. Нельзя спать, если готовится новая боевая операция и есть надежда, что тебя подключат к ней. Засыпали, когда просто валились с ног. Да, конечно, это с тех пор. С тех пор как родители отправили его на Украину, в Рогачки — первое его большое путешествие в жизни. Как привез его туда отец и уехал, он не помнит, и родственников, к которым приехал, не помнит, хотя ему было тогда восемь или девять лет, возраст, в котором все запоминается на всю жизнь, но тут, видимо, было другое — война, захлестнувшая все прежнее! И немцы, вошедшие в город без боя, и лес, куда он убежал и где заблудился, и потом — партизаны, это уже все, как вчера. И главное, может быть, опять Рогачки. Ноябрь сорок второго. Его везли из леса в Рогачки и умоляли: «Не спи! Не спи! Ради бога, не спи!» А он тогда смертельно хотел спать. До сих пор он отчетливо помнит это состояние. Только сейчас он хочет спать и не может, а тогда он проваливался в сон, но его тормошили, будили, трясли: «Нельзя!» Нельзя было спать. И он помнит: именно сон подвел его, когда он чуть задремал в засаде. Немцы стреляли из крупных минометов, и, если бы он не задремал на секунду, он отошел бы назад, в село, как все, но он замешкался, и немцы накрыли его. И вот, когда и так, без него, было плохо, его везли в медсанбат и уговаривали: «Не спи! Не спи!» И только в медсанбате ему разрешили спать. Разрешила женщина в халате, молодая и очень красивая, с небольшими серыми глазами, которые то вспыхивали, то гасли, а то замирали, и в них очень трудно было смотреть. Она спасла его тогда, и ее муж, давший незнакомому мальчишке свою кровь и задержавший выход наших из окружения на время операции, и еще хирург Савва Борисович, погибший при выходе. А ее звали Анна Савельевна. И сколько бы лет ни прошло с тех пор, он помнил ее как первого человека, который разрешил ему тогда спать… Когда не спалось теперь, Вячеслав Алексеевич относился к этому спокойно, поскольку это касалось только его. Он не употреблял снотворных и находил даже некоторое удовольствие в ночных бессонницах. В глубине души он не соглашался с тем, кто доказывал, что шесть-семь часов сна — минимум для каждого человека. И в этот вечер, насквозь продуваемый ураганным ветром, Вячеслав Алексеевич не спал. Сначала слушал радио. Потом сделал в блокноте несколько заметок, которые пригодятся Акопу Христофоровичу. Наконец долго стоял у окна, слушая ветер и певшего где-то поблизости соловья, дальних лягушек и уток. Часы показывали только одиннадцать, и тут у Вячеслава Алексеевича вдруг появилось желание выйти на улицу и, может быть, даже зайти в больницу, пока еще не слишком поздно. Чего ж он тянет? Надо или идти, или не идти. Нет, конечно, идти. Обязательно. Сейчас. Постучали, но он не расслышал, и тогда стук повторился — сначала в окно, возле которого он стоял, потом в дверь. Идиот! Какой же он идиот! Ну, что он тянул? Решил и надо было сразу же идти в больницу. Был бы уже там. А теперь кто-то пришел, и весь план рушится. Вячеслав Алексеевич толкнул дверь, она открылась с трудом под напором ветра, и поначалу, услышав слово «можно?», он не понял, кто это. — Можно? — повторила Саша и добавила: — Это очень плохо, что я так поздно пришла к вам? Она подчеркнула именно это «к вам», но Вячеслав Алексеевич настолько был растерян, что не понимал ни этого и ничего другого. Он бормотал что-то и размахивал руками, и когда совладал с собой, то Саша уже собиралась уходить. Он бросился за ней, к двери, повторяя: — Подождите же, подождите! Вы меня не поняли. Я… Саша… Я… Он ненавидел себя. Саша остановилась. — А у Лены с Еремеевым все хорошо, — неожиданно сказала она. — Вам ведь это интересно, правда? — Правда, — согласился Вячеслав Алексеевич, — интересно, очень даже. — И они даже решили, как назвать своего ребенка, вместе решили, — продолжала Саша. — Отлично, это отлично, — произнес Вячеслав Алексеевич. — Как же? Он молол явную чушь сейчас и прекрасно понимал это, и понимал, что если так продолжится еще минуту, то все рухнет, а поэтому надо переломить себя, побороть идиотскую глупость и просто стать самим собой. — Смешно, но они решили назвать его Сашей, — пояснила Саша. — Мальчик это будет или девочка. А вообще они сказали… Вячеслав Алексеевич, кажется, взял себя в руки. Сейчас он скажет Саше все. Скажет, что если бы она не пришла к нему, то он все равно пошел бы в больницу и уже собрался идти туда, и тогда Саша все поймет, и кончится наконец это неясное, по крайней мере, для него, если она даже ответит ему, что это глупо, потому что у нее есть человек, которого она любит, она говорила в прошлый раз: «Вот у нас с Митей…» Скажет сама, и тогда он не будет ломать себе голову и мучиться… — Сашенька! — сказал он. — А… Они так и стояли у двери, хотя ему, конечно, следовало пригласить Сашу к себе и предложить ей хотя бы сесть. — Я слушаю, слушаю вас, Вячеслав Алексеевич, — сказала Саша. — Маму вашу Анной Савельевной звали, да? — спросил он. Саша не удивилась. Подтвердила: — Да, Анной Савельевной. — Я так и знал, — обрадовался Вячеслав Алексеевич. — Я знал ее. Это она спасла меня в войну… Саша задумалась, поправила волосы. — Не уходите» прошу вас, — попросил он. — А почему вы не спрашиваете меня, Вячеслав Алексеевич, ни о чем другом? — в голосе Саши не было ни упрека, ни сожаления. Даже совсем не свойственная ей лихость чувствовалась в ее словах. — Почему я пришла к вам? О Лене Михайловой рассказать? Да я… Простите меня, если… Я ветра этого боюсь и еще… Не могу без вас… Не любить вас я все равно не могу…ДВА ИЗМЕРЕНИЯ, ИЛИ ВАРИАЦИИ НА МЕДИЦИНСКИЕ ТЕМЫ
После сорока Виктору Петровичу не везло. Одолели болячки. Он зачастил в больницы. То ли война сказалась, то ли несуразный образ жизни. Полиартрит. Тромбофлебит. Хронический гастрит. К этому он уже как-то привык. Но вот к приступам панкреатита — со страшными опоясывающими болями, когда хоть на стенку лезь, рвотой, полным отсутствием аппетита — привыкнуть было невозможно. Причем они начинались, как правило, в самые неподходящие моменты жизни. То в командировке, то во время лекций. Его отвозили на «скорой» в больницу. Там «подкармливали» с помощью уколов и капельницы и отпускали с неизменным советом: — Строжайшая диета! И ни рюмки в рот! Пить он давно не пил — «на фронте норму перевыполнил», — отшучивался на предложения друзей и знакомых, — а вот с диетой было труднее. Какая диета у заядлого холостяка! В каких только больницах не перебывал за последние годы — и в городских, и в сельских, и в районных… Сейчас его привезли в больницу столичную, знаменитую. На сей раз приступ оказался не самым тяжелым, и он был даже доволен, что попал к светилам медицины не на носилках, а на своих двоих. Правда, с этой больницей у него были связаны грустные воспоминания. Сюда, в радиологический корпус, он возил на облучение дочь свою Нину. Прошло пять лет, как ее похоронили. Его положили в отдельную палату — бокс, и все началось, как прежде, с уколов и капельницы: витамин, кровь, плазма, глюкоза, кальций. — Вас надо подкрепить, — говорила заведующая хирургическим отделением Вера Ивановна, на вид совсем еще молодая женщина, хотя, как он узнал позже, ей было уже за пятьдесят. Она нравилась ему своей спокойной, без суеты, деловитостью. Начальственное не выпирало из нее. Лицо, круглое, с заметными паутинками морщин, всегда было ровно приветливо. Только когда она измеряла давление, слушала пульс или пальпировала живот, оно становилось несколько отрешенным. Словно говорило: «Мне сейчас не до вас». — Исследоваться будем чуть позже, — вторила лечащий врач Людмила Аркадьевна, которая являла полную противоположность Вере Ивановне. Она была массивна и неуклюжа, с глубоко спрятанными глазами и тонкими, длинными, чуть нервными, как у пианистки, пальцами. И одевалась Людмила Аркадьевна несколько небрежно. Она выглядела старше Веры Ивановны, хотя на самом деле была моложе. Ей не исполнилось еще и пятидесяти. В общем, лечащие дамы ему нравились. Труженицы. Каждый день операции, да еще дежурства не только в больнице, но и в «скорой помощи». За первую неделю Виктора Петровича посмотрели также терапевт, уролог, невропатолог, эндокринолог, стоматолог и отоларинголог. Тут у него все было в относительном порядке. Капельницу ему чаще других сестер ставила Маша — самая милая, как показалось Виктору Петровичу, сестра в отделении. У Маши чуть продолговатое лицо и серые, глубокие глаза. Волосы расчесаны на пробор, и, когда она улыбается, на щеках и подбородке появляются лукавые ямочки. Голос у Маши, как у пионервожатых, с приятной хрипотцой. Работала Маша просто артистически. Моментально находила вену, хотя его прыгающие и скользящие вены всегда искали с трудом, брала кровь на биохимический анализ и без устали хвалила Виктора Петровича за терпение и мужество. А лежать под капельницей иногда приходилось и по пять, и по семь часов. Виктор Петрович быстро сдружился с Машей. Знал, что живет она в подмосковном поселке Пушкино с двумя мальчишками школьных лет и старой мамой, что лет ей тридцать восемь и что любит она больше всего на свете серьезную музыку, часто бывает в консерватории и Зале Чайковского, вот только возвращаться поздно вечером неудобно, а то бывала бы чаще. Про мужа он тактично не спрашивал, и так было ясно, что его у Маши нет. По просьбе Маши Виктор Петрович часто рассказывал ей про войну, как дошел от Москвы до Берлина и Праги, и про нынешнюю свою работу — преподавателя ПТУ, очень интересную. — Ребята пошли цельные, самобытные, — увлекался он. — Не то что раньше в ремесленных. И конкурсы у нас сейчас дай бог, не меньше, чем в университете! Все шло неплохо, и Виктор Петрович начал потихоньку прибавлять в весе — то двести граммов за неделю, то триста. С работы приходили не только сослуживцы, но и учащиеся. Он потихонечку натаскивал их, консультировал. А по вечерам садился за учебник для ПТУ, над которым трудился последние два года. Училище его было с художественным уклоном, и Виктор Петрович писал учебник по чеканке, резьбе по дереву и другим видам прикладного искусства. В Москве стояло лето. Окна в палате весь день держали открытыми. И Виктор Петрович позволял себе курить: и под капельницей, и вечерами, когда сидел над учебником. Врачи и сестры смотрели на это спокойно, а Вера Ивановна частенько забегала к нему то за спичкой, то за сигаретой. Она сама курила. В середине августа капельницу убрали. Кровь у Виктора Петровича пришла в норму, хватало и белка, и кальция. — Завтра рентген! — на утреннем обходе предупредила Людмила Аркадьевна. Его подготовили как положено, и он спустился с третьего на второй этаж к рентгеновскому кабинету. Когда шел, заметил, что в их отделении появился новый хирург — относительно молодой, лощеный, с бледными голубыми глазами и тонкими пальцами рук. В рентгеновском кабинете Виктор Петрович пил барий, а потом его долго крутили перед экраном. Снимки проявили тотчас же. И снова его почему-то позвали к аппарату. Врач-рентгенолог пригласил Веру Ивановну и Людмилу Аркадьевну. С ними пришел и новый хирург, которого, как выяснилось, звали Василием Васильевичем. Легкие и сердце, как понял Виктор Петрович, их не интересовали, а уцепились они за что-то в желудке. Смотрели долго в восемь глаз. Иногда тихо о чем-то говорили или начинали спорить, употребляя латинские слова, которых он не знал. Потом его отпустили, а сами остались с мокрыми снимками. Виктор Петрович быстро позавтракал в пустой столовой и вернулся к себе в палату. Время было раннее — около одиннадцати. Он подошел к окну. С улицы бился в прохладу больницы душный, перегретый воздух, шелестя листьями лип и кленов. В тени, на газоне под окном, вяло разлеглось целое стадо разномастных собак. Им было жарко. В воздухе парило. Небо затянулось белесой знойной дымкой. Сквозь нее расплывчато покачивалось солнце. Где-то шумели машины и гремел трамвай, а здесь, перед окнами, было сонно и тихо. Изредка покаркивали сытые вороны, да воробьи со взъерошенными перьями изредка купались в пыли. Прополз автопогрузчик со связкой кислородных баллонов, спугнул воробьев. Но через минуту птицы снова опустились на дорогу. «Пожалуй, надо немного поработать», — решил Виктор Петрович и разложил на столе рукопись. По привычке зажег настольную лампу, хотя было светло, но делал он всегда так больше для уюта. Сказывалась привычка работать по ночам. Только закурил, как в палату забежала Маша. Постояла над Виктором Петровичем, спросила: — Как вы себя чувствуете? Он не придал значения ее вопросу, бодро ответил: — Прекрасно, Машенька, прекрасно! — Ну, не буду вам мешать, — Маша выскользнула в полуоткрытую дверь. Потом приходили Вера Ивановна и Людмила Аркадьевна, долго мяли и щупали его живот. — Рентген придется повторить, — сказала Вера Ивановна. — Повторить так повторить, — согласился он. Правда, кто-то говорил ему прежде, что часто рентген делать не следует, но он не верил в это. В конце концов, рентгенологи живут, как все люди, а если и умирают, то не обязательно от рака. Пример тому — его бывшая жена, врач-рентгенолог. И хотя Виктор Петрович не знает, что она делает теперь в Англии, но то, что жива-здорова, ему известно. Недавно в Англию ездила профсоюзная делегация, в составе которой был их председатель месткома. Виктор Петрович шутя попросил его: «Узнай, жива ли там моя изменница?» И что бы вы думали, узнал: жива, процветает. Через три дня его снова повели на рентген, но уже в другой корпус, девятый. С ним пошла Людмила Аркадьевна. Там его щупала какая-то профессорша, очень решительная и, как показалось Виктору Петровичу, грубая. Во всяком случае, когда он вышел и стоял, поджидая Людмилу Аркадьевну, слышал, как за дверью профессорша кричала на нее. Когда Людмила Аркадьевна появилась, лицо ее пылало красными пятнами. На следующий день он глотал гастроскоп. Ужасная процедура! А еще через день дверь в его палату распахнулась и на пороге в сопровождении Веры Ивановны и Людмилы Аркадьевны он, к полному удивлению своему, увидел плотного, на крепких коротких ногах, как всегда оживленного профессора Сергея Тимофеевича Западова. — Вот, братец, и свиделись, — сказал Западов. «Брюшко появилось», — отметил Виктор Петрович. А лицо у Западова было прежнее — широкое, открытое, с загадочным прищуром небольших карих глаз. Они светились, как у младенца.Жизнь у Виктора Петровича после возвращения из армии в сорок шестом — он еще год служил в Центральной группе войск в Австрии и Венгрии — пошла наперекосяк. Он быстро женился на студентке последнего курса медицинского института. Все это было слишком скоропалительно — это он потом понял, — и через год жена родила ему Нину — очаровательную, но чуть болезненную, как многие дети послевоенной поры, девчушку. Нина долго болела диспепсией, и врачи не раз приговаривали ее к худшему, но к трем годам вдруг выровнялась, начала хорошо говорить, и через полгода ее уже приняли, правда, с трудом, в детский сад. Жена, увлеченная работой, почти не занималась дочерью, и он тянул тройную лямку: работа, ученье и дочь. Ее надо было отвести в детский сад утром, вечером привести домой плюс делать необходимые покупки. Все свалилось на него. В пятидесятом году, а может, это началось уже раньше, жена увлеклась английским офицером, который находился в Москве по делам ленд-лиза[29]. Они разошлись, и жена Виктора Петровича уехала со своим новым благоверным в Лондон. Они не ссорились, не ругались. Она складывала вещи в два чемодана, а он стоял рядом, и ему казалось, что делает она это очень неумело, не так. Будто торопится обрубить концы. Впрочем, ее в самом деле на улице ждала машина. Был ли там ее англичанин, Виктор Петрович не знал. Но машину военного образца, «лендровер», английскую, с дипломатическим номером, он видел. — Тебе не помочь? — наконец не вытерпел он. — Нет, что ты! — воскликнула она. — Прощай! Он почему-то запомнил день, в который она уезжала. Был суровый мороз, под тридцать, город обледенел и замер, словно в ожидании опасности. — Прощай! Он больше не женился — зарекся! — и один воспитывал Нину. Дочь кончила школу, потом картографический факультет и даже успела побывать в одной экспедиции. Совершенно невзначай, когда она проходила очередную диспансеризацию, у нее обнаружили опухоль в легком. Перепроверили в институте Герцена, подтвердилось самое страшное. Вызвали Виктора Петровича, и он волей-неволей оказался в заговоре с медициной. Правдами-неправдами старался он скрыть диагноз от дочери и уж ни в коем случае не класть ее ни в какие онкологические клиники. Боялся, что профиль этих учреждений раскроет тайну. Пользуясь тем, что сын заместителя министра здравоохранения когда-то учился в его ПТУ, он попал на прием к замминистра. Тот понял Виктора Петровича и пообещал: — Я свяжу вас с профессором Сергеем Тимофеевичем Западовым. Он заведует отделением в научно-исследовательском институте. Отделение фактически онкологическое, хотя больным оно известно под другим названием. И связал. Виктор Петрович положил Нину к Западову. Тот сделал операцию, удалил правое легкое, и поначалу засветилась надежда. Когда Нину выписывали на месяц-другой домой, Виктор Петрович возил ее на облучение. Но через восемь месяцев положение ухудшилось: метастаз в левом легком. И тут уж ничего не помогло, ни химиотерапия, ни болгарские кудесники, ни народные средства. Через три месяца Нины не стало. Ей было только двадцать шесть… С Сергеем Тимофеевичем Западовым они продолжали дружить и видеться и после смерти Нины. Даже ездили раза три на охоту и раз пять на рыбалку. Были под Завидовом, на Брянщине и Рязанщине. Но в последние два года встречи стали реже. Виктор Петрович зачастил в больницы, и ему было уже не до охоты или рыбалки.
И вот Сергей Тимофеевич перед ним. — Мы вас оставим вдвоем, — предложила Вера Ивановна. — Пожалуйста, — согласился Западов. Спросил: — Вам курить тут разрешают? — Вроде разрешают, — сказал Виктор Петрович. Сергей Тимофеевич достал пачку «Новости». — А вы свою любимую «Приму»? Они закурили. — Что ж, братец, — сказал Западов, — дела наши сложные. Не хочу скрывать, обманывать вас, что в желудке вашем полипы и все такое прочее. И вы знаете почему. Скажу прямо, у вас опухоль, значительная, и удалять ее надо немедленно. Удалю вам примерно две трети желудка, но это не беда. Желудок растягивается и со временем придет в норму. Будет все хорошо, и даже выпивать разрешу. Как вы на это смотрите? Ошеломленный Виктор Петрович молчал. — Так как? Вы же человек мужественный и стойкий. Я вас знаю таким. — Если надо, так надо, — ответил наконец, преодолев спазматическую сухость в горле, Виктор Петрович. — Вы же сами говорите, что выхода нет… — Выхода действительно нет. Согласие на операцию будете подписывать, — спросил Западов, — или договоримся устно? — Все равно. Надо так надо. А когда? — Лучше всего во вторник. Сегодня у нас четверг. Во вторник мне легче вырваться. Договорились? — Конечно. — Какие пожелания? Виктор Петрович задумался. — Мне надо бы на работу съездить и домой. За квартиру заплатить и все такое прочее, соседку предупредить, — неуверенно сказал он. — Это ради бога. Хоть завтра и до понедельника. Разрешаю даже выпить в понедельник, но не перебарщивая. — Я не пью, — признался Виктор Петрович. — А когда-то на рыбалке и на охоте вроде мы себе позволяли. — Панкреатит отучил, — объяснил Виктор Петрович. — Тогда другое дело. Но в понедельник быть в больнице к завтраку, не позже. Виктор Петрович согласно кивнул головой. — И еще одно, — вспомнил Сергей Тимофеевич. — Мы с вами заядлые курильщики. Не вздумайте после операции бросать курить. Начнется отхаркивание, могут разойтись швы. Виктор Петрович удивленно посмотрел на Сергея Тимофеевича: — А я и не собирался! На улице начиналась гроза. Небо почернело. Поднялся ветер, который трепал листву и гнал по асфальту пыль и песок. Где-то далеко громыхало, а в небе над больницей вспыхивала молния. Больные, сидевшие на лавочках и гулявшие по дорожкам, заторопились в свои корпуса. В огромных, возведенных из бетонных панелей и блоков корпусах начали закрывать окна. Гроза долго ходила вокруг больницы, и только к вечеру грянул ливень с крупным градом. Газоны и дороги покрылись белым горохом. И всю ночь гремел гром — словно лопались гигантские воздушные шары, — стеной лил дождь. К утру все успокоилось. Утром Виктор Петрович поехал на работу, заплатил партвзносы за два месяца, положил документы в сейф. Рукопись привез домой. Хотел воспользоваться двумя пустыми днями, поработать, но ничего не получилось. Пошел погулять, заодно заплатил вперед за квартиру, забрел в кино. Посмотрел «Солдаты свободы» — давно собирался. Переночевал, а в субботу не вытерпел, вернулся в больницу. В отделении как раз дежурил Василий Васильевич. Как всегда, отутюженный, отглаженный, с сухим, ничего не выражающим лицом. Он принял как должное его преждевременное возвращение, присел на койку, разговорился. Сначала говорили о чем-то постороннем, о тех же «Солдатах свободы», потом Василий Васильевич как бы невзначай поинтересовался: — Как вам здешние врачи? — По-моему, хорошие врачи, — ответил Виктор Петрович. — Знающие, внимательные. — Да, да, — неопределенно пробурчал Василий Васильевич. Его бесцветные глаза совсем поблекли. Он помолчал, потом произнес: — Вы тут, как я знаю, второй месяц. А не странно ли, что эти замечательные врачи не удосужились даже сделать вам просвечивание? Виктор Петрович настороженно смутился: — Ну, не знаю… — Признаюсь, порядка тут мало, — Василий Васильевич встал с края кровати. — Я бы на вашем месте написал куда следует… Виктор Петрович был ошарашен больше, чем после разговора с Западовым. — Если вам хочется — пишите, — сказал он довольно резко. — А я… — Ну зачем же так?! — воскликнул Василий Васильевич. — Я же в ваших интересах, в интересах больных… Так, на полуслове, он вышел из палаты.
Случилось так, что в понедельник Виктор Петрович около часа проговорил с Верой Ивановной. Но говорили не о предстоящей операции, а совсем о другом. У каждой кровати в отделении были наушники. Утром Виктор Петрович услышал странную передачу местного радио. В ней извещалось, что, согласно приказу, больным категорически запрещается курить. Родственникам также категорически запрещается передавать больным табачные изделия. Нарушившие приказ будут немедленно выписаны из больницы. Все это, дескать, делается в развитие приказа министра здравоохранения. — Как это понимать? — спросил Виктор Петрович. — Это еще не все, — горько усмехнулась Вера Ивановна. — В приказе говорится, что категорически запрещается курить и персоналу больницы. А те врачи, кто нарушит распоряжение, будут рассматриваться чуть ли не как аморальные люди… — Бред какой-то! — произнес Виктор Петрович. — К слову, приказ министра действительно есть, — объяснила Вера Ивановна. — Вполне разумный приказ. В нем говорится о необходимости усилить борьбу с курением, повысить разъяснительную работу среди больных, медперсонала и прочее. Все правильно! А вот наш Апенченко… — А кто такой этот Апенченко? —поинтересовался Виктор Петрович. — Наш новый главный врач. Весьма решительный молодой человек. Начал с того, что устроил проходную в больнице, поставил шлагбаум, повесил кирпич, учредил пропуска для персонала больницы. Потом уволил всех пенсионеров, включая опытнейших профессоров и прекрасных специалистов. Теперь вот курение! Что-то будет дальше? — А сколько у вас больных в больнице? — спросил Виктор Петрович. — Три тысячи. — А персонала? — Тоже три тысячи. — Не много ли? — удивился Виктор Петрович. — Нет, не много. В Японии, в Соединенных Штатах больше. А порядка все равно нет, — призналась Вера Ивановна. — Мы тратим на исследования больного двадцать — двадцать пять дней, когда можно четыре-пять. — Вот бы чем заниматься вашему Апенченко, — думая о своем, сказал Виктор Петрович. И добавил — И как же вы теперь курите? — В рукав, — улыбнулась Вера Ивановна.

Они поговорили еще о чем-то, и наконец Виктор Петрович решился спросить: — А как вам Василий Васильевич? — Что ж, по-моему, знающий врач. И руки у него хорошие. Сделал уже несколько операций. Чисто! Виктор Петрович подошел к окну, облокотился на подоконник. Во дворе было много гуляющих в застиранных пижамах и халатах. Они сидели и ходили группками, обмениваясь больничными новостями. Ласково и лениво ветер трепал листву кленов, лип и дубов. Ярко зеленели трава и кустарник. Цветников и клумб в больнице не было, но среди травы белели редкие ромашки и лютики. Воздух пах липой и свежей травой.
Вечером Виктору Петровичу не дали ужина. Анестезиолог Римма Федоровна принесла таблетку: — Выпейте на ночь. Будете лучше спать. Он действительно уснул быстро и ни разу не вскакивал ночью покурить, как было прежде, а утром, когда проснулся, у кровати его уже стояла каталка. Спросонья он не сразу понял, что к чему, механически перебрался на каталку, и его повезли в операционную. Около операционной стояла Маша. Она молча улыбнулась своей доброй улыбкой, чуть махнула рукой. В операционной уже были Западов, Вера Ивановна, Людмила Аркадьевна, Римма Федоровна — все в марлевых повязках и в перчатках. Его переложили на стол под огромный серебристый колпак, Римма Федоровна сделала укол в руку. И он стал куда-то проваливаться. — Могу ли я начинать операцию? Спит больной? — спросил Сергей Тимофеевич. — Спит. Последовали команды операционной сестре: — Скальпель! — Микуличи! — Ножницы! — Бильроты! — Тупфер! И вдруг у Сергея Тимофеевича вырвалось: — Боже мой! Смотрите! Все со спины заглянули в разрезанную полость живота. Раздались возгласы удивления. Западов справился с волнением, продолжал: — Тампон! — Отсос! — Метровые салфетки! — Дренаж! Но Виктор Петрович всего этого не слышал.
В ординаторской шел спор. Вера Ивановна доказывала Василию Васильевичу: — Поймите, нельзя делать первичный анастомоз. Я же вам рассказала. Восемнадцатилетний мальчик. Гангрена сигмы. Мы наложили анастомоз бок в бок, а швы поползли. — Надо было лучше шить, — не соглашался Василий Васильевич. — Не в этом дело, поверьте. Все равно пришлось идти на вторичную операцию, а потом три месяца выхаживали. Две операции — не шутка. — Так вы считаете, что и на фоне активного кровотечения можно делать операцию? — спросил Василий Васильевич. — А что? — воскликнула Людмила Аркадьевна. — Помнишь, Вера, больную с профузным желудочным кровотечением? Оперировали на фоне кровотечения. Обнаружили язву на дальней стенке желудка. Прободение в селезенку. Язва проела селезеночную артерию. Еще думали тогда, не рак ли. Наложили на ножку селезенки зажим, остановили кровотечение. Потом удалили селезенку и язву. Спасли. Иначе бы… — Кровотечение кровотечению рознь, конечно. Не забыли голландца? — вспомнила Вера Ивановна и, уже обратившись к Василию Васильевичу, объяснила: — Попал к нам голландский пивовар с кровотечением. Кстати, друг их посла в Москве. Нам жена посла и привезла его. Огромный толстяк. Кровь хлещет, а как пробраться через толщу жира и мяса, неизвестно. А резать вроде надо. Мы его на рентген. Язва в луковице. Стали готовить к операции, а тут кровотечение вдруг прекратилось. Это мы уж потом сообразили. Наелся бария, он и прикрыл язву, вот кровотечение и остановилось. А жена посла не отходит. У нас, говорит, самолет есть, в Амстердам, а там американский хирург-профессор. Я рискнула. Забирайте, говорю, больного. Только С условием. Как долетит, вы мне сообщите. Вечером позвонила: долетел, благополучно прооперирован. Я, конечно, весь день сама не своя была. Но иногда приходится рисковать. — Я бы его не отпустил, — сказал Василий Васильевич. — И вообще… — Ну ладно, — перебила Вера Ивановна. — Вернемся к своим баранам. Что будем делать, Василий Васильевич? Вы настаиваете на гастроскопии? — Настаиваю! — А выдержит ли больной? — Не знаю, но… — У него же дикие боли, — напомнила Вера Ивановна. — Так как? — Я бы оперировала немедленно, — сказала Людмила Аркадьевна. — И я, — согласилась Римма Федоровна. — Нельзя тянуть. Больной может ночь не выдержать. — Смотрите, — махнул рукой Василий Васильевич. — я… Случай действительно был тяжелый. Больного привезли вчера. Молодой. Были в лесу. Собирали грибы, жарили, ели. Начались адовы боли в животе. Рентген показал странное образование в нижней половине легких. При чем тут легкое? И рвоты у больного нет. Значит, не отравление. Вместо легкого спунктировали желудок. — Готовьте к операции, — Вера Ивановна встала. — И немедленно. Я сама прооперирую. Василий Васильевич пожал плечами: — Я предупредил… Через полчаса больной был на операционном столе. Наркоз. — Скальпель! Вскрыв полость живота, Вера Ивановна не поверила глазам своим. Желудок влез не только в плевральную полость, а прямо в плевру. Там была какая-то дырка. Ранение. Вера Ивановна вытащила желудок, поставила на место. Нашла дырку, зашила диафрагму. — Дренаж! Когда дренаж был наложен, пошли грибы, куски пищи. Операция длилась около двух часов. Изможденные вернулись в ординаторскую. — Ну как? — поинтересовался Василий Васильевич. — Все в порядке, — сказала Вера Ивановна. Разговаривать не было сил. Через час, когда оперированный проснулся после наркоза, Вера Ивановна узнала, что месяц назад у больного было ножевое ранение. Но рана зажила быстро… — Да, ничего себе зажила, — улыбнулась Вера Ивановна.
Может, Виктор Петрович просыпался не раз, но окончательно пришел в себя лишь на третьи сутки. Сообразил, лежит в послеоперационной палате. Рядом Маша. Глаза усталые. Под глазами мешки и складки. — Вы? Она кивнула. Поправила подушку, одеяло. У него все болело. И лежит, кажется, в крови. Но под одеялом не видно. — Закурить бы, — вспомнил он совет Западова. Маша выбежала из палаты, скоро вернулась с сигаретой, мундштуком и спичками. Сама зажгла спичку. Он закашлялся. — Осторожнее! — прошептала Маша. Курить вроде не хотелось, и он отложил сигарету. — Какое сегодня число? Маша назвала. — Значит, три дня? — Ага. — А вы? — Я не уходила. Ему было приятно, но выяснять подробности не хотелось. Маша сказала: — Я вас поздравляю! Вы вытащили лотерейный билет! — Какой билет? — не понял он. — Самый настоящий, лотерейный. Потом с лотерейным билетом его поздравляли другие. Дежурная сестра (значит, Маша здесь не по графику?), Вера Ивановна, Людмила Аркадьевна, Римма Федоровна. Даже Василий Васильевич что-то пробурчал поздравительное. Через час была перевязка. Сняли мокрые окровавленные бинты — вот почему ему казалось, что он лежит в крови, — перебинтовали в сухое. Все тело страшно ныло и болело. Казалось невозможным сделать хоть малейшее движение. Он лежал на спине. Под него подложили детский надувной круг. — Чтобы не было пролежней, — объяснила Маша. Он докурил сигарету. На сей раз уже с некоторым удовольствием. И опять задремал. Проснулся вечером. Снова увидел Машу. — Вы не уехали? Она покачала головой. — Да, а о каком лотерейном билете все говорят? — вспомнил он. — Никакой опухоли у вас нет, даже самой малюсенькой, — радостно сказала Маша. — А была киста поджелудочной железы. — И что же мне сделали? — Вскрыли желудок и зашили. А потом вскрыли кисту и выпустили из нее жидкость. Маша сияла, словно все это было ее рук дело. — А кисту удалили? — Нет, ее удалять нельзя. Она же на поджелудочной, а поджелудочную трогать нельзя. — Понятно, — сказал он, хотя пока ничего не понял. Спросил: — Значит, вы так и не ездили домой? Она покрутила головой. Потом добавила: — Звонила. Мама воюет с мальчишками. Наутро, чуть свет, прибежал Сергей Тимофеевич: — Ну как, братец, оклемался? — Ничего, — Виктор Петрович спал хорошо, и боли поутихли. — Покурим? — Покурим. Маша принесла Виктору Петровичу сигарету «Прима», а Сергей Тимофеевич достал неизменную свою «Новость». Затянулись. Курилось уже легче. Почему-то сейчас он вспомнил о приказе Апенченко. Рассказал Сергею Тимофеевичу. Тот посмеялся: — Новатор! Добавил: — А я ведь к нему. На конференцию. Докладывать о вашем случае. Совершенно уникальном. На тысячу случаев панкреатита такое в лучшем случае бывает раз. Они попрощались. Сквозь затянутое марлей окно в палату проникали свежий воздух и запахи улицы, деревьев, травы. Через окно в палату попадал кусочек синего-синего неба и было видно далекое мутноватое солнце.
На общебольничной конференции, которую вел Апенченко, Сергей Тимофеевич подробно доложил об операции, сделанной Виктору Петровичу. Апенченко был молод — около сорока, вальяжен, держался несколько снисходительно. В ладно скроенном светлом костюме под расстегнутым халатом, в безукоризненно чистой, накрахмаленной сорочке, с широким ярко-красным галстуком в горошек и золотой булавкой на нем, он, чуть наклонив голову набок, казалось, внимательно слушал Западова. Лицо его, по-юношески светлое, розоватое, даже выражало некоторый интерес или, скорее всего, любопытство. И только глаза, немигающие, какие-то стеклянистые, противоречили выражению лица. Словно это были глаза совсем другого человека. В конце Западов добавил: — Случай исключительно редкий. Рентген и гастроскопия показали значительную опухоль в желудке. А это была киста размером с мою ладонь. Она прикрывала желудок и создавала полную иллюзию опухоли. Посыпались вопросы: — Брали ли биопсию? — Нет, не брали. — Как дренаж? — Дренаж мы через несколько дней снимем. — А швы? — Швы дней через десять — двенадцать. — Больше вопросов нет? Западов откланялся. Но стоило ему выйти, как Апенченко продолжил в довольно резких тонах: — Надо поломать, Вера Ивановна, эту систему приглашения варягов. Тем более что, видите, ваш Западов способен допускать ошибки… В голосе его зазвучали железные нотки. И сам он преобразился. Ни тени равнодушия, атакующий напор, даже какая-то злость появилась. Но это длилось минуту-две. Апенченко снова скис, будто устал, и превратился в человека внешне вялого, инертного, скучного. — Я категорически не согласна с вами, Кирилл Романович, — встала Вера Ивановна. — Во-первых, «мой Западов», как вы говорите, один из крупнейших советских онкологов. Во-вторых, он хорошо знает данного больного. Вы в курсе дела. В-третьих, ошибку допустил не он, а наши рентгенологи и гастрологи. А главное, как вы не понимаете: радоваться надо, а не… Апенченко, казалось, не слушал ее, а смотрел в окно. Смотрел внимательно, пристально. Что увидел он там? Дерущихся воробьев? Или больных, прохаживающихся по дорожкам? Или дальше, туда, где станция «скорой помощи», во дворе которой то и дело уезжали и приезжали санитарные машины и светлые рафики? — Не знаю, чему тут радоваться, — повернулся Апенченко. — Надо уметь пользоваться своими силами. Кадры у нас достаточно квалифицированные. Что же касается вашего Западова, — слово «вашего» он произнес с особым нажимом, — то, насколько мне известно, даже не все врачи вашего отделения одобряли ваше решение. «Кто же это?» — подумала Вера Ивановна и обвела глазами зал. Увидела Василия Васильевича. Он словно заметил и отвел глаза от нее. «Неужели он?» Впрочем, об этой конференции Виктор Петрович узнал много позже. Узнал от Маши. — Вот вы какая популярная личность, Виктор Петрович! — под конец рассказа пошутила Маша. — Даже копья вокруг вас ломают.
Маша утаила только одно. Приказом по больнице Вере Ивановне был объявлен выговор. Фамилия профессора Западова в выговоре не фигурировала. Но формулировка была многозначительная: «За привлечение специалиста со стороны, что привело к ошибочному диагнозу и усложнило проведение операции…» Пятые сутки. Виктор Петрович хорошо выспался, позавтракал, выкурил сигарету. Маша сегодня впервые за эти дни ночевала дома, и ему было чуть грустно. Он понимал, что это эгоизм, и все же… Но в девять, когда Маша появилась в отделении, настроение у него сразу поднялось. — Как дома? — поинтересовался он. Она улыбнулась: — Содом! Мама-то старенькая, и мальчишки ее совсем оседлали. Часов до двенадцати все шло хорошо, но вдруг Виктор Петрович почувствовал холодную испарину на лбу. В ногах и руках появилась тягучая вялая слабость, потом они похолодели. Стало не хватать воздуха. Маша побежала за врачами. Вера Ивановна щупала пульс, Людмила Аркадьевна измеряла давление. — Кислород! — приказала Вера Ивановна. Ему всунули в рот трубку, подключили кислородный аппарат. Прибежал терапевт. — Не коллапс сердечный? — спросила Людмила Аркадьевна. Виктор Петрович продолжал тяжело дышать. К ногам его положили грелки. — Не швы? — спросила Вера Ивановна и сама сняла одеяло. — Ножницы! Маша протянула ей ножницы. Она быстро разрезала повязку: — Нет, швы целы. Только тут в палате появился Василий Васильевич. — Не помочь? — Нет, — сказала Вера Ивановна. — Прибавьте кислород. Терапевт сделал какой-то укол. Кажется, отлегло. Виктор Петрович попробовал улыбнуться. Спросил: — Покурю? — И я с вами, — согласилась Вера Ивановна. — Я стащу у вас сигаретку. — В рукав? — пошутил он. — Пока товарищ Апенченко не видит… — Смотрите, а то уволит как несоответствующую моральному облику советского врача… — сказала Римма Федоровна. У всех отлегло от сердца. — С вами, Виктор Петрович, не соскучишься! — Людмила Аркадьевна с удовольствием затянулась. — Все правильно, — Вера Ивановна потушила сигарету. — Пятые сутки. Считайте теперь, Виктор Петрович, что вы уже во втором измерении. — А первое? — поинтересовался он. — Первое — это все, что было до операции, и сама операция. Теперь дела пойдут на поправку. Они разошлись. — А вы в каком измерении? — спросил Виктор Петрович у Маши. — Я? — Маша задумалась. Потом, опустив глаза, совсем тихо сказала: — А я в вашем…
Апенченко вызвал к себе Веру Ивановну. «Что еще такое?» — подумала она. Кирилл Романович имел все основания сердиться на нее. Она писала в горздравотдел, оспорила приказ. Приезжала комиссия. Приказ Апенченко пришлось отменить. — Присаживайтесь, Вера Ивановна, — пригласил Апенченко. — Я слышал, что вы курите в отделении. Так ли это? — От кого вы слышали, разрешите узнать? — вопросом на вопрос ответила Вера Ивановна. — По-моему, вы меня с сигаретой не видели. — Это не имеет значения, — сказал Апенченко. — Вы знаете, что есть приказ. Он смотрел в открытое окно. «Что за дурацкая привычка не глядеть на собеседника, — раздражение Веры Ивановны стало расти. — И что он там видит?» Взгляд Апенченко был пустым, ничего не выражающим. Они сидели молча. — Я, между прочим, курю с фронта, с войны, — первая начала Вера Ивановна. — Считайте, тридцать пять лет с хвостиком. — Вы были на фронте? — Апенченко отвел взгляд от окна. Она промолчала. — Кем? — повторил он. — Свои кадры надо знать, — не очень любезно ответила Вера Ивановна. — Я могу идти? — Идите, но я все же вас прошу… — Спасибо!
«Снова Василий Васильевич. Что ему надо?» — подумала она, выходя из кабинета главного. Виктор Петрович проснулся рано. Еще не было семи. Свежий воздух приятно дул в открытое окно, пахло мокрой листвой и росой, вовсю гомонили птицы. Не только воробьи и вороны нашли приют в больничном парке, а и овсянки, дрозды и даже клесты, хотя хвойных деревьев здесь было не так уж много. Все они голосили по утрам на полные голоса, как в настоящем лесу. И совсем не боялись людей. А корма им здесь хватало вволю. Когда пришла Маша, Виктор Петрович узнал, что в отделении ЧП. У Веры Ивановны вчера случился на работе инфаркт, ее отвезли в клинику Чазова. — Как она сейчас? — спросил Виктор Петрович у Маши. — Инфаркт правой стенки. Обстановка в отделении была накалена до предела. С Василием Васильевичем перестали разговаривать. Он не выдержал, побежал к Апенченко. О чем они там говорили, неизвестно, но вернулся Василий Васильевич успокоенным.
Виктор Петрович явно шел на поправку. У него вынули дренаж. На десятый день он вернулся в свою палату. Еще через два дня сняли швы. Лето было в самом разгаре. За кронами деревьев уже почти не виднелись большие корпуса больницы, а на газонах шел сенокос. Траву стригли небольшими, громко тарахтящими ручными косилками и тут же собирали ее в маленькие стога. Свежескошенная трава пахла одурманивающе, и если закрыть глаза, то казалось, что ты находишься не в огромном городе, да еще в больнице, а где-то в далеком-далеком поле. Ходить Виктору Петровичу пока не разрешали, в перевязочную возили на каталке. Заставляли без конца надувать детские резиновые игрушки, чтобы не было застойных явлений. Его навещали сослуживцы. Приходили и директор училища, и председатель месткома. Частенько заглядывали преподаватели и учащиеся старших групп. Виктору Петровичу пришла в голову одна мысль, но, как подступиться к ее осуществлению, он пока не знал. Очень захотелось ему увидеть Машиных мальчишек. Он передавал им через нее маленькие подарки — яблоки, апельсины, шоколад — то, что ему приносили сослуживцы (фруктов и сладкого Виктор Петрович не признавал), уже немного познакомился с ними заочно… Попросить Машу привезти мальчишек в больницу? Это не то. И вот, кажется, он придумал. — Машенька, а ваши мальчишки в Оружейной палате были? — спросил он как-то. — Да что вы, Виктор Петрович! — воскликнула Маша. — Они у меня и в Кремле-то еще не были. — А если я раздобуду билеты? На воскресенье? — Ну, я даже и не знаю! — радостно воскликнула Маша. Через сослуживцев Виктор Петрович достал три билета на очередное воскресенье. Передал их Маше, сказал: — Только с одним условием: после Кремля заедете ко мне. Хорошо? И вот настало воскресенье. Виктор Петрович ждал его. Приготовил мальчишкам кое-что из своих припасов. Потом стал смотреть на часы: «Сейчас они собираются там, у себя в Пушкине… Вышли из дома на станцию… Сели в поезд… Приехали в Москву. От вокзала метро — на станцию «Проспект Маркса»… До обеда он как бы прослеживал их путь. А в четыре часа они появились в палате. Двое белобрысых, очень похожих друг на друга мальчишек с чуть оттопыренными прозрачными ушами и Маша. — Дядя Витя, спасибо! — Спасибо, дядя Витя! Валера был старше — лет одиннадцать. Митя младше — восемь-девять. Валера молчун. Митю за язык тянуть не надо. — Ну садитесь, рассказывайте. Шапку Мономаха видели? Оказалось, все видели, от всего в восторге — и от оружия, и от украшений, но больше всего им понравились старинные кареты, экипажи и пролетки. Даже серьезный Валера разговорился. Сам Виктор Петрович уже давно был в Оружейной палате, но вспомнил: действительно, там есть и кареты, и экипажи, и пролетки. Рассказали мальчишки и о Кремле. Видели Царь-пушку и Царь-колокол, памятник Ленину, а еще старые орудия и ядра к ним. Даже в соборах были, но это так, между прочим… — Я сама-то с ними увлеклась, — призналась Маша. — Ведь я там тоже была в первый раз. Митя посмотрел на лежащего Виктора Петровича и поинтересовался: — Дядя Витя, а вы так и будете всегда лежать? — Зачем же! — рассмеялся Виктор Петрович. — Вот поправлюсь, плясать буду. В гости к вам приеду! Примете? — Ой, приезжайте! — сказал Митя. — У нас собака есть Клякса, как у Карандаша! — Значит, договорились!
Над городом пронесся ураган с сухой грозой, поломал деревья и ветки, повыбил стекла в некоторых корпусах, сорвал крышу с сарая, где содержались собаки для опытов. Сломанные деревья быстро убрали, спилили, выкорчевали оставшиеся пни, подмели больничный двор от веток и листьев. Виктор Петрович каждый день интересовался самочувствием Веры Ивановны. Судя по всему, дела у нее тоже шли на поправку. Из интенсивной терапии перевели в реабилитацию. Уже встает. Скоро поедет в санаторий, что в Подлипках. — Теперь с инфарктами быстро расправляются, — сказала Людмила Аркадьевна. Она бывала у Веры Ивановны каждую неделю. Через нее Виктор Петрович передал Вере Ивановне записочку — смешную и бодрую. «И не курите, пожалуйста, в рукав!» — так кончалась эта записочка. В ответной Вера Ивановна писала: «Курю в открытую. Правда, тут тоже с нами борются, но Апенченко, слава богу, нет». Он обратил внимание на почерк Веры Ивановны. Он был какой-то удивительно детский. Виктор Петрович начал потихоньку вставать. Сначала около постели, держась за спинку кровати. Потом с помощью коляски-манежа для ходьбы.
В отделении шла трудная операция. Перфоративная язва. Больной тридцать восемь. Язва давно. Но сейчас обострена, и женщину привезли в больницу с резкими болями, «острым» животом, рвотой и высокой температурой. Изменения в крови. Оперировала Людмила Аркадьевна, ассистировали Василий Васильевич и приглашенный из реанимации Дамир Усманович — черноглазый п чернобровый башкир или татарин, человек веселого нрава и огромной работоспособности. Римма Федоровна сделала больной укол, вставила интубационную трубку в трахею. Подключили капельницу. — Больная спит? — спросила Людмила Аркадьевна. — Спит. — Скальпель! Она рассекла кожу и подкожную клетчатку. — Зажимы! Ассистенты зажали кровоточащие сосуды. Сестра-анестезист измеряла пульс и давление. — Шов! Операционная сестра подала шелк. Ассистенты держали зажимы. Людмила Аркадьевна вязала. — Пульс? — Сто двадцать. — Давление? — Сто пятнадцать на семьдесят. — Сушить! Сестра подала тупфер. Людмила Аркадьевна вскрыла брюшину. — Крючки! Сестра — крючки. — Держать! Людмила Аркадьевна стала искать место перфорации. Нашла быстро. Прободение из полости желудка в брюшную полость. Язва большая, старая. — Сушить! Сестра подала на зажиме салфетки. Людмила Аркадьевна начала ушивать язву. — Больная дышит, — заметила она. Это ей мешало. Римма Федоровна увеличила дозу наркоза. — Сейчас хорошо! — Пенициллин! Ввела в брюшную полость пенициллин. — Дренаж! Начала послойное ушивание. Дренаж пришлось оставить. Операция закончилась. И, кажется, благополучно. Но к вечеру у больной резко повысилась температура, усилились боли. Появились явные признаки перитонита. Увеличили дозу антибиотиков. Поставили капельницу. Дежурный врач делал внутривенные вливания. Ночью улучшения не наступило. Утром Людмила Аркадьевна сразу пошла в послеоперационную палату: — Как? Дежурила Маша. — Все так же. Попробовала живот. Плохой. — Температура? — Сорок один. Пульс сто сорок. Измерила давление: — Семьдесят на пятьдесят. Подумала: «Что-то тут не так». Решили сделать еще одну операцию. Острый холецистит. Удаление желчного пузыря. Когда вернулись, Маша развела руками: — Только что… Через два часа ее отвезли в морг. Людмила Аркадьевна писала заключение. Все для нее было неясно. И возраст больной — тридцать восемь — не возраст. Если бы не застарелая язва, молодая здоровая женщина. На следующее утро они пришли на вскрытие. Патологоанатом нашел на задней стенке желудка старую язву, прикрытую сальником. — Как же я не заметила? — поражалась Людмила Аркадьевна. — Такую заметить трудно, — сказал патологоанатом. Настроение было мрачное. «А тут еще Василий Васильевич мне ассистировал, — думала она. — Снова Апенченко…» Она вернулась в отделение, рассказала о результатах вскрытия Римме Федоровне. — А на Апенченко плевать, — Римма Федоровна пыталась утешать. — Да и не будет он, раз его Василий Васильевич… — Да не это меня волнует, — призналась Людмила Аркадьевна. — А явная моя ошибка. Она пошла на обход. — На вас лица нет, — сказал, увидя ее, Виктор Петрович. — Что-нибудь случилось? О смерти, конечно, в отделении знали все, но Виктор Петрович как-то не связал одно с другим. Людмила Аркадьевна промолчала.
Бюро прогнозов предсказывало в августе жару, но погода решила по-своему. Неожиданно похолодало, зачастили дожди и грозы, люди надели плащи, вооружились зонтиками. Виктора Петровича даже радовала такая погода. Не стало изнуряющей жары и духоты, которая особенно тяжело переносится в больнице. Все шло хорошо. И вдруг… Виктор Петрович уже выходил в коридор, или на Язвуштрассе, как тут называли его больные. Первый и второй этажи, где находилась терапия, наименовали Инфарктштрассе, а третий — Язва. Вечером Виктор Петрович часто присаживался к телевизору — посмотреть программу «Время». И в этот вечер он смотрел «Время», когда почувствовал, что с левой стороны у него что-то подтекает. Вернулся в палату, разделся. Из свища текла какая-то жидкость. Он вытер ее, лег и стал выжидать. Жидкость продолжала течь, и к ночи кожа вокруг свища покраснела и воспалилась. Что делать? Он вызвал сестру, показал. — Открылся свищ, — сказала она. Смазала это место пастой Лассара. Сделала наклейку. К утру паста исчезла, а кожа опять воспалилась. Пришла Людмила Аркадьевна: — Да, действительно свищ открылся. — А что это за жидкость течет? — поинтересовался Виктор Петрович. — Ядовитая, страсть! — Панкреатическая жидкость, — объяснила Людмила Аркадьевна. — Ядовитая, верно. Она помогает организму переваривать пищу. Снова толстым слоем наложили пасту Лассара. Сделали круговую повязку. — Придется вызвать профессора Западова, — сказала Людмила Аркадьевна. — Надо посоветоваться. — А как же ваш Апенченко? — поинтересовался Виктор Петрович. — А что Апенченко! — махнула рукой Людмила Аркадьевна. В принципиальность Апенченко она теперь окончательно не верила. После смертельного случая с перфоративной язвой, где действительно была допущена врачебная ошибка, на месте Апенченко она отреагировала бы либо взысканием, либо осуждением на общебольничной конференции. А он сделал вид, что ничего не произошло, и, видимо, только потому, что ассистировал при операции Василий Васильевич. Довел Веру Ивановну до инфаркта. — Будем вызывать Западова! — решительно заключила она. А Виктору Петровичу теперь приходилось по четыре-пять раз в сутки делать перевязки, накладывать пасту Лассара. Панкреатический сок сжирал ее за три-четыре часа, и снова начиналось адово жжение.
— Что ж это вы, братец? А ну-ка, покажите! — Сергей Тимофеевич, не вынимая изо рта сигареты, осматривал свищ. — Так, так… Потом замолчал, задумался. — Во-первых, придется вставлять дренаж, — сказал он. — А во-вторых, братец, скажу вам, раз свищ не закрылся, придется с этим дренажем пожить годик-другой… — Но как же! — воскликнул Виктор Петрович. — И почему так долго? Это же… — Люди живут, — пояснил Сергей Тимофеевич. — Знаменитого Бочкина знаете, строителя электростанций? Семнадцать лет живет с дренажем, трудится. Есть и другие случаи. А сформируются протоки, я сделаю вам операцию пересадки свища. Но для этого нужно время. Перспектива была кошмарной. Как работа? Как учебник, который он пишет? Как, наконец… — И это все вне больницы? — спросил он. — Конечно, братец. Будете трудиться и жить, как все люди. Я говорю, годик-другой. А там сделаю вторую операцию. Да, а когда я поставлю дренаж, — обратился он к Людмиле Аркадьевне, — то надо ежедневно замерять количество сока, который поступает через свищ… А вставить дренаж дело, между прочим, минутное, — сказал он Виктору Петровичу. — Только, если можно, — попросил Виктор Петрович, — под общим наркозом! — Почему? Тут и местный вполне годится. Говорю же, минутное дело. — Я… я боюсь местного наркоза, — признался Виктор Петрович. — Не могу, чтобы видеть все… — Не ожидал, братец! — воскликнул Сергей Тимофеевич. — Такой мужественный человек, и вдруг «боюсь». Впрочем, ладно! Давайте под общим, раз вы просите. Раушнаркоз. Закись азота. А теперь прикинем, когда…
Все повторяется. С той лишь разницей, что накануне этой операции ему не промывали желудок и разрешили поужинать. Римма Федоровна принесла таблетку: — На ночь! Он спал спокойно. Утром его уже, как и в прошлый раз, ждала каталка. Он перебрался на нее, и его повезли в операционную. Возле операционной его поджидала Маша. Ободряюще улыбнулась. Он отвернулся. Ему сделалось стыдно: «Развалина. А тут еще этот дренаж…» Сергей Тимофеевич был в операционной. Виктору Петровичу приложили к лицу большую резиновую маску. Через минуту-другую Сергей Тимофеевич задал обычный вопрос: — Больной спит? — Я не сплю, — сказал Виктор Петрович. У него было ощущение, что он выпил лишку, но сон к нему не приходил. — Дайте обычный наркоз, — сказал Сергей Тимофеевич. Римма Федоровна сделала укол в руку. Он проснулся в своей палате. Рядом сидела Маша. — И сколько это длилось, Машенька? — Ровно двадцать минут. — А Сергей Тимофеевич уехал? — Сразу же. Он ощупал себя под одеялом. Плотная повязка. Слева торчит резиновая трубка, к ней привязан пузырек.
Первые три дня все было ничего. На четвертый, в ночь, начало что-то подтекать. Дежурил Дамир Усманович: — В перевязочную! Пошли в перевязочную, Виктор Петрович забрался на стол, разрезали бинты. — Выскочил, — сказал Дамир Усманович. — Что будем делать? — Вставлять! Надо как-то вставить! — попросил Виктор Петрович. — Попробуем. Дайте-ка мне вазелиновое масло, — обратился он к сестре. Виктору Петровичу сказал: — Терпите! Виктор Петрович терпел. Дамир Усманович довольно долго колдовал с дренажем. — Готово! О’кэй! — Уже? — удивился Виктор Петрович. Было больно, но не очень. Смазали вокруг кожу пастой, забинтовали. Стараясь дышать очень осторожно (вдруг опять выскочит!), Виктор Петрович медленно направился в палату. Посмотрел на часы: четверть четвертого. С той ночи и началось. То дренаж выскакивал совсем, то панкреатический сок разъедал резину. Дренаж приходилось менять постоянно. Кроме того, без конца падал пузырек. Нашли наконец подходящий — плоский, из-под сувенирного коньяка, но он оказался слишком большим. Не проходило дня, а то и ночи, чтобы не меняли дренаж. Кожа вокруг была все время воспаленной, и очень жгло. Кто-то из сослуживцев Виктора Петровича узнал, что на медицинской кафедре Университета имени Патриса Лумумбы есть профессор Александров — крупный специалист в области панкреатитов. Проконсультировались у него, директор ПТУ подогнал машину к шестнадцати тридцати, когда врачи разошлись по домам, поехали в больницу, где врачевал Александров. Войдя к профессору, Виктор Петрович прежде всего попросил: — Только мне хотелось бы, чтобы о моем визите к вам не знал профессор Западов, и я… — Чепуха! — сказал Александров. — Это не первый случай, когда пациенты Западова попадают ко мне. От него сильно попахивало спиртным. Он смотрел Виктора Петровича недолго, потом предложил: — Ложитесь ко мне, я вас прооперирую. — Но ведь поджелудочную, кажется, не оперируют, — заикнулся Виктор Петрович. — Другие не оперируют, а я оперирую. У меня уже более восьмидесяти успешных операций. — Спасибо, я подумаю, — сказал Виктор Петрович и поспешил выйти из кабинета. Александров ему категорически не понравился. Начиная с разговора о Западове и кончая своей самоуверенностью. «Восемьдесят успешных, а сколько не успешных?» — подумал Виктор Петрович. Он ехал к себе в больницу по людным, почти осенним улицам Москвы. Выгорела трава на газонах. Пожелтели листья на деревьях. Тротуары, правда еще не густо, устилала сухая листва. Было прохладно. Несколько дней спустя Виктор Петрович вспомнил слова Сергея Тимофеевича о знаменитом гидростроителе Бочкине. Сослуживцы разыскали его по телефону в Иркутске. Он объяснил, что не пошел на повторную операцию из-за возраста, да еще и потому, что как-то привык к дренажу. А дренаж у него сделан из велосипедного ниппеля… Как-то зашел Дамир Усманович. Ему уже не раз приходилось вставлять дренаж Виктору Петровичу по ночам. — Я вот что подумал, — начал Дамир Усманович. — Есть у меня приятель, работает в конструкторском бюро Туполева. Может, посоветуемся? Они там мастера на всякие штуки. Дамир Усманович привел к Виктору Петровичу своего приятеля. Маленький забавный человек с непропорционально большой яйцевидной головой и квадратным пенсне, которое без конца сползало на крупный, задранный крючком кверху нос. Узнав, что к чему, приятель вызвался выполнить необычный заказ. Взял бумагу, стал чертить различные варианты дренажа. Сошлись на одном: надо прикрепить резиновое кольцо. Оно будет плотно прилегать к телу и держать дренаж. С помощью бинтов, конечно. Попутно Виктор Петрович узнал, что у Дамира Усмановича и его приятеля есть одна общая страсть, хобби, что ли: увлекаются виолончелью. Да, оба любители виолончелисты. На этой почве и познакомились и подружились. Они не пропускают ни одного концерта с участием знаменитых и подающих надежды виолончелистов. — Между прочим, — игриво заметил Дамир Усманович, — мы в концертах часто встречаемся с вашей Машенькой… Виктор Петрович смутился. В мастерских КБ сделали дренаж. Сам Дамир Усманович взялся его вставить. Вроде получилось. Но на пятые сутки опять панкреатический сок разъел и дренаж и само кольцо. Опять все начиналось сначала. Так прошел сентябрь, октябрь и ноябрь. За окном уже вовсю хозяйничала зима. А Виктор Петрович продолжал воевать с дренажами. Все это было мучительно, но почему-то больше всего Виктор Петрович смущался Маши. Развалина, совсем развалина! Из санатория вернулась Вера Ивановна, помолодевшая какая-то, посветлевшая. Вера Ивановна в первый же день осмотрела Виктора Петровича на перевязке. Сказала: — Это, конечно, все на соплях сделано. Надо что-то придумать! И придумала: — А что, если попробовать медицинский бандаж? Сослуживцы достали ему бандаж самый лучший, чешский. Широкий брезентовый пояс с кармашком для пузырька. Продырявили дырку для дренажа. Виктор Петрович надел бандаж. — Удобно? — Вроде удобно. Первые дни все было прекрасно, но потом панкреатический сок съел дренаж. В бандаже вокруг дренажа образовалась дырка… А время шло. Скоро уже шесть месяцев, как он в больнице. Надо или выписываться, или проситься на пенсию…
Стоял декабрь. Погода барахлила. То мороз, то оттепели. То капель с крыш, то метель и пурга. К двадцатым числам начались обильные снегопады. Снег валил ночью и днем. Улицы расчищать не успевали. Больничный двор пересекли десятки узеньких тропинок. Машины буксовали. Однажды утром Виктор Петрович проснулся почему-то в хорошем настроении. Пощупал повязку — не промокла: ни жжения, ни болей. Пришла Маша, как всегда, первой. Он похвалился перед ней, спросил: — А если не делать перевязку, раз все спокойно. — Конечно, — согласилась она. Так было и на следующий день. И еще на следующий. Наконец повязку сняли. Дренаж лежал рядом со свищом. Свищ закрылся. Не может быть! Нет, точно, закрылся! Утром примчался Западов. Осмотрел Виктора Петровича. — Ну, братец, — сказал, — вы меня удивляете. Вторая ошибка с вами! — Почаще бы такие ошибки, — сказала Вера Ивановна. — Закурим? — спросил Сергей Тимофеевич. И они, довольные, втроем закурили: Сергей Тимофеевич, Вера Ивановна и Виктор Петрович. Утром Маша робко спросила: — Виктор Петрович, а Новый год где вы будете встречать? — Не знаю даже, — признался Виктор Петрович. — Я почему… — сказала Маша. — А то, может, к нам приедете? Он не поверил своим ушам. — К вам? Да я с огромным удовольствием. Вы даже не представляете!
Его выписали за три дня до Нового года. От машины, которую ему предложил директор училища, он отказался: — Нет, нет! Хочу сам пешочком! Он вышел за ворота больницы и направился к Ленинградскому проспекту. Было прохладно, и он с удовольствием глотал свежий зимний воздух. В лицо били хлопья снега. Мимо бежали люди, все куда-то торопились, многие несли елки. А он шел не спеша, словно впервые попал в этот огромный, суетливый город, и наслаждался всем, что окружало его: домами, машинами, людьми, снегом. Может, и правда, он был сейчас во втором измерении?
РАССКАЗЫ
РАННИЙ ВЕЧЕР
Памяти негромкого певца России С. Я. Надсона
Сентябрь 1886 года. Киев. По городу расклеены афиши:
«Театр г. Савина (быв. Бергонье) 11 сентября Вечер стихотворений г. Семена Я. Надсона. Читает автор и артисты. Участвуют певцы и музыканты. Стоимость билета 1 руб. 50 коп. Сбор в пользу Литературного Фонда. Начало в 5 час. вечера».
Вечно сомневавшийся в себе Надсон волновался. Совсем недавно, в Боярке, где ему пришлось провести лето, он отказался от предложения двух киевских книгопродавцев издать сборник стихотворений тиражом две тысячи экземпляров за тысячу рублей. Он привык издавать свои книги только за свой счет и этому правилу изменять не собирался. Нет, уж увольте от такой благотворительности! А вот от вечера в пользу Литературного Фонда он отказаться не мог. Фонд выручил его во время длительной поездки за границу на лечение. Он уже расплатился с этими долгами. Теперь Фонд помогает ему пятьюстами рублями для поездки в Ялту. Надо постараться сразу же вернуть эти деньги. Семен Яковлевич терпеть не мог долгов. А чувствовал он себя преотвратительно. В Ницце и Берне ему сделали три операции, но все равно нога нестерпимо болела. Почти каждый вечер мучила лихорадка с температурой. После сырого и холодного лета профессор Афанасьев и доктора Образцов и Георгиевский нашли у Надсона плеврит и туберкулезную высыпь левого легкого. Правое было поражено давно. Учащалось кровохарканье. От этого появилось ощущение унылой безнадежности — ломило грудь. Врачи настоятельно советовали ехать в Гис, что близ Мерана, но Семен Яковлевич категорически заявил: «Никаких заграниц! Только Ялта! Хочу умереть в России».

Он много говорил и писал о своей смерти. Свою автобиографию, написанную 29 сентября 1884 года в Санкт-Петербурге, он закончил словами: «В 1884 г. начал умирать. Затем, — честь имею кланяться. Благодарю за честь!» И все же он не верил в смерть. Не хотел верить. Пусть отец его, Яков Семенович, надворный советник, даровитый музыкант и хороший человек, умер в приюте для душевнобольных совсем молодым, когда Семе было всего два года. Пусть отчим его Николай Гаврилович Фомин в припадке умопомешательства повесился. Пусть мать его Антонина Степановна погибла от чахотки в возрасте тридцати одного года. Пусть единственная и вечная любовь его — Наташа Дешевова скончалась от скоротечной чахотки совсем юной: «31-го марта 1879 года. Она, — наше солнышко, наша светлая звездочка, — погасла… закатилась, пропала в той темноте, страшной и неразгаданной, которую мы зовем смертью! Господи, успокой ея душу!» Надсон, верующий, не верил в смерть и в загробную жизнь. Нежный, как девушка, и мужественный, как суровый воин, он мучился и жил единственной, все заменяющей страстью — поэзией. Его крестный литературный отец Алексей Николаевич Плещеев признавал в нем несомненный дар поэта. Три издания его первой книги стихов моментально разлетелись по России. О Надсоне много писали в журналах и газетах, его преследовали поклонники и поклонницы, а он по-прежнему сомневался в себе, считая, что его просто боятся огорчить, и, чтобы унять свои тайные, тревожные сомнения, — искал постоянного подтверждения своего места влитературе. Он занимался рецензиями и обзорами, регулярно выступал в киевской газете «Заря». И часто прикованный к дому, к постели, с трепетом ждал и читательских писем и молодых людей, которые приносили на суд его свои стихи. Он искал признания. А недавно у него чуть не начался роман с одной поклонницей — г-жой Л. В. Ф., или просто Любушкой. Она, если верить ее письмам к нему, была знатной дамой, аристократкой, графиней, заочно влюбилась в него, плебея, все время искала встречи с ним, а он жаждал ее видеть и одновременно избегал, боясь показаться перед ней несчастным и больным. Он шутя пригласил ее на свой литературный вечер, а она зло и обидно отпарировала: «Зачем подчеркиваете вы вашу шутку? Мне и в голову не могла прийти мысль, чтобы вы серьезно просили меня петь в пользу каких-то косматых писателей и ученых! Знайте, пожалуйста, ваш шесток!» Да, нынешний вечер был ему нужен. Он уверял себя: для погашения долга Литературному Фонду. Но было в глубине души и другое: проверить себя вновь на публике и, больше — в который раз! — поверить в себя. Нет, он, конечно, не Тургенев, не Толстой, не Плещеев, не Полонский. Но, может, он, Надсон, тоже чего-нибудь стоит? Друзья заехали за ним минут за сорок до начала вечера: — Ну, как, Семен Яковлевич, готовы? Как самочувствие-то? Несмотря на молодость, Надсона почти никто не называл просто по имени, даже те, кто был много старше его. Семен Яковлевич пересилил себя: — Готов, а самочувствие сносное. Они вышли к извозчику. Надсон подкашливал и зябко держался за грудь. Извозчик, совсем еще молодой, солидный мужчина с рыжей бородой, очень напоминавший городового, увидев бледного, изможденного пассажира, поинтересовался: — К доктору? — Не к доктору, служивый, а в театр, — как можно бодрее сказал Семен Яковлевич. — В театр Бергонье. Театр Савина ныне. — Как изволите, — согласился извозчик. — Знаем и Савина. Надсон приехал в театр совершенно без сил, опустошенный и настороженный. Восторженная толпа подхватила его на руки и вынесла на сцену. Надсон стоял на сцене, полный смущения и восторга — худой, с дерзкой черной шевелюрой и бородой, и растерянно смотрел в зал. Зал забит до отказа. Особенно много было молодежи. Публика заполнила даже все проходы. Семен Яковлевич всегда людей делил строго на две половины — на живых и мертвых. Живые — это те, кто любит природу, способны неподдельно восхищаться ею, умеют глубоко чувствовать превосходство над собою всего прекрасного и высшего, необъяснимого. Это — художники, поэты, писатели. Во главе их — Гоголь, Пушкин, Лермонтов, Некрасов, Кольцов, Никитин. Мертвые — это купцы, погруженные только в свои расчеты и кроме них ничего не видящие и не понимающие. И еще так называемые средние люди. Их большинство. Эти средние легко могут сделаться или живыми, или мертвыми, смотря под каким влиянием они находятся. К несчастью, чаще всего эти люди становятся пошляками и не приносят никакой пользы отечеству. Что же за люди сидят сейчас в зале? И может ли он, Семен Яковлевич Надсон, повести их за собой? Он смотрел во взбудораженный зал и думал, с чего начать. Первыми вспомнились стихи, посвященные Наташе, их было много, и писались они, кажется, всегда — при ее жизни и после. И он хотел было уж читать:
В октябре Семену Яковлевичу опять стало хуже. Солнце все меньше одаривало своим теплом землю, погода то и дело портилась, начали задувать холодные северные ветры. Но не это было главное. Главным были газеты, которые его не радовали. Особенно киевская «Заря», газета, которой он отдал столько сил и труда. Газета эта начинала очень неплохо. Много писала о литературе, писала не предвзято, с пониманием. Надсон с уважением относился к «Заре». Теперь «Зарю» заносило то влево, то вправо. И не только по литературным делам. На страницах часто появлялись статейки с антисемитским душком. Больше и успешнее других ухищрялся некий Андриевский. 29 октября Надсон написал по этому поводу Л. А. Купернику:
«Многоуважаемый Лев Абрамович, искренне благодарен вам за память обо мне; мне очень лестно, что вы подумали о моем мнении и поспешили рассеять недоразумение, которое могло бы возникнуть во мне, раз я не увидел вашей подписи в числе подписей лиц, «отрекшихся», или вернее, разоблачившейся «Зари»… Что касается лично меня, я очень сожалею, что мое имя и мое влияние так не велики, что я не могу потопить Андриевского. Я, однако, делаю, что могу: на днях я послал в «Неделю» так называемое «письмо в редакцию», в котором стараюсь представить инцидент с «Зарей» в настоящем свете… Как ни терпимо наше общество, но всему есть предел. Андриевский поступил слишком цинично».
С середины ноября, особенно по ночам, у Надсона участились изнуряющие приступы кашля с кровью. В од-ну из таких ночей, после очередного, вконец измучившего приступа, он неожиданно проснулся. Понял: что-то случилось. Хотел зажечь свечу, но рука онемела, попытался встать — спустил одну ногу, — другая не повиновалась. Он словно стремительно упал в бездонную пропасть страха и отчаяния: неужели паралич? …Отнялись рука и нога. Теперь Семен Яковлевич только читал, и то уткнувшись в теплый плед, любезно предоставленный хозяином дома. Газеты не оставляли его своим вниманием. Особенно Буренин. Он знал Буренина как бойкого, беспринципного писаку. Буренин был патологически плодовит. Он писал стихи, эпиграммы, пародии, статьи, фельетоны. Талантом они не отличались, но всегда содержали скользкий подтекст, намеки на якобы ведомое что-то самому Буренину и неведомое другим. Хвалил же Буренин только откровенно бездарных в литературе людей, под стать самому себе. Но почему теперь Буренин так набросился на него? Его фельетоны не просто разбор стихов Надсона, которые могут нравиться или не нравиться, а подлый и мелкий поклеп, откровенные инсинуации, затрагивающие честь и человеческое достоинство Надсона. На душе было преотвратительно, хотя Надсон и старался не терять самообладания. 25 ноября он делился с П. А. Гайдебуровым: «Многоуважаемый Павел Александрович! Простите меня, что пишу не сам, а диктую, ибо, неизвестно почему, у меня вдруг отнялись рука и нога. Доктора уверяют, что явление нервное, род нервного удара, а не в связи с моей основной болезнью. Не будь этого, я бы чувствовал себя не так дурно: я нахожусь в здравом уме и твердой памяти, хотя стихов и не пишу. Очень сожалею, что письмо мое не могло быть напечатано в «Неделе». Я близко заинтересован нравственной стороной этого вопроса и нахожу, что нашей печати, вообще говоря, следовало бы быть этичнее. Вот, например, на меня в каждом фельетоне неприлично нападает знаменитый В. Буренин, и никто за меня не вступится… Две последние книжки «Недели», октябрь и ноябрь, мне очень понравились, не говоря уже о том, что ноябрь украшен моим произведением. Какие свеженькие вещи «Разлад» и «В глухом углу», и в особенности первое, главным образом начало. Оно дышит жизненной правдой. Меньшиков у вас подвизается очень недурно — остроумно и бойко. Помогите ему выбраться на ровную дорогу…»
В декабре установилась хорошая погода — вычистилось небо, все чаще пыталось светить солнце, и Надсон почувствовал себя лучше. Он писал письма — в консерваторию по поводу молодой ялтинской пианистки, в редакцию — рекомендации к стихам начинающих. Кажется, чуть-чуть пошли и свои стихи. Несколько начато, другие задуманы. А тут еще праздник, пусть маленький, но все же праздник — день рождения. В этот день он особенно ждал какой-нибудь весточки от Любушки, или г-жи Л. В. Ф., так и не пожелавшей сообщить поэту своего полного имени. Но не дождался. И на следующий день он пишет ей: «Люба, моя Люба, мне хочется потолковать с вами. Во-первых, отчего вы не прислали мне вчера телеграммы? Хотя у меня и без вашей много, хотя телеграмма, в сущности, ничего не выражает, но мне было бы приятно знать, что вы обо мне лишний раз вспомнили. Во-вторых, я долго раздумывал над тем, отчего вы мне не сообщаете вашей фамилии? Если это делается для того, чтобы меня заинтересовать, то вы не достигаете цели: «что имя — звук пустой». Оно ничего не прибавит к тому грациозному, милому образу, который почти художественно отразился в ваших письмах… Я не принадлежу к той среде, которая придает значение громким именам… Вчерашний день принес мне несколько приятных сюрпризов. Во-первых, телеграмму от бывших полковых товарищей, во-вторых, букет от какой-то неизвестной маленькой почитательницы… У меня было вчера все мое ялтинское общество в сборе: «божественный» старичок, который принес мне цветы, конфеты и псалтырь, и редактор без газеты, и старухи от 30 до 60-ти и прочие. Утром я поил их шоколадом, а потом некоторых кормил скверным обедом. Ваше полотенце висело на кресле и распространяло такое благоухание, что все кругом чихали…»
Близилось рождество, а за ним и новый, 1887 год. Что-то принесет он? Может быть, все-таки поправится? Может, будут новые стихи? А то как же без них? Да, и, конечно, будет весна, а весна это всегда так чудесно, пожалуй, из всех времен года Семен Яковлевич больше всего любил весну — пору новых и доступных надежд. Любимой сестре А. Макеевой он пишет: «Дорогая Нюша! Откуда ты взяла, что у меня не будет елки? Будет, как и у тебя. Может, я обожаю Рождество именно за елку. В январских книжках «Недели» и «Русской мысли» будут мои стихи. Посмотришь? Прощай и пиши почаще…»
И вновь отчаяние. Погода прекрасна. Солнце. Голубое, какое бывает только в Крыму, зимнее, чистое небо. Море совсем не штормит. Только Ялта радует его сердце. Боже, как он влюблен в этот прелестный город, типично российский и так непохожий на модные иностранные курорты. И чего его носило в эти Ниццы? Да, пожалуй, Ялта хороша не только весной, а и зимой. Надсон со смаком вдыхал чистый, чуть морозный и, казалось, солнечный ялтинский зимний воздух. Все хорошо, если бы не этот Буренин!.. Он продолжает свое грязное дело. У Надсона десятки друзей. Они помогали ему в лечении и публикации стихов. Они пишут ему нежные письма и присылают подарки. Они обеспечивают его газетами, журналами, книгами. Но почему сейчас они молчат? Или им безразлично то, что делает Буренин, или они не хотят иметь дело с ним? Кому же открыть душу? Ну, конечно же, ей. «Со мной в последнее время творятся очень недобрые вещи. Вот уже больше месяца, как на меня Буренин выливает целые лохани грязи в «Новом времени». Если бы он говорил обо мне, как о поэте, я не обратил бы никакого внимания на его отзывы, хорошо понимая, чем они внушены. Я не знаю ни одного стихотворения, на которое нельзя бы было написать пародию. Это наилучшим образом доказал сам Буренин, пародируя Пушкина, Лермонтова, Жуковского, даже Державина… Но он глумится над моей личностью, над моими отношениями к близким мне людям, над посвящением моей книги. Он возводит на меня самые нелепые и неправдоподобные клеветы, делает для меня из литературной полемики дело чести. Игнорировать это дольше я не имею права… Я удивляюсь моим литературным друзьям, из которых никто не заступится за меня. Все это до такой степени расстроило меня, что я вынужден был написать письмо к Плещееву, наиболее близкому мне в литературе человеку, переполненное упреками на друзей, являющихся зрителями и только зрителями этой омерзительной травли…»[30] В Ялте Надсон жил на даче своего друга Цибульского. Небольшая двухэтажная дача стояла на окраине города, в саду. Правда, сейчас была зима, сад был гол, но погода старалась радовать Надсона. Температура плюсовая, и Семен Яковлевич опять проводил большую часть суток на балконе второго этажа. В январе он начал ощущать усиление слабости. Появились сильные, почти не прекращающиеся головные боли. Он не мог уже не только писать, но и читать. Он все больше лежал с закрытыми глазами. И чаще всего ему вспоминалось детство — все остальное казалось ненужным и несерьезным. …Маленький флигелек в Киеве. Семен Яковлевич и до сих пор любил такие флигельки; приветливые, уютные, со множеством пристроек, с полусгнившими заборами из барочного леса, за которыми обычно тянутся пустыри, поросшие бурьяном, молочаем, ромашкой и полынью. И в Киеве было так. В низких комнатах с неуклюжими широкими печами, с цветами и занавесками на окнах, с дешевенькими обоями и некрасивой, но зато удобной и прочной мебелью прошло его первое, самое раннее детство. Тут, четырехлетний, в уютной кухне он принялся вместе с рассудительной старушкой няней за грамоту, готовя сюрприз ко дню ангела мамы. Тут он с сестрой Нюшей, играя во дворе, готовил обед из цветков белой и желтой акаций и какой-то травы с морковным вкусом, которая называлась дудками. А потом он жил в деревне, в имении Фурсова, у которого мама служила экономкой и была учительницей его дочери. Старый запущенный сад с двумя соединенными плотиной прудами, с густою зеленью берез, ив, дубов и лип, с пирамидальными вершинами итальянских тополей и узкими дорожками, потонувшими в душистых кустах жасмина и шиповника, перевитыми гибкими лозами ярко-зеленого хмеля. И рядом поросший крапивой овраг. Вооружившись деревянной саблей, он устремлялся в самую середину крапивы, которая в его одиноких детских играх казалась ему полчищем татар. И несмотря на ожоги, отважно рубил саблей налево и направо, а потом, утомленный, бросался в густую траву на берегу залитого солнечным светом пруда, прислушиваясь к металличе-ски-звонкому и однообразному кваканью лягушек и немолчно оглушающему стрекотанью кузнечиков. Он старался поставить себя на место большого красного муравья, взобравшегося по стеблю стройного колокольчика, и его глазами посмотреть на этот большой новый мир. И подмечал игру света и тени сквозь зеленую полумглу сквозивших на солнце широких листьев подорожника, открывая светлые приветливые лужайки и грозные гранитные вершины и доходя до того, что высокий куст репейника казался ему таким гигантом, что при виде его у него в груди сжималось сердце каким-то мучительно-подавляющим чувством. Гимназию он не любил вспоминать, а Павловское военное училище тем более, а вот офицерская жизнь в Кронштадте и чуть раньше в Тифлисе помнилась. Но военная карьера была не для него. В памяти возникла Наташа и вся семья Дешевовых. Какая это была замечательная семья — именно русская, простая, скромная. Он чувствовал себя у них лучше и проще, чем дома. Семен Яковлевич был на похоронах Наташи, но похороны никогда не вспоминал. Он видел Наташу живую, умную, гордую, нежную. Это она научила его более или менее систематическому чтению. Это она страстно говорила о бесправии российских рабочих и крестьян, о неизбежности крушения царизма: «Люди терпят, терпят, да, поверь, кончится их терпение! Ох, посмотри, приглядись, Сема, какой у нас народ — не забитый он, гордый, свободолюбивый, отчаянный. На смерть пойдет, а своего добьется. И мы с тобой это еще увидим…» «Негромкий певец России, — вспомнил Надсон. — Кто так назвал его? Наташа, Плещеев, Мережковский, доктор Белоголовый, Гаршин, редактор «Зари» Кулишер, Куперник? Нет, нет, нет! Но кто же? — Семен Яковлевич никак не мог вспомнить. — А слова-то верные, точные…» И вдруг Семен Яковлевич почувствовал удивительный прилив сил. Или это, вспоминая о детстве? Или он вернулся к 11 сентября в Киев, когда молодежь так горячо принимала его? Нет, пожалуй, он поэт, и стихи нужны людям, и никаким Бурениным не опровергнуть этого. Вот он поправится немного и обязательно поедет в Петербург и даже, если никто ему не помешает, сам защитит свое доброе имя. Он должен жить. Он будет жить! Ведь должен кто-то в их роду доказать, что он не слаб и прочно стоит на этой земле! Земля. Россия. Родина. Нет ничего выше этих понятий. Он много поездил по заграницам, но его всегда тянуло сюда, ибо здесь его дом, только здесь. Как хороша сейчас Ялта! Надо здесь жить и писать, писать, писать. Пожалуй, нет лучше места на земле. Вот бы собрать здесь своих друзей, затеять издание альманаха или новой газеты и отсюда вести литературную борьбу со всякого рода Бурениными. А может, так и станется? И будут у него новые стихи. Много стихов. Он обязательно допишет начатые и скоро закончит все задуманное…
К середине января Надсон совсем был плох. Шептал в беспамятстве: «Скорей, скорей бы! А Буренин мерзавец!» 19 января 1887 г. в 9 часов утра он умер. Надсон не знал своего последнего диагноза: туберкулезное воспаление мозга. Тело двадцатичетырехлетнего поэта перевезли сначала в Одессу, а затем в Петербург. Похоронили на Волховом кладбище рядом с могилами Белинского и Добролюбова.
ПРОЩАНИЕ
Дмитрий Владимирович Веневитинов нежно любил этот дом. В тихом и уютном Кривоколенном переулке по соседству с более людной Мясницкой, совершенно не похожей на бросающиеся в глаза барские особняки. Дом стоял в изломе переулка и только с лицевой стороны казался трехэтажным. Службы занимали полуподвальный этаж, у флигеля же были пристроены антресоли. Вся жизнь фактически проходила в комнатах среднего этажа. Здесь у каждого было свое место. Родословная дома была короткой. Его в 1802 году построил для себя, по собственному проекту, в стиле Александровской эпохи генерал-майор Лагунский, но жить тут не стал и отдал дом внаймы отцу Дмитрия — гвардии прапорщику Владимиру Петровичу Веневитинову. Пожалуй, единственным приметным и счастливым фактом в биографии дома было то, что он не сгорел во время наполеоновского пожара в 1812 году, хотя и находился в центре Москвы, рядом с Лубянской площадью. Все было любо и дорого Дмитрию в этом милом доме. По необъяснимой, сладко греющей сердце привязанности он не мог его сравнить ни с имением в Животинном, что находится в Воронежском уезде, ни с дачами в Кусково и Сокольниках. Ему даже временами казалось, что он помнит, как родился в этом славном доме 14 сентября 1805 года, как сделал здесь свои первые шаги и сказал слова. В этом доме шла его жизнь в окружении маман, «папиньки», увы, умершего, когда Дмитрию было всего семь лет, старшего брата Петра и младших — сестры Софи и брата Алексея. Здесь проходили его первые уроки с матерью, а потом с французом Дорером — пленным капитаном наполеоновской армии и греком Байло. С последним он хорошо познал греческую грамматику, римскую и греческую литературу, и только к французской поэзии Дорер никак не мог пристрастить — не лежало у Дмитрия сердце к французским пиитам. Тут Дмитрий увлекся Плутархом, Софоклом, Эсхилом, Горацием и Платоном, пробовал переводить «Прометея», зачитывался карамзинской «Историей государства Российского» — лучшей, по его мнению, книгой в русской литературе. Пушкин увлек его недавно. В этом доме часто бывали братья Хомяковы, с которыми он дружил с детства; и не тут ли впервые прозвучали строки Алексея Хомякова, адресованные Веневитинову:«…(Народ в ужасе молчит.) Что ж вы молчите? кричите: да здравствует царь Димитрий Иванович! Народ безмолвствует».
И снова мгновенное оцепенение. И взрыв восторга. Александр Сергеевич довольно улыбается. К нему подскочил адъюнкт греческой словесности Оболенский и, взъерошив свой хохолок — любимая привычка, воскликнул: — Александр Сергеевич, милейший! Дражайший Александр Сергеевич! Я единица, единица, а посмотрю на вас, и мне кажется, что я — миллион. Вот вы кто! Все захохотали и стали кричать. — Миллион! Миллион! — А чем не миллион! — пошутил Пушкин. Веневитинов еще несколько раз встречался с Пушкиным, и, кажется, они подружились. Тем более нежеланным казался переезд в Петербург. Но что поделать? В канцелярии Коллегии иностранных дел открылась вакансия, и Веневитинову предстояло занять ее. Мама Анна Николаевна собрала необходимые вещи и со слезами благословила в путь. Плакала Софи, насупился Алексей. Вытирали слезы наставники Дорер и Вайле, старый гувернер Герке, которые так и остались жить в доме в Кривоколенном. Княгиня Зинаида Волконская, подарив Веневитинову на прощание перстень, найденный, по преданию, при раскопках Геркуланума, упросила Дмитрия Владимировича взять с собой двух попутчиков — библиотекаря графа Лаваля Воше и Федора Степановича Хомякова. За Хомякова и Веневитинова Волконская была спокойна, они не были никак причастны к событиям на Сенатской площади 14 декабря, а вот судьба Воше ее волновала. Граф Лаваль поручил Воше сопроводить в Сибирь свою дочь, жену заговорщика княгиню Екатерину Трубецкую, а по нынешним беспокойным временам все, что связано с заговорщиками, могло вызвать подозрение у властей. Дмитрий Владимирович не знал всего этого и охотно взял Хомякова и Воше в попутчики. В конце октября их два экипажа тронулись в неблизкий путь. Чтобы как-то отвлечься от дурных мыслей, Веневитинов стал сочинять стихи. Так родилось стихотворение «Новгород», задумалось еще одно — «Родина».
ПЛАТАН ВОСТОЧНЫЙ
Двадцатисемилетний француз Рене Васаль, сын Жан-Жака Васаля, приехал в Крым вместе с отцом в 1802 году, через десять лет после окончания русско-турецкой войны. По указу Екатерины II шло массовое заселение Крыма русскими и иностранцами, которым давались особые привилегии: продажа земель на льготных условиях, денежные кредиты, пониженные налоги. Жан-Жак Васаль, у которого в родной Бретани дела шли не очень хорошо, решил преуспеть в Крыму на ниве тонкорунного овцеводства. Мечтал он и сына наконец-то приобщить к делу. Рене после окончания пансиона никак не мог найти себя, тратил время на пустые опыты из естествознания, читал книги по географии, бесцельно мечтал о дальних путешествиях и даже жениться не сумел, хотя выгодные партии были. А Жан-Жак Васаль, напротив, был упрям в достижении намеченной цели, правда, российская действительность поначалу озадачила и его. В полупустынном Крыму царил хаос. Помещики и царские чиновники самовольно захватывали земельные участки, а то и воровали землю друг у друга. Крепостные крестьяне, разбегавшиеся от своих помещиков, неохотно шли на службу к Ва-салю. А тут еще сын! Великовозрастный бездельник, он совершенно распустился на крымской вольнице. Поднаторев в русском, он без конца путешествовал по самым отдаленным уголкам крымской земли и вовсе не занимался овцами. По-иному смотрел на все сам Рене. Во-первых, дела у отца шли не так уж плохо и без его участия. Как-никак стадо перевалило за восемь тысяч и постоянно росло. Их соседи по степному Крыму, немецкие колонисты, которых Рене терпеть не мог, просто и не мечтали о таких стадах. Ну, а что касается окружающей природы и непривычных после тесной Франции безлюдных просторов, то они действительно пришлись ему по душе. И в отличие от отца, который считал его бездельником, Рене, наоборот, ощущал себя человеком деятельным и целеустремленным. Скорое усвоение русского языка облегчило ему общение с людьми, а это он считал главным. Люди вели его по полуострову от одной диковинки к другой, и он уже мечтал о том времени, когда напишет книгу об удивительном растительном и животном мире Крыма. Не видел Рене, вопреки мнению отца, и хаоса в земледелии. Напротив, на его глазах год от года ширились сады и виноградники на южном берегу полуострова, все больше и больше начинали выращивать табак, строились имения князей Нарышкиных, Голицыных, Воронцовых, графов Потоцких и Понятовских. Каждое утро Рене вскакивал в седло очередной нанятой лошади и отправлялся из дома то в окрестности Ак-Мечети, то в сторону строящегося в Ахтиарской бухте Севастополя, то в деревни Зию, Мазанку, Изюмовку, которые еще во времена крымского ханства были заселены русскими, то в сторону Бахчисарая. Однажды в Кучук-Ламбате Рене разговорился со старым крестьянином. — Господин хочет знать, откуда здесь этот платан? — удивился тот. — Может, турок посадил, может, русский. Я не сажал. Русский ремесленник, переживший в этих местах не одну войну и бывший невольником у турок (на каторге два года отработал), рассказал Рене: — Этому платану лет десять будет, а посадил его помещик Зубов, которого татары убили. Но это что за платан! Вот, говорят, на побережье растет платан — один на весь Крым! Ремесленник объяснял Рене, что лет тому платану больше сотни и двое мужиков его обхватить не могут, но сам это дерево не видел. И Рене загорелся желанием повидать тот платан. На его родине тоже росли платаны, но молодые, как в Кучум-Ламбате, а тут — «один на весь Крым». Вернувшись вечером домой, он заказал наутро двух сменных лошадей, запасся шнуром для замера платана и уже собрался ложиться спать, как в дверях появился отец. — Опять весь день бездельничал? — Дай мне, отец, еще три дня, — попросил Рене, — а там я готов стричь твоих овец. — Уж не жениться ли ты собрался? — поинтересовался Жан-Жак. — На ком жениться — кругом только твои овцы, — пошутил Рене. — Захочешь — найдешь, — бросил отец. Утром ни свет ни заря Рене оседлал черного с белой звездочкой на лбу Бурана, взял сменную лошадь и отправился в путь. Стоял конец апреля. Степь полыхала красными маками. Ближе к горным склонам паслись отары и среди них отцовская, самая крупная, в четырнадцать тысяч овец. Ее стерегли русские пастухи и овчарки. Один из пастухов издали узнал Рене и помахал ему рукой. — Давай, Иван! — крикнул Рене. Уже четыре года они с отцом жили в Крыму, но, пожалуй, впервые Рене ощущал себя по-настоящему счастливым человеком. Он свободен в этих диких краях, как коршун, что парит над его головой в голубом незабудочном небе, как орел, величаво плывущий над горами, как этот степной ковыль с яркими маками. Сбылось то, о чем он мечтал с детства, — под ним сильная лошадь, и ветер странствий дует ему в лицо, а впереди необъятное синее-синее море с чайками, шаландами и парусниками да плохо обжитые, в отвесных серых скалах, берега с одинокими разбросанными тут и там имениями, виноградниками, уходившими в горы, и сохнувшими на солнце сетями рыбаков. Рене вспомнил свою мать, еще не старую женщину, которая, кажется, больше других понимала и любила его. Может, потому, что он был единственным сыном среди четырех ее дочерей, она часто рассказывала ему сказки о далеких странах, о джунглях, о мореходах и путешественниках. Рене сам мастерил из легких планок парусники, а мать шила для них из кусочков сурового полотна настоящие паруса. И они в мечтах уносили Рене в чудесные странствия к неведомым людям. А когда Рене уже подрос и учился в пансионе, мать приносила ему карты путешествий Колумба, Магеллана и Васко да Гама, и он жадными глазами впивался в эти карты, видя себя взаправдашним первооткрывателем. И вот теперь сбылись его мечты. Он тут, в дикой России, с ее так пришедшимися ему по душе нравами, и отец вроде бы доволен своими делами — отары дают большой доход, а Рене никто не ограничивает в его занятиях. Рене чуть-чуть пожалел мать, которая, конечно, скучает по сыну, улыбнулся, вспомнив, как отец намекнул ему на женитьбу, и у первого горного ручья соскочил с седла. Лошади довольно опустили морды в воду, а Рене смотрел в горы, покрытые желтой прошлогодней листвой дубов и вечнозелеными соснами. Он уже начал набрасывать карту Крыма и сейчас с удовольствием развернул ее на коленях. Белые пятна лежали тут и там, но уже проступали очертания берегов, заливы, намечались некоторые сельские дороги и горные тропы. Найдя нужную стежку, которая должна была вывести его прямиком к морю, Рене съел горсть жареных кукурузных зерен и взял лошадей за поводья. В гору он двинулся пешком, тропа была узкая и крутая, из-под ног при каждом шаге срывались камни. Так он прошел метров триста или четыреста, пока не достиг поляны, покрытой одуванчиками. Теперь можно и в седло. Через несколько часов пути впереди блеснуло море, и Рене ускорил шаг Бурана. Вторая лошадь спокойно шла следом на поводке, изредка похрапывая и чутко поводя влажными ноздрями. Рене снял потертую шляпу, украшеную тут, в Крыму, коричневым орлиным пером, поправил на себе легкую красную накидку и глубоко вдохнул чистейший морской воздух. Как и отец, парик он теперь почти не носил, хотя и доводилось встречать старых русских дворян-помещиков в париках. За откосом скалы море выплыло на него всей своей огромной бесконечностью, и только вдали, на горизонте, чуть маячили паруса далекого фрегата. Тропка пошла вниз, и вскоре Рене оказался в селении, наполненном гамом голопузой ребятни и упрямым стуком молота о наковальню. Немолодой мужик в холщовом фартуке, с волосами, схваченными тесьмой, легко орудовал молотом, а у дверей кузни толпились другие мужики, помоложе, в светлых поддевках, босые, будто с лубочной картины. — Привет, братцы! — крикнул им Рене. Ему нравилось это русское слово «братцы», на его взгляд, оно лучше других упрощало общение с местными жителями, вызывая их расположение. Так оно и было. Мужики поклонились Рене в пояс, и даже кузнец, на минуту оторвавшись от дела, смахнул рукавом рубахи пот со лба и весело подмигнул ему. Теперь путь шел по разбитой телегами и копытами после зимней слякоти дороге, и Рене свободно обгонял редкие тарантасы и повозки. Проехав две деревни — по два-три дома, окруженных редкими виноградниками и яблоневыми садами, в котловине, увидел селение побольше, в тринадцать белых домов, в тихой удобной бухте укрылись рыбачьи лодки. «Ялта», — сообразил Рене, вспомнив не раз слышанное, странное для французского уха название. Тут Рене бывать еще не приходилось. Возле одного из домов он увидел пожилого солдата. — Братец, — окликнул он его и поинтересовался, не слышал ли тот про знаменитый платан. Солдат явно смутился: — Не заслужил я такого величанья. Солдат я, в местном пограничном батальоне служу, а семья моя у их благородия графа Вершинина в поденных людях проживает. Вокруг собралась толпа любопытных — солдаты, бабы, дети, но про платан никто ничего не слышал. Наконец кто-то привел древнего, высохшего, как старое дерево, деда, почти глухого, и Рене долго пришлось криком растолковывать, что ему нужно. Дед вдруг понял и, тоже крича, удивительно молодым бабьим голосом объяснил: — Так это близко, ваше родие! Совсем близко! Вон по той тропе вверх и прямо через гору снова вниз. Рене достал свою карту и пунктиром нанес предстоящий путь. По всему побережью цвел миндаль. Бурное море бледно-розовых цветов волновало душу. И запахи! Пахло свежей листвой и травой, цветами и морем… Через час езды Рене остановился на отдых. Поел сам, накормил лошадей овсом. И снова в дорогу. Солнце уже плыло над горами. День клонился к вечеру, а конца пути не было видно. Ничего себе близко! И вдруг, посмотрев вниз, Рене не увидел, а скорее ощутил, что платан там. Он пришпорил Бурана, дернул запасную лошадь и стал спускаться. На большой площадке между отвесными скалами и спуском к морю он увидел платан — огромный, мощный, не похожий ни на какие другие деревья, росшие вокруг. Даже издали он казался неправдоподобно величественным. Было, наверное, около пяти вечера. Привязав лошадей и дав им овса, Рене принялся за дело. Он обошел платан, оглядел его ветви, похожие на отдельные деревья, в руках держал шнур, которым он делал замеры. С трудом переводил их на новую меру длины — метры, недавно принятую во Франции. Получалось необычное: высота платана за тридцать пять метров, ширина кроны — сорок пять, объем ствола — шесть. Ну, а корневище? Как его замерить? Наверное, не меньше шестидесяти метров. Рене так увлекся, что не замечал ничего вокруг. Не видел усадьбы, укрывшейся за кипарисами, не видел и девушки, что с любопытством смотрела на смуглого незнакомого человека, лазавшего по платану, как обезьяна. — Папа! — крикнула девушка куда-то в сторону дома. — Что, Катенька? — послышалось оттуда. На веранду вышел еще не старый мужчина в стеганом зеленом халате, который скрывал небольшое брюшко. — Смотрите, папа, — сказала девушка и показала на платан. Отставной военный хирург суворовской армии Дмитрий Аркадьевич Русанов с женой Марией Константиновной и дочерью Катей обосновался в Крыму еще в 1791 году, сразу по окончании русско-турецкой войны. Потомственный, еще со времен Ивана Грозного, дворянин, Дмитрий Аркадьевич близко к сердцу принял идею Екатерины II, направленную на освоение этой земли, и перебрался на новое место вместе со своими крепостными и дворовыми. Он слыл либералом и был лишен всякой дворянской спеси, памятуя, что в старые времена дворяне были всего лишь мелкими «вольными слугами». Крепостные служили ему верой и правдой, и хозяйство процветало за счет виноградарства, табаководства и садоводства. Дмитрий Аркадьевич, как и его дочь, шестнадцатилетняя Катя, с интересом наблюдал за ловким молодым человеком, занятым платаном. Заметил он и двух привязанных к соседнему дубу лошадей с торбами и валявшиеся здесь же красную накидку и потертую шляпу с орлиным пером. — Не мешай, Катенька, — шепнул он. — Посмотрим, что будет дальше. Рене тем временем закончил обмеры платана и осмотрелся. И сразу же заметил и мужчину в халате и очаровательную девушку в игривой розовой шляпке и таком же розовом, как цветущий миндаль, платье с кружевами. — Пардон, — сказал он, сразу забыв все русские слова и краснея от смущения. А Катя… Катя, кажется, ничего не осознавала. Не осознавала, как они познакомились, как мужчины завели какой-то умный, серьезный разговор, как затем гость был представлен ее матушке и все они оказались за вечерним столом. Катя смотрела на Рене, как будто знала его давным-давно, просто они много лет не виделись и вот наконец встретились, и со страхом думала: а вдруг он не понравится отцу и матери? Но почему же он не смотрит на нее? Почему? Или она не нравится ему? Рене так увлечен разговором с родителями! И что-то рассказывает об овцах и вспоминает своего отца. Да, да, и имя его назвал — Жан-Жак Васаль. И живут они, кажется, далеко, у строящегося Симферополя, который прежде назывался Ак-Мечеть. Отец поражен рассказом Рене и без конца спрашивает о доходах, которые дают овечьи отары, и сравнивает доходы, говоря о своем хозяйстве. Рене очень мило, с чуть ощутимым акцентом говорит по-русски, и порой Кате кажется, что он вовсе не француз, а русский, но такой, каких она никогда не встречала в Крыму. А вот в детстве своем на родной Орловщине она видела таких красивых мужчин, и, может, поэтому у нее появилось ощущение, что она знает Рене очень давно. За окнами стемнело. Вдали ласково плескалось море и серебрилась зыбь в лунной деревне. Стихли дневные птицы, и лишь изредка в горах слышались тихие плачи сов. И все-таки, почему же Рене не смотрит на нее? — Ты что, Катенька, молчишь? — слышит она слова отца. — Или тебе скучно с такими деловыми людьми? — Мне не скучно, — улыбается Катя. И вот Рене уже смотрит на нее, и она опускает глаза, по все равно видит его — он душенька! А Рене думает о том, что он никогда не встречал во Франции таких девушек, как Катя. Она хрупка и нежна, она умна, судя по глазам, и беспечна, она… Почему же она избегает его взгляда? Или он не нравится ей? Или у нее, неровен час, кто-то есть? Но ведь она так еще молода! Надо обязательно представить ее отцу! Интересно, как старый Васаль отнесется к Кате? Получилось как-то само собой, что Дмитрий Аркадьевич предложил Рене ночлег, и тот согласился, и отец дал распоряжение поставить лошадей гостя в конюшню. Мария Константиновна уже хлопотала, чтобы Рене постелили в комнате на антресолях. В доме вкусно пахло свежим деревом и крепким, заваренным по особому рецепту Дмитрия Аркадьевича чаем. Отец рассказывал Рене о Суворове, о котором гость так мало наслышан, а Катя делала вид, что вся — внимание, но на самом деле мысли ее были далеко. Ей казалось, что они сидят с Рене под платаном и он горячо признается ей в своей любви, а потом идет к Марии Константиновне и просит у нее руки дочери, та с радостью соглашается: «Конечно, конечно, милый друг! Мы так ждали вашего приезда!» Но что это? — Мы так рады вашему приезду, — говорит Мария Константиновна Рене. Другие слова. Значит, все это ей представилось. Потом все прощаются, желая друг другу доброй ночи, и Рене спрашивает: — Вы не возражаете, если я еще немного пройдусь? «Вот как! Один?» — с грустью думает Катя, а отец соглашается: — Будьте любезны! Вход в комнату у вас отдельный, гуляйте себе на здоровье. Рене кланяется отцу, матери и целует руку Кате. — Спокойной ночи, славная барышня! Как же это ужасно, что он уходит, а Кате надо отправляться в свою комнату, в постель. Придя к себе, Катя широко открывает окно. Рене где-то рядом, она вглядывается в темноту и видит его, идущего к платану. «Рене!» — шепчет она, но он, конечно, не слышит ее и не оборачивается. Дом затихает, а Катя, потушив свечи, все стоит у окна и смотрит в сторону платана. Рене там. Она видит, как он опустился на скамейку, как взглянул куда-то вверх, а потом в ее сторону. Он не замечает ее. И Катя вновь зажигает свечу и подходит с ней к окну. Теперь он должен ее увидеть! О, слава богу, он заметил ее: встал и помахал рукой. Катя не заметила, сколько прошло времени, как вдруг чудо: Рене подошел к ее окну, чуть приподнялся и стал целовать ее руки. Счастье, вот оно, счастье… Кате было так хорошо, как еще никогда в жизни. Она перебирала его жесткие волосы и прижималась к ним губами, а потом он оказался рядом с нею и зашептал что-то горячо-нежное по-французски. Катя не понимала, ее гувернером был немец, но она чувствовала себя счастливой, она знала: это были слова любви. Катя не затушила свечу и была рада этому, потому что не только ощущала, но и видела любимого, он принадлежал ей. И ей не было страшно, не было стыдно. Так и только так должно быть! Она уже не помнила, когда ушел Рене, как она провалилась, блаженная и усталая, в сон, как утром в комнату вошла мать. — Катюша! А мы уже за столом! Катя вскочила, засуетилась, но потом вспомнила прошедшую ночь и поняла, что теперь она совсем другая, — она женщина, и суета ей не к лицу. Она не спеша умылась, причесалась и торжественно вошла в столовую. — Доброе утро! Катя, как и Рене, ничем не выдала себя за завтраком, вот только обращаться к нему на «вы» ей было нестерпимо трудно. Дмитрий Аркадьевич и Мария Константиновна усиленно уговаривали Рене погостить еще или в крайнем случае на следующей неделе приехать к ним вместе с отцом, а Рене, в свою очередь, приглашал добрых хозяев к себе в гости. Катя, слушая эти разговоры, внутренне улыбалась: через неделю Рене будет здесь, но родители не увидят его. Он придет к ней, только к ней! Но одно дело — сказать «неделя», а другое — выдержать. После отъезда Рене Катя совсем затосковала. Как она проживет эту неделю? Время тянулось так медленно, что Катя не находила себе места. Все валилось из рук — и вышиванье и книги. И занятия с немцем-гувернером никак не шли. Однако родители ничего не замечали и, наоборот, не раз за столом при Кате вспоминали недавнего приятного гостя и всячески нахваливали его. — Удивительно воспитанный молодой человек, — говорила Мария Константиновна. — И деловой, — подтверждал Дмитрий Аркадьевич. — Человек с идеей, а это в наше время немало! — У него хорошие глаза, — продолжала Мария Константиновна. — А глаза — это очень важно. Глаза — душа человека. Катя расцвела: ведь это о ее Рене так говорят. Через неделю, как и было условлено, Рене появился близко к ночи, когда дом уже засыпал. Катя ждала его у открытого окна со свечой в руках, и вот он снова рядом с ней — порывистый, пахнущий горным воздухом и такой желанный… А ночью, обнимая ее, Рене спросил: — Ты сказала родителям? — Нет, что ты! — ужаснулась Катя. — А ты? — Я отцу все рассказал, — признался Рене. — А он? — Он у меня человек дела. Говорит: ну и хорошо, может, теперь за ум возьмешься! Катя улыбнулась. Подумав, сказала: — А я боюсь. И припала к плечу Рене. Конечно, Катя была не первой женщиной в жизни Рене. Но все, что было прежде, никогда не вызывало у него желания думать о чем-то серьезном — о браке, о детях. Да тех женщин, с которыми он имел случайную близость, никто и не прочил в жены. А тех, что прочили, в основном отец, а не мать, Рене вообще никак не воспринимал. И вот теперь Катя, которую он велением самой судьбы встретил в далекой России, завладела его сердцем и мыслями. Покорила чем? Внешностью? Конечно, она очаровательна, как горная козочка. Ее нежная кожа, серые выразительные глаза, вздернутый носик… И улыбка открытая, ясная. Но ведь не только это. Не только… Рене хотел видеть Катю своей женой, хозяйкой своего дома, матерью своих детей. И не когда-нибудь, а немедленно, сейчас. — Мы нагрянем к вам вместе с отцом, — говорил он Кате, — и я сразу же сделаю тебе официальное предложение. Правда, я католик, но это не имеет никакого значения. Ради тебя готов стать православным, мусульманином, буддистом. А отец у меня не набожен… В мае, когда установилась уже по-настоящему летняя погода, когда прогремели первые грозы и солнце пекло с утра до вечера, приехали Рене и Жан-Жак. Приехали на лошадях, важные, как показалось поначалу Кате, и торжественные. После чинного знакомства и обмена любезностями за столом шел удручающе скучный разговор о сельском хозяйстве в Крыму, о его все большей специализации, о кредитах и выручках и прочих далеких для Кати делах. Но вдруг чопорный Жан-Жак Васаль как-то смутился, беспокойно заерзал на стуле и с наивной, почти детской улыбкой произнес: — Господа! Как мне стало известно, амур задел своей стрелой сердца двух дорогих нам людей — вашей дочери и моего сына. Не знаю, как вы, но я за любовь с первого взгляда. Дмитрий Аркадьевич и Мария Константиновна непонимающе переглянулись и в один голос ахнули: — Как? Катя сидела ни жива ни мертва. — Катенька, это правда? — спросил отец. — Катюша! — воскликнула мать. — Да как же это? Катя вскочила со своего места и бросилась в ноги к матери. — Матушка, я люблю его… Тут встал Дмитрий Аркадьевич и расслабленно произнес: — Так о чем речь? Конечно, конечно! А через минуту они уже пили шампанское, и Дмитрий Аркадьевич без конца повторял: — Вспомни, Мария Константиновна! Ну, все, как у нас с тобой! Ведь так? A-а!.. Так выпьем за будущего наследника! — А может, за наследницу, — робко сказала мать. — И за наследницу тоже, — согласился отец. А в июне молодые люди обвенчались. Венчание происходило в Симферополе, поскольку ближе действующих церквей не было. В десять утра все собрались у храма. Катя была прелестна в подвенечном платье. И Рене красив — модный, строгий сюртук, а на голове парик. Родители чуть в сторонке, а на первом месте поручители — со стороны жениха и невесты — молодые, взволнованные ответственностью своей роли. Тут же стоял хор. И вот всех приглашают в церковь. В храм вносят маленькие иконы, а здесь их ждет уже икона побольше, и, конечно, сам батюшка. Он не стар, и, как кажется Кате, необыкновенно красив. — Господи боже наш, славою и честию венчай их, — произносит священник и три раза осеняет молодых золотым крестом. Рене и Катя обмениваются кольцами… Батюшка читает молитвы из Ветхого завета и шестнадцатое зачало от Иоанна из евангелия. — Боже пречистый всея твари содетелю, — разносится под сводами храма. — …Ижи тайного и чистого брака священно действителю… Свершилось! Три дня праздновали свадьбу в имении Васалей, а потом молодые и Катины родители отбыли на побережье в имение Русановых. Дмитрий Аркадьевич и Мария Константиновна отвели Кате и Рене половину дома из трех комнат и маленькой веранды. Время шло, и Катя готовилась стать матерью. Рене купил ей очаровательную куклу, похожую чем-то внешне на нее, и она с утра до вечера возилась с ней — пеленала, обшивала, переодевала, как взаправдашняя мать. — Хочу, чтоб у нас была девочка, — говорил Рене. — Как ты. Может, он хотел порадовать Катю, а может, и в самом деле мечтал о дочери. Пусть первой будет дочь, а потом и сыновья пойдут: ведь впереди вся жизнь. Но судьба распорядилась по-иному. И после женитьбы Рене много колесил по Крыму, делая записи и составляя гербарии. В это время по полуострову прокатилась эпидемия холеры, и Рене не удалось избежать ее. В сентябре он свалился у отца в постель, а потом был помещен в военный госпиталь. Все старания Жан-Жака Васаля, пригласившего для сына лучших лекарей, ни к чему не привели. В начале октября Рене не стало. А в ноябре скончался от холеры и Жан-Жак Васаль. В декабре Катя родила сына. Его назвали Андреем.Я приехал в эти места глубокой осенью, когда в Москве уже лежал снег, а тут, в Крыму, ярко светило солнце, было совсем тепло, и некоторые смельчаки окунались в море. Я бродил по дорожкам старинного парка, читал непривычные таблички с надписями: «лох узколистый», «калина вечнозеленая», «буксус балеарский», «дуб пушистый», «кипарис горизонтальный», — и вот наконец он. Боже ты мой, какая громада! Высота — метров под шестьдесят, ширина кроны не меньше, а объем ствола — метров за восемь. Ну, а корневище? Наверное, не меньше восьмидесяти метров. Кое-где даже асфальт вздулся. Дерево покрыто желтой шелестящей листвой. Листья огромные, пятипалые, в толстых извилистых прожилках. «Платан восточный, — читаю я. — Родина Сев. Америка. Посажен в 1702 г.» Сколько ветров пролетело над его головой, сколько войн прошумело, сколько людей прошло мимо по коротким дорогам жизни своей! А он, как и море, кажется, вечен.
МУЗЫКА
Командировка. Собор. Орган. Лекция. Университет. Бах. Ульяновский оркестр. Эстонский хор. Латышский ансамбль скрипачек. Гендель. Чайковский. Гайдн. Бетховен. Бородин. И совершенно неизвестные прежде, даже по фамилиям, Экклс, Регер, Франк, Букстехуде. Музыка. Когда он любил ее? И не понимал, а тут… Прелюдия и фуга Ре мажор.Странно, зачем он приехал сюда? Командировки были и прежде, но деловые — на заводы, на космодром. Там было все ясно. Или успех, или неудача. После успеха была радость. И награды, которых он получил больше, чем за все годы войны. А вообще командировок было не так уж много. Когда у тебя лаборатория и ты отвечаешь за нее, куда ты вырвешься? В отпуск — и то раз в три-четыре года. А отпуск — это тоже работа, самая счастливая. Формулы, опыты — все, что не успеваешь сделать на службе. Да и нельзя сделать. Там — рядом люди, а для своего — ты должен остаться один на один с самим собой. Лучшее у него получилось как раз в такие часы, дни и недели, если они были. И вот — эта командировка. В гостиницу не пустили, сказали; — Может быть, что-нибудь завтра… Не будешь объяснять, кто ты и что, а если подумать всерьез, то приезд для одной лекции и каких-то неясных пока встреч и бесед вовсе не довод, чтобы тебя устраивали в чужом городе. Права эта суровая администраторша! Он и сам спрашивал в Москве, когда не соглашался на эту командировку: — Зачем? Но сказали: — Надо! Понимаете, надо. Вы — самый, вы… Там нужны именно вы! Вечер и за полночь он бродил по заснеженному и ка-кому-то очень непохожему на русские городу. Город был чем-то похож на холодный Ленинград и на Париж, если о нем можно судить по кино и телевидению, и на что-то очень древнее, особенно в старых своих улочках. Средневековье? Может, и так… Но сыпал снежок, сыпал тепло и ласково, и старые улочки с фонарями и лампочками над подъездами, с полуосвещенными окнами и мрачными стенами были очень красивы. Почему-то он вспомнил Юру, Гагарина Юру, своего младшего доброго друга, которого сейчас уже нельзя называть просто по имени и подумал: «А он ведь, кажется, не был здесь?..» И еще подумал: «Черт с ними, что не пустили в гостиницу! А я — тут!» Ради этого и в самом деле стоило сюда приехать. Выбравшись из каких-то улочек-переулочков, кривых и мрачных, он попал на площадь и увидел огромную церковь, вернее — собор. Он был высокий, даже ночью, устремленный ввысь и чем-то очень знакомый. Чем? Да, видел такие же. Где? В годы войны?.. Да, в годы войны. В Германии, в Австрии, в Венгрии, в Чехословакии? И там такие соборы, но этот собор… И он вспомнил. Это — Краков. Это — сорок пятый. Январь. Тогда был спасен город, тогда хоронили погибших. Рядом был собор, такой же, почти такой же, и, когда опускали в могилы завернутых в плащ-палатки друзей, собор вдруг заговорил, словно вздохнул: заиграл орган. Кто-то из поляков вдохнул воздух в меха органа, и звук его — трагический и мужественный — заглушил наш чахлый военный оркестр. И тогда рядом была Нина. Военфельдшер. Нина Королева. Нина Федоровна. Москвичка. Его ровесница из отряда морской пехоты. И морская пехота брала Краков. Все это роднило его с ней. И не только это. Но просто он был глуп в то время, восемнадцатилетний младший лейтенант. А ведь, кажется, она… В Дрездене они виделись мельком, а потом в Праге, а что было потом?.. В Австрии и Венгрии он ее уже не видел. Ночной город. Зима. Снег. Мягкая погода. И рядом — собор, такой памятный, хотя… Все равно хорошо. Пусть не пустили в гостиницу — хорошо. Пусть эта глупая командировка — хорошо. Пусть… Рядом с собором, а потом и на соседних улицах он заметил афиши, скромные и большие, русские и местные, и опять открытие: здесь, в этом соборе, оказывается, — концертный зал и органная музыка. Ничего он не понимает в органной музыке. Вообще — в музыке. Но это надо послушать…
Под утро захотелось чуть отдохнуть. Сегодня у него лекция в университете. Он, конечно, расскажет студентам обо всем, о чем можно рассказать, и о том, если отбросить скромность, что во многих летающих аппаратах есть доля его работы, а вернее — во всех участвуют сотрудники его лаборатории, потому что без горючего, как все понимают, ни автобус не пойдет в рейс по земле, ни более сложные машины в небо. И здесь, на этой земле, как он знает, есть его прибор, а точнее их прибор, который изготовлен в его лаборатории, для проверки и подтверждения действия горючего при высоких скоростях и большой атмосферной нагрузке. А потом у него должна быть встреча с профессорами университета, в Академии наук, и, кажется, в обществе «Знание». Он пошел в сторону вокзала, чтобы хоть там найти стул и чуть-чуть посидеть, но вдруг по пути увидел ночное кафе. Это было чудо, к которому он не привык. И когда он вошел туда, и с него взяли четыре рубля («Сегодня без программы»), он был счастлив и доволен, оказавшись в тепле и в звуках шумной музыки. Милая женщина подошла к нему, как только он сел за отдельный столик, и сказала: — Добрый вечер! Сверх положенного будете заказывать? Вы — один? Ему понравилась эта женщина, и вся уютная обстановка кафе, и вежливость, к которой он не привык, и потому он ответил: — Добрый вечер! Все, что вы посоветуете. Я один. И добавил, уже шутя: — Только с учетом сохранения моей талии! Хорошо? — Ну, вам ничего, по-моему, не грозит! Вы такой — элегантный… В эту минуту он почему-то подумал о концертном зале в соборе и о том, что надо с утра взять билеты. А то вдруг это сложно?
Как все это было — не скажешь. Она назвалась Олей, но он спросил отчество. — Васильевна, — сказала она. Он как-то не мог называть ее без отчества, хотя она — девочка, и рядом с ним очень уж молода. Когда она подходила к его столику и о чем-то спрашивала, и надо было что-то отвечать, он отвечал ей и говорил даже какие-то несвойственные ему слова, но неизменно: — Ольга Васильевна… В кафе теперь звучала тихая, но непонятная, утробная музыка. — Вам нравится? — спрашивала она. И он говорил: — Нравится, Ольга Васильевна. Она была красива, внимательна и очень молода, и он боялся ее чем-то обидеть. И ему было хорошо здесь. Когда закрывалось кафе, они вышли вместе. Так случилось. Какая-то его фраза, и Ольга Васильевна попросила: — Вы меня подождете? Я мигом. Но только на улице и не рядом с кафе. Чуть левее. Ладно? Он ждал, и потом они вместе шли по ночному городу, хотя по часам уже было почти утро, но зима — это зима, и до рассвета было далеко. — А вы не были замужем? — спрашивала она. Смешно было отвечать на этот вопрос, но еще неразумней оговаривать ее («замужем», а не «женат»), она и в этом — сама юность, молодость. — Нет, не был… Как-то так не получилось… — А почему? — спрашивала она. — Да как вам сказать, Ольга Васильевна? Любил когда-то одну женщину, но это давно было, на войне… А потом? Ничего не сложилось… — И детей нет? — неожиданно спросила она. Он смутился и пошутил: — Раз жены нет, то, конечно, и детей… Как себя вести с ней, о чем разговаривать — право, он не знал. Но ему было радостно, что она идет рядом с ним, такая молодая и красивая, и он вроде бы не противен ей, нужен. Сколько ей лет? Двадцать, двадцать два? Поверив в себя, он спросил. — Двадцать шесть, — ответила Ольга Васильевна. — Всего двадцать шесть. Но, знаете, как я завидую вам и вообще таким людям, как вы. Войну прошли, все у вас… А мы? Мне, например, с моими ровесниками как-то неинтересно, скучно. Еще они говорили о тресте столовых и ресторанов, где работает Ольга Васильевна, где ее все хвалят, и вот на Доску почета повесили ее фотографию, увы, не самую лучшую, но сняться хорошо она не успела, и о кафе, которое знаменито в городе, и где все девочки очень стараются, поскольку сфера обслуживания сейчас — главное, и об этом всюду говорят. И еще о чем-то… «Влюбился! Дурак! Идиот! Влюбился! Зачем?» — думал про себя он, а сам слушал Ольгу Васильевну. — Вы не в сфере обслуживания работаете? Он смутился: — Что вы, Ольга Васильевна! А подумав, добавил: — Впрочем, в какой-то мере… В самом деле, почему его дело — не сфера обслуживания! Это даже забавно, что Ольга Васильевна подсказала ему такую мысль. Над городом появились тучи и начался снегопад. Сильный, захлестывающий лицо, с ветром. Ольга Васильевна прижалась к нему, взяла под руку, и они невольно заспешили. Чтобы не молчать, провожая ее, он задавал дурацкие вопросы: — А вы замужем? — А ребята? — А мама с папой? Ольга Васильевна отвечала. Оказывается, и у нее не сложилось. Был муж, Петя, лейтенант. Очень хороший муж и человек прекрасный, но молодой, и они как-то не нашли друг друга, хотя она приехала сюда ради него из Новосибирска. Может быть, в чем-то она виновата. Она — человек здравый, и все понимает, и не надо сваливать свои недостатки на мужчин. Но так уж случилось. А дети? Это ужасно. Были дети, но умерли. И папы с мамой нет. «Не глупая, — подумал он, — Хотя и очень молода…» Но ему опять было очень хорошо. Дом Ольги Васильевны был почти рядом с собором. — Зовите меня, пожалуйста, просто по имени! — попросила она. — А то мне как-то неловко. А мы завтра увидимся? — и рассмеялась: — Почему «завтра», сегодня? И он назвал ее по имени: — В самом деле, а что если мы сходим в этот собор на концерт органной музыки, Оля? Как вы смотрите? — Прекрасно! — сказала она. — Отличная идея! Я ведь сама никогда не была, а все говорят, интересно… Он поцеловал ей руку, что делал не часто. — Какой вы, право! — смутилась она. — До вечера, Оля!
В семь утра, еще побродив по городу, который теперь ему казался таким прекрасным, он подошел к гостинице. Какие-то шумные иностранцы выходили из дверей, и он рискнул войти и спросить: — Номер? Как?.. И тут — необычное. Администраторша заговорила с ним вдруг любезно, не переставая улыбаться: — Ну, зачем же так?.. Как — вы! Такой человек! Да вы бы вчера!.. Кстати, вас с наградой можно поздравить? Наслышаны, наслышаны! Не скромничайте, не скромничайте! Но, какой вы — скромник! Так появиться и даже фамилию не назвать. А вами тут уже все интересуются. И мы вас ждали! Люкс вам, по высшему разряду…
К вечеру он «отработал» и встречу со студентами, и профессоров университета, и общество «Знание», где все было как-то непривычно, волнительно, но хорошо, и успел еще взять билеты на концерт. Это его беспокоило. Они встретились с Олей, как договорились, без четверти семь, прямо у собора. А потом был концерт. Орган. Бах. Оркестр и хор. Гендель. Чайковский. Гайдн. Бетховен, Бородин. И совершенно неизвестные прежде, даже по фамилиям, Экклс, Регер, Франк, Букстехуде. Оля сидела рядом и слушала, а когда зазвучала прелюдия и фуга Ре мажор, он совершенно забыл все и оказался в Кракове, в январе сорок пятого, и увидел Нину, Королеву Нину Федоровну из отряда морской пехоты. А хоронили тогда Каляева Васю, фоторазведчика Костю Николаева, младшего лейтенанта Соловьева из их части и еще многих — из других. И из отряда морской пехоты, где была Нина… И когда Оля тронула его за руку и что-то прошептала, он не понял: — Что, Нина? Но и она, видно, не поняла, что он ошибся, и не обиделась: — Я говорю, что если эти билеты в сорок девятом ряду стоят по рубль пятьдесят, то сколько же стоит первый ряд? Он не стал ничего объяснять, хотя первый ряд тут не лучший, он под самым органом, но бог с ним. После концерта они шли молча. Изредка Оля о чем-то спрашивала, он что-то отвечал. Город был присыпан мягким снегом, и все это — снег и улицы, и площадь, и собор, и звуки органа были не здесь, а там — в Кракове. Тогда, в сорок пятом, был такой же мягкий снег. Они подошли к подъезду. — А у меня ведь никого нет, — сказала Оля. — Зайдете? Он промолчал. — А если я очень попрошу? — сказала Оля. — Очень. — Нет, нет, в другой раз, — сказал он почти виновато, и что-то добавил еще — про занятость, про кого-то, кто должен ему позвонить в гостиницу. Он поцеловал Оле руку и заторопился. «Как вернусь, обязательно разыщу ее! Ну, пусть Нина замужем, пусть дети, но я имею право просто узнать, как она, что?»
Ольга Васильевна, Оля, не спала всю ночь. Где-то мерещился ей страшный собор без потолка и крыши, и гремела музыка, и было тепло и уютно рядом с этим странным человеком. Она плакала от счастья и от обиды и думала, зачем наврала все про Петю и детей, которых никогда не было.
МОИ ПАУЛЬ
Память. Не забываем ли мы порой о ней? А все произошло мгновенно. Мотоциклисты неслись один за другим, ревели моторы, и вдруг последний соскакивает с дороги, летит в мою сторону, удар о сосну, и я бегу к нему и что-то делаю, и рядом никого. Он что-то дико кричал по-эстонски и матерился по-русски, и я тоже кричал, а потом — больница, и люди в белом, и вопрос о группе крови, и еще что-то… И — еще, в тот день я не попал на кладбище, куда должен был попасть. И — еще… Как же звали его? Как?Есть под Таллином место — Пирита. Кто был, знает — за Кадриоргом, за памятником Русалке — вправо, вдоль моря. Именно — место, иначе его не назовешь. Ни деревня, ни поселок, ни городок-спутник, хотя, может быть, и спутник. В Пирите есть все — приметы старого и нового. Развалины собора и красивые яхты в устье реки. Плохо устроенный современный пляж, куда съезжаются таллинцы, и модные кафе и рестораны, где по ночам Гершвин звучит так, что его не понял бы и Утесов. В Пирите люди гуляют, отдыхают, проводят мотокроссы, известные всему миру, и собирают грибы, и ходят на кладбище, которое рядом, как раз на трассе спортивных гонок, и потому стволы деревьев вокруг трассы увешаны мешками с песком: чтоб в случае чего удар был мягче. Впервые я попал в Пириту после войны. Пирита была не такой, как сейчас. Конечно, я не попал бы туда, если бы не обещание, данное в Москве: сходить при случае на кладбище, найти могилу отца моего друга, спортивного журналиста, и положить, если можно, цветы. Это было в пятидесятом году, осенью, в воскресенье, в день моего отъезда из Таллина. Я и дела так раньше продумал, и билет обратный заказал на вечерний воскресный поезд, чтобы выполнить это частное, но важное для моего друга поручение. Но оказалось, что именно в этот день в Пирите — мотогонки. Значит, автобусы туда будут переполнены. И я пошел в Пириту пешком. Шел через Кадриорг, где, кудивлению своему, обнаружил дом Петра Великого, и рядом — мимо памятника Русалке, который поразил меня своей русской простотой и романтичностью, и дальше вдоль моря. Спрашивать дорогу никогда не любил и не люблю, и шел я наугад, и не понимал только одного. Автобусы проносились по дороге в ту, нужную мне сторону, и мчались такси… По так и у нас бывает. А тут, незнакомый мне край… Наугад — не наугад, а когда я дошел до Пириты, все понял. Тысячи людей, рев моторов, флаги, милиция, транспаранты на эстонском и русском — какое тут дело до меня и до моей задачи? Меня не пускают ни через мост, ни дальше, и никто не понимает, что я ищу кладбище, а к мотогонкам равнодушен. Все же я понял, что кладбище находится в лесу, и стал пробираться в ту сторону. В руках у меня были цветы, купленные в Таллине, — я не знал, что у кладбищенских ворот есть цветочный магазин, но как раз эти цветы и выручили меня в переговорах с милицией. Самые приличные милиционеры, когда я просил их пропустить меня «хотя бы туда» и объяснял, зачем, говорили! — Ладно, давай, только быстро, пока… — На ту сторону? Да ты что… А… Ну, мигом тогда! — …И чтоб никто тебя не видел! Путь к кладбищу все время пересекал трассу мотогонок, но это и помогало мне. Милиционеры волей-неволей подтверждали, что я иду правильно. И вот, когда уже кладбище было рядом, и я дошел до главных ворот, и увидел часовенку в глубине, все и случилось. Ревущие мотоциклы. И удар о сосну. И — кровь. И мотоциклист, который был ранен, И больница, куда я привез его…
С тех пор много воды утекло, и не раз я бывал в Таллине, и на кладбище в Пириту как-то попал вместе со своим другом. Узнал, что обладатель скромной, по-эстонски ухоженной могилки — старый заслуженный коммунист, соратник Виктора Кингисеппа, что фамилия у него, как и у друга моего Венникас, а имя-отчество Ричард Тенисович. Тогда я понял, почему и у друга моего такое отчество. Раньше я удивлялся, что он «Ричардович», связывал это как-то детскими литературными воспоминаниями — «Ричард Львиное Сердце», а оказывается, все просто — сын старого эстонского большевика, Ричарда Тенисовича… Мы поставили цветы на почти невидимый бугорок, полили землю, вытерли мокрой тряпкой мраморную дощечку с фамилией и датами, убрали сухие листья с зеленой травы, а потом взяли рядом у дорожки несколько горстей песка и посыпали им землю вокруг могилы. Когда мы уходили, я видел, как люди собирают на кладбище грибы. Их, грибов, оказывается, много здесь — и рядом с могилами, и чуть ли не на самих могилах, и вот ходят люди с целлофановыми пакетами в руках и собирают — подосиновики, сыроежки, маслята. Маслята здесь особенно кучно растут. Странные люди! Но почему странные? Одни, видно, приехали сюда к своим, а потом уже попутно достали мешочки и кладут в них грибы, не пропадать же добру, которое на рынке стоит не дорого — не дешево, а не меньше рубля за малую кучку. А другие… Но я не стал ничего говорить своему другу. На шоссе перед кладбищем пронесся мотоцикл, и потому я вспомнил пятидесятый год, когда я не попал на кладбище, и все, что было тогда — пострадавшего мотоциклиста, больницу, переливание крови… — Подожди! Ты мне говорил все это, но только сейчас я сообразил. Подожди! Как его имя? Я старался вспомнить. Как? Ведь знал, помнил тогда, а сейчас? Сейчас не помнил. — Я слышал эту историю, — сказал мой друг. — Неужели ты не помнишь… И он назвал имя и фамилию: — Он? Теперь и я вспомнил. — Конечно, он! — Так он десятки раз занимал призовые места. Золотые, серебряные медали. И у нас, и за рубежом. Я же писал об этом! Его имени не знать!! Я, увы, не знал его спортивного имени. Не следил за прессой. И «Советский спорт» не читал. Я увильнул, схитрил. — Нет, я помню, конечно, помню, что он — Пауль, но вот… — А, кстати, через три, ну чуть меньше, недели здесь опять будет мотокросс. На приз Европы! — сказал мой друг. — И уж Пауль, конечно, там будет! Он же в пятерке сильнейших. Может, махнем? Я-то приеду обязательно. А ты? Не говори мой друг об этом, я бы и не думал о том. О том — в пятидесятом, о том, как не выполнил поручения его, о том… Но сейчас трудно. Он говорит. А я думаю о своей памяти и почему-то о грибах, которые растут на кладбище. Он говорит. А я думаю о его отце, который похоронен здесь. Он говорит, а я думаю о Пауле… — Неужели он тебе ни разу не написал? — спрашивает мой друг, когда мы подходим уже к Пирите и садимся в автобус. Ну, что мне сказать?
Мы встретились с Паулем на кладбище в Пирите. Это было неожиданно. Но это было. Пауль нес прах своего отца, который умер в Москве и сожжен в крематории, и он, отец, просил сына похоронить его на кладбище в Пирите. — Я счастлив, что встретил вас, — говорил Пауль. — Ведь помните все, что было? И во мне — ваша кровь… Я, конечно… Даже спасибо вам не сказал… Я… Авоська с мраморной урной была тяжелая, и пока мы шли от автобуса до места захоронения, я не выдержал: — Давайте, помогу вам… Потом я нес авоську с урной, потом мы ее опускали в могилу. — Отец был честным коммунистом, — сказал Пауль. — А вы здесь? Почему? Мне очень неловко… На сей раз я был на этом кладбище совсем по другому поводу. Поводов этих все больше и больше. Но теперь — не обещание, данное другу. Теперь — просто друг, товарищ, ушедший из жизни раньше, чем можно было. После захоронения урны мы зашли с Паулем и на могилу моего друга, и на могилу Ричарда Тенисовича Венникаса, где я узнал, что как Венникас был собратом Кингисеппа, так отец Пауля был сотоварищем Венникаса по целлюлозному комбинату имени Кингисеппа. Прежде я не знал этого. Мне неловко было спросить Пауля о том, как он выступал на приз Европы, хотя мысль эта все время крутилась в голове. Опять помог мотоцикл, на сей раз не кроссовый, а чей-то домашний, с коляской, когда мы вышли из ворот кладбища. — Не спрашивайте и не говорите! Восемнадцатое место! Но какое это имеет значение, когда… Вот — память! Да, память. Не забываем ли мы порой о ней?
ВАСЯ — МАТОЧКИН ШАР
Иногда снег идет как косой дождь. Иногда — как прямой, в сильную грозу, без ветра. А сегодня снег падает странно. Робко, медленно, даже не хлопьями, а маленькими звездочками, не видимыми глазу, словно он, снег, не уверен, что задержится на осенней, еще не остывшей земле, и на деревьях с чуть пожелтевшей листвой, и на живых лапах елей. И летит снег на суда в затоне так же неуверенно — на теплоходы, пароходы, буксиры, самоходки. А они, готовясь к зимнему ремонту, пристроились, приткнулись друг к дружке, но еще не остыли после летних и особенно осенних напряженных хлопот, и снег летит неуверенно, потому что суда еще теплые и даже горячие после работы. О судоремонтных мастерских и говорить нечего. Они всегда дымят, дышат теплом, и снег обходит их, облетает, боясь растаять, а может быть, он и тает, и потому не виден на крышах цехов и на дворе, не то что в лесу рядом с мастерскими, где его уже много. Но в лесу еще и птицы — сойки-кукушки, красивые, большие, под стать каким-нибудь заморским, поползни северные и князьки, московки, серые синички, и черные дятлы с краснинкой, и молодые вороны, и сороки, и лохматые, взъерошенные воробьи — все пернатое обилие среднерусских лесов — стряхивают с деревьев снег, и, конечно, снегу это не нравится, он не торопится, выжидает… Вот и Вася Маточкин ждет. Чего он ждет? Этого он и сам не знает, и другой — никто. Снег и земля ждут наступления перемен. Перемены придут с настоящей зимой, обязательно вот-вот придут… И Вася ждет. Чувствует, понимает, что вот-вот должны произойти в его жизни какие-то перемены. Решительные, главные. Ожидание это началось давно: может, оно бродило в нем и летом еще, и весной, и даже в прошлый год, но оно не прорывалось, только щемило душу и беспокоило. Впрочем, он сам догадывался, знал, что и как произойдет, что должно быть, но тут случился этот неожиданный разговор с Ниной, и он вроде бы запутался. А потом ему не хотелось, чтобы это шло от нее… Гордость там или что, но он давно хотел решить все сам, а тут она опередила…— А ты, Вась, не сердись, но скажу тебе по чести: ты просто обыватель. И не спорь! Пусть с добавлением «советский». Советский обыватель! Лучший в мире, как говорят. Это что, хорошо? По-моему, хуже в тысячу раз… — Но я же, Нин… Он и не спорил. — Ты! Ты! Все знаю! Но что в тебе есть? Вера? Идея? Одни обязанности… Ты и ко мне пришел… А ведь было! И страсть у тебя была, не постельная, а другая. Когда там — всякие культы и некульты. Вспомни, я тебе верила… Он опять, в какой уже раз, отметил про себя: умная она, умная, но всегда тихая, спокойная, и вдруг… Сказал же другое, чтобы как-то оправдаться, что ли: — Но мы работаем… — Ах, вы работаете! — она кисло усмехнулась. — А другие не работают? Ты скажи мне, кто не работает? У нас? В Америке? В Китае? В Африке? А люди-то разные, и все по-разному у них. Думаешь, какой-нибудь Рейган баклуши бьет? Но ведь Рейган и тот же Кеннеди — есть разница? — Наверное, есть… Но что с ней сейчас? Он и сам не понимает, но зачем этот разговор? Как некстати! Как некстати! Ведь он пришел… Ему было не по себе. Нет, он определенно скотина рядом с этой умной, да, умной, тысячу раз умной… — Нин, — сказал он, — я не по обязанности к тебе пришел… Зачем ты так?.. Я хотел… Слушай, давай поженимся? Он сказал это совсем не так, как хотел сказать. Но сейчас ему стало жалко ее и самому стыдно, что все что-то не так и было и есть, и недаром он об этом уже столько думал. Странный, конечно, он человек, Вася Маточкин! Думает одно, а делает другое. Осуждает себя за сделанное, а потом опять говорит вовсе не то. Слова, получается, одно, а мысли — другое. К Нине его тянет. Почему? Он сам не знает. Тянет, когда ему плохо, когда просто неясно что-то. А когда хорошо? Когда хорошо, он почему-то не думает о Нине, и о Костике, и о доме ее не думает, а потом вновь идет к ней. Получается так, что, когда ему хочется, он идет, когда ему не хочется, он не идет. А ведь ему хорошо у Нины. Хорошо, ясно. Иначе почему его тянет к ней? Может, она, Нина, та пристань, к которой пристают суда? Но ведь и пристани бывают разные. У одной судно останавливается на пять минут, на час, на два, мимо другой проходит без остановки. Но Нина — не та пристань. И он — не то судно. То, не то. Как трудно Васе разобраться во всем этом! Ему все непонятно, и он хочет… — Я и Костика, если хочешь, усыновлю, — пообещал он. Вновь не то он сказал. Она могла обидеться за это «если хочешь», и при чем тут это «если хочешь»? Он сам должен… — Не надо, Вась, — попросила Нина. — О нас с тобой не надо. Я ведь не о том… — О чем же? — О тебе… Вася не знал, что ответить. — Другой ты был… Просто другой. И я у тебя, дура, училась. Вспомни, как ты раньше? Мы анекдотики слушали, а ты? Ты же спорил, что-то доказывал, свое суждение имел! И прав оказался. А потом… Обыватели анекдоты рассказывали, ты — правду-матку, размышлял, думал, а сам стал этим самым. Ну, в общем, которому все… — Я… Он ничего не мог сказать о себе и потому повторил: — Я пришел, Нин… Впрочем все это было давно, месяц или больше назад, и потом они много раз виделись, и Нина уже не говорила ни о чем, — женщине нужна ласка, — а он — все думал. День на день не приходился, но сегодня был день — из дней не самый худший. В цех пришли новые станки, и оказалось, что новые нормы, которые всех пугали, не выдумка, не бред начальства, не козни против заработков, а — ничего страшного. Норму дали всей бригадой спокойно и перехлестнули еще процентов на пять — тоже легко, но ведь это — первый день. Станки непривычные, настроение настороженное, а так — пойдет, жить можно! В обеденный перерыв приходил главный инженер, похвалил, а такое не часто случается, сказал: — На знамя, бригадир, тянешь? — Нам бы хоть и премиашку, Виктор Афанасьич… — Будет знамя, будет и премия, если все цеха так, — пообещал инженер. Опять же — приятное. Виктор Афанасьевич — начальство. Конечно, и начальство разное бывает, и кто знает, какой он, а похвалил. Что ж! И что-то еще было. Да, начальнику рыбохраны помог в моторе разобраться. Попутно, не отрываясь от работы. А тот трешку отвалил. Отказывался, но взял. Лучше большой ум у малого начальства, чем малый у большого. Но не это. Что-то другое еще было. Нет, не вспомнил. После работы, не успел он сполоснуться под душем, одеться и запрятать в сумку мокрое полотенце, его окликнули: — Маточкин! — Слышь, Шарик! — Ну? — Так как сегодня, решено? Подошел третий: — Так что там Маточкин Шар? Что он запрограммировал? Идем? А пинензы есть? — Идем, конечно, — согласился Вася Маточкин. — Только программа не моя гамма. Вы ж придумали… — Да ладно, брось! Сложимся по-юбилейному… — У меня трешка есть, не юбилейная, бумажная, — сказал Вася. — Так это, брат, класс! — Класс без прикрас, — сказал Маточкин. — Только… Ребята перебили: — Сыплешь, Маточкин! Ну и молодец же ты, Шарик… — Как из рога мудрости! — Тебе бы, Маточкин, впрямь, этим, как его, Далем стать: тот собирал всякую словообразию, а ты сам такое напридумываешь! Записывать успевай! Только вот жаль, похабного нет. А говорят, даже Пушкин… Они вышли за ворота мастерских, и вдруг Маточкин неожиданно скис, остановился, долго копался в карманах и, вынув наконец трешку, виновато сказал: — Вы идите, ребята. Идите без меня. А я… — Опять к своей Ниночке с Костиком? — Нет… Они что-то говорили, острили опять, но трешку взяли без особого сожаления. И ушли. Как-то весело ушли. А Вася Маточкин просто был счастлив. И горд. Что-то случилось, и он победил себя. Победил! И первый раз — победил. Вот отказался сейчас идти, отказался, может, сам не зная почему, а отказался. Значит, он… Все говорили: «Маточкин! Маточкин!», «Парень-то какой!..» Ну, а правда, какой? Никто ничего дурного не скажет. На производстве — да. В компании — да. В партком избрали. Никто не знал другого Маточкина: знали веселого, незлобивого, безобидного. Ну прямо как Бондарчук, играющий Пьера Безухова в «Войне и мире». Но и это сравнение не очень точно: тот только ходит да лица строит, как бы страдая, а Маточкин — работник, человек дела, и тут ему цены нет. Рабочий класс! Его бы в третью серию — на Бородинскую битву! Показал бы Маточкин Шар! Чужая душа — потемки. И у Маточкина — потемки, только свои. С просветлениями. Он сам не знал, что и как. Кто бы поверил, что веселого, толстого, доброго, передовика, члена парткома, лучшего друга всех друзей, у которого все взвешено, все продумано заранее, который никогда ничего не допустит, угнетает что-то? Кто бы поверил? А Васю Маточкина действительно, что-то угнетало. И давно. И не то, что его этим Маточкиным Шаром прозвали. Это все по добру, хотя он и не виноват вовсе, что такой: ну не шар, а огурец июльский. Это уж точно! Такой с детского дома. Там еще говорили: обмен веществ. На это он отвечал просто, даже когда еще только приехал сюда и впервые услышал про какой-то Маточкин Шар, как потом оказалось — пролив между Северным и Южным островами Новой Земли. В клубе в энциклопедии вычитал. Баренцево и Карское моря, и Новая Земля, и небольшие ледники на скалах, и арктическая тундра с колониями птиц, и промысловые поселки — все это было так далеко отсюда, от их поселка. Ну, Маточкин Шар и Маточкин! Что такого! Совпадение! А ребята тут хорошие. И острят необидно — так, для забавы! Другое угнетало — подспудно, тягуче. С годами — больше. Боялся признаться себе — все равно тянет. Чувствовал, тянет, покою не дает. Совесть, что ли, гложет? Совесть гложет — никто не поможет. А сам? Может, не совесть вовсе, а другое. Вот в газетах пишут, объясняя непонятное: социологические исследования. Институты какие-то есть. Что-то они там изучают, кого-то проверяют, анкеты проводят, опросы. Нет, не то это! Какая откровенность в анкетах да опросах? Он бы сам написал такое: ясное, как солнышко в морозный день… Маточкин — человек хороший, неплохой в общем. Это все знают. И в цехе, и в мастерских, и в парткоме. И сам Вася соглашается, многие годы считал так, был доволен своей судьбой. Но потом что-то случилось, стряслось, и подорвалась в нем эта вера… Когда-то и где-то он прочитал книжку. Говорилось там о русской княжне и еще о том, как праздновали все день ее двадцатипятилетия. И там все называли ее по имени-отчеству, как взрослую. Васю так называют только на заседаниях парткома, да и то не всегда. Скажут иногда: «Вот Василий Николаевич…» или «Товарищ Маточкин правильно отметил, что…» А так… Васе не двадцать пять, но и не двадцать. Двадцать три. Лермонтов, говорят, в двадцать один уже классиком был. И Пушкин. А многие к этому возрасту уже погибли. В войне опять же — тут и говорить нечего. Уважаемые герои, партизаны и офицеры. Космонавты — опять же… А ведь космонавтов жены встречают. Кто бы встречал Маточкина, если бы он был космонавтом? Мама? Но она далеко, в Оренбурге. Написать ей, кстати, надо. Письмо ее давно лежит… А ремесленное, с точки зрения образования, и больше ничего — разве это хорошо? В двадцать-то три года. И то, что он с этими ребятами болтается, которые все моложе его? А они все женатые, даже Гриша Пысин, девятнадцатилетний. Какой-то разрыв здесь. И между работой, и этими походами в чайную и к дружкам. И между парткомом, и между комсомольским комитетом — опять же, когда они каждый вечер или по выходным болтаются, сидят за этим самым холостяцким зельем, а потом приходят жены, вытаскивают его дружков, а он извиняется за них и за себя, словно… И, наконец, Нина. Это, пожалуй, сложнее всего… Нет, он сегодня правильно решил. Нельзя там, в мастерских, быть одним, а здесь другим. И все же что-то щемило. Они ушли. Ушли, как и прежде, будь он с ними или нет, а они ушли. Может, потому, что про Нину спросили? Пойдет ли он к ней? Костика жалко. Но он не пойдет к ней. Кто он Нине? Приходящий муж? А Нина ему? Жена приходящая? Вася не осуждал Нину за Костика. И не ревновал. Так у нее сложилось. Нина была с Костиком, и он знал ее такой, какой знал, а то, что было у нее раньше, он не знал, и это его не интересовало. У него тоже кто-то был раньше, до Нины. Может, меньше, чем у других, холостых, но был. Эта уехала, та замуж вышла, потом… Потом как раз Нина, и вот уже три года. Он шел по дороге к поселку, вроде бы и домой и вместе с тем не домой. Редкий снежок хрустел под ногами, и было еще почти светло, чуть сумеречно, когда птицы уже умолкли, а фонари еще не зажглись ни в домах, ни на столбах, и только в магазине уже тускло светились окна. У магазина ему надо было свернуть вправо, как раз домой, но он прошел мимо и дальше за магазин, и тут его окликнули: — Привет! — Привет, — ответил он и понял, что идет к Нине. Встречались знакомые, и он вновь произносил «Привет», «Добрый вечер», «Привет». Здесь все жили затоном, мастерскими, судоремонтом, потому что это было главное. И прохожие, здороваясь с ним, спрашивали про сварку котла на «Вычегде», и про коленчатый вал на «Яузе», и про всякие другие привычные ежедневные дела, которые всех волновали. И он отвечал и радовал ответами, поскольку ремонт шел по графику и даже с опережением. На Железнодорожной Вася свернул в проулок и вышел на параллельную улицу прямо к ее дому, но тут вспомнил что-то и круто вернулся назад — к магазину. В магазине он купил шоколадку Костику, больше не было денег, и где-то в душе пожалел, что отдал три рубля: можно было купить еще пачку вафель «Снежинка». Костик их любит. Но ничего, хотя бы шоколадку. Она блестящая, с «Волгой». Нина жила в обычном доме, так называемом двадцатипятиквартирном, построенном где-то в пятидесятых годах. Дом был неплохой, хотя и барачного типа, но с каждым ремонтом его все больше отлучали от барака и приближали к дому современному, и у Нины, которая въехала сюда уже позже, в освободившуюся комнатку с кухонькой, было удобно. Квартирка не квартирка, а соседей нет, и это хорошо. Сюда можно было приходить, никто не видел. Маточкин вошел в первый слева подъезд, ощутил знакомые запахи краски, сырой деревянной лестницы и кошек, спустился в полуподвал и постучал. — Ты? Так рано? Проходи! Он знал, что она удивится. Уже давно он не приходил к ней так рано. Приходил когда-то давно, когда у них только началось это. А вот уже года полтора, — может, больше или меньше, он не помнил, — приходил после всего, когда ребята расходились, или чуть раньше, если они завелись, оправдывая себя тем, что не хотел мешать Костику — и ему же спать надо вовремя. — Дя-Вась! — Костик оказался у двери. Прыгал и, конечно, ждал, что ему принес «дя-Вась». И всегда он спрашивал: «Дя-Вась, а что ты принес?» «Дя-Вась» — он так звал Васю Маточкина вот уже три года. И право, откуда Костику что-то знать, какие-то сложности жизни, он вырос за эти три года и никогда не говорил «папа», не говорил потому, что некому было говорить это слово, и еще потому, что он не знал, что кроме мамы должен быть папа, не знал, пока не пошел в детский сад. Там у кого-то были мамы и папы, и его поначалу озадачило это, но он не знал, почему у него нет папы, но зато он знал, что у него есть другой человек и тоже мужчина, которого мама зовет по-разному — «Вась», «Вася», «Васенька», а то и никак по имени, другими лас-новыми словами, но этот человек приходил к ним, большой и добрый и такой нужный ему. Костик привык к нему и горевал, когда его долго не было. Плохо, когда ты знаешь, ждешь, а этого нет. Воспитательница Валерия Викторовна ведет их в лес, говорит: «Землянику будем собирать. Знаете, сколько там земляники! У кого есть корзиночки, возьмите. Наберете по полной. А у кого нет, в рот… И я вот еще общую корзинку прихвачу. Для всех. Соберем вместе, а потом…» А потом-то ничего не оказалось! Ни одной ягодки красной, неспелые только, и то мало. Валерия Викторовна все объяснила: «Сегодня же понедельник, совсем забыла. А вчера — воскресенье, ребята. Так здесь, знаете, что в воскресенье делается! Понаехали горожане, да и свои все в лес бросились, вот и результат!..» И Костик все понимал, и ничего не понимал, и ему было невесело. Так он и дядю Васю ждал — «дя-Васю», ждал всегда, потому что ему, Костику, нужен был этот дядя, именно дядя, а он не всегда приходил, когда Костик его ждал. И еще было так, что часто, когда Костик ложился спать, и не спал еще совсем, а только для мамы делал вид, что спит, ему казалось, что в комнате появлялся он — дядя Вася, и Костик слышал его голос, все слова его и мамины, но потом, на утро, он ничего не мог вспомнить, потому что ночью снятся всякие сны, и никто не знает, что такое сон, а что не сон… — Дя-Вась! — сказал он сейчас Маточкину, когда они вошли в комнату. И Вася удивился, что Костик не спросил, что он ему принес. — Мы в детском саду сегодня спутник видели. Прямо над лесом! Такой с хвостом длинным-предлинным… — Может, самолет? — Спутник, спутник, даже Валерия Викторовна сказала, что спутник. Только вот какой, не знаю. Женька сказал — американский. Может, американский, а? — Уж если так, то скорей советский, — сказал Маточкин. — Советских больше, чем американских… А вот тебе! — Вася достал шоколадку. — Это хорошо, если советский, я так и думал… Сейчас Маточкину больше, чем когда бы то ни было, не нужен был Костик с его разговорами, и вместе с тем ему было жалко его, и он, может, впервые понял, что и Костику нужны не его шоколадки и не его «Снежинка», которую он ему не принес, а нужен он — мужчина. Нина, маленькая, хмуренькая, как обычно, с чуть поднятой левой бровью и совершенно доступная, ручная, какой он ее знал, сказала: — Костик, помолчи, ладно? Или поиграй! — и ему: — Есть будешь? Мы с Костиком пообедали уже, а ты… — Не буду, Нин, — сказал он. — Хочешь рюмку? У нее всегда что-то было, и всегда для него. Он сам просил, приходя выпивши, и она не осуждала, давала, а теперь она, удивившись, что он ни в одном глазу, спросила: — Хочешь? — Не надо. Сегодня — нет. Догадалась она или нет, о чем он думал, но все это не то, как должно начаться. Начать бы разговор, ради которого он пришел. А она-то, наверно, вовсе не о том сейчас думает, сам ее приучил: как придет к ней, у нее одни заботы, чтобы Костик не увидел, не услышал ничего. — Ты что? — спросила Нина. — Я ничего… Все шло не так. Все. Вася понимал это и тут, как в омут с холодной водой бросаясь, решился: — Понимаешь, Нин, я пришел… В общем… — Дя-Вась, а ты кто? — перебил их Костик, вроде и не замечавший их, но все, конечно, слышавший в маленькой комнатке. — Вот мама твоя говорит, что обыватель, — зло сказал он, с обидою на Нину, которая сейчас ничего ему не говорила такого. — Обыватель я, Костик! Видишь, обыватель! — А что это — обыватель? — задумчиво произнес Костик. — Это, как в сказках, оборотень? Оборотень, да? — Оборотень, оборотень, Костик… — А ты мне раньше сказал что? — Костик насторожился забавно и удивленно. — Ты сказал, что — судоремонтник и еще бригадир. А-а? — Я и есть судоремонтник, бригадир, — сказал Вася. — А почему ты не просто Маточкин, а Маточкин Шар? — спросил Костик. — Это длинно объяснять, — сказал он. — В школу пойдешь, географию будешь знать, поймешь. Вася говорил с Костиком, а сам смотрел на Нину. Она стояла рядом, растерянная, какая-то необычная и очень близкая, неотделимая от комнаты этой, от Костика, от него самого. — Дя-Вась, а ты придешь когда-нибудь за мной в детский сад? — вдруг произнес Костик. Вот, оказывается, чего ждал Вася Маточкин. Умница Костик! Как он помог! Вася встал из-за стола, встал почему-то торжественно, как на собрании, и сказал официально: — Так вот, Константин! Во-первых, я никакой для тебя не «дя-Вась» и не «Маточкин Шар», а отец, папа. Прошу так и звать. Понял? Это — раз! Жить мы будем с сегодняшнего дня вместе. Это — два! По утрам ты будешь провожать меня на работу, а вечером я буду приходить за тобой в детский сад. Все! Договорились! Вот и мама… А мама, Нина, уронила в эту минуту чашку. Вася вскочил, подобрал осколки. — Это к счастью. Не жалей! Она и не жалела. Наоборот. И Вася понимал, что, может быть, первый раз в жизни сделал сейчас что-то правильное, разумное, взрослое.
РОЖДЕНИЕ КАРАВАЕВА
Когда его усаживали в машину, то люди, совершенно незнакомые, чужие, почему-то очень хотели понравиться ему, хлопотали вокруг шофера и женщины, которая поедет с ним, и он слышал отрывочно: «Вот документы на Олега Караваева, возьмите»; «Товарищ водитель, если мальчику будет необходимо по нужде, так вы уж, пожалуйста…»; «И смотрите, чтоб не укачало его, в случае чего пусть он задремлет, дайте ему подышать свежим воздухом, это помогает». Это были одни незнакомые голоса, а другие — их было два — отвечали: «Сделаем»; «Нет, не забуду»; «Документы, да»; «Да вы не беспокойтесь»; «В целости-сохранности довезем!» Уже потом он понял, что эти вторые — голоса шофера и женщины, которые провожали его всю дорогу. Он уже сел в машину — в настоящую «скорую помощь», только без крестов и надписей по бортам, — когда остающиеся мужчины и женщины опять бросились к нему: — Ну, счастливо тебе! — Устраивайся поудобнее, сынок! Целый час ехать… — Смотри, шапку не расстегивай, а то продует, холодно… — Тебе там, мальчик, будет хорошо… — Это ведь ненадолго… — Тебе, несомненно, понравится, сынок… Его смущало все это, и он многого не понимал, не понимал этих хлопот, не понимал, почему его так зовут — «мальчик», «сынок», ведь бабушка всегда звала его иначе — «Олег», «внучек», но больше всего он не понимал главного: почему ему будет там хорошо, когда ему уже хорошо? — Я не сомневаюсь, что мне там понравится. Он с опозданием ответил на последний вопрос, так он привык говорить и отвечать, потому что всегда повторял слова бабушки. — Ну вот как хорошо, — произнес кто-то из провожающих и удивился: — Какой мальчик, а? А он опять не понял. Он никогда не ездил на настоящей машине, а сейчас едет. Разве это плохо? И сидит не как-нибудь, а рядом с шофером, и шофер все время разговаривает с ним, как с товарищем, и вот уже показал на скорость, объяснил, сколько в машине бензина, и даже показал новые дома на улицах и панораму Бородинской битвы. Разве это плохо? — Тебе удобно? — спросила его женщина с заднего сиденья машины, и он ответил: — А почему не удобно? Конечно! Спасибо большое! Он подумал, что не знает, как зовут эту женщину и как зовут шофера, но никто ему не сказал об этом, а сам он спросить не решился. — Знаешь, а там и правда тебе будет очень хорошо, — сказала женщина. — И потом… Ведь это все ненадолго. Поживешь, вернешься… Он, смотревший в ветровое стекло, — это было для него сейчас самым важным, самым значительным, почти историческим, — плохо расслышал ее слова и переспросил: — Вы мне? — Я говорю, что ты не пожалеешь, что поехал… — Спасибо, но я вовсе не жалею, — сказал он. — Спасибо большое! Все это была ложь, святая ложь, идущая от сопровождавшей его женщины, но ни она, ни провожавшие их ничего не могли сказать иного, и что тут сказать, когда шестилетнего отправляют в детский дом в силу особо сложившихся обстоятельств. Вот и в документах все отражено: фамилия — Караваев, имя, отчество — Олег Константинович, год рождения…» и так далее и тому подобное. Все вплоть до графы «примечания», записи в которой и послужили поводом для отправки одного мальчика, да еще на санитарной машине, вместе с сопровождающим педиатром, далеко от Москвы, в один из лучших лесных детских домов. Но откуда он мог знать это? Женщина-педиатр, сопровождающая его, думала об одном, шофер крутил баранку, а сам Олег внимательно, чуть растерянно, но с любопытством смотрел по сторонам и вперед, и лоб его под новой неудобной шапкой потел и хмурился, и лицо все больше расплывалось в восторженном удивлении. Шофер все еще занимал его разговорами, и женщина что-то поддакивала, и все это было бы интересно, но только не сейчас, когда они вырвались из города на прямую дорогу, и рядом еще мелькали дома и дома, люди и люди, пересекающие дорогу, другие дороги, одни внизу, под мостами, другие сверху, над мостами, а потом все кончилось — и дома, и люди, и светофоры, и пошел лес. Лес стоял слева и справа, он был впереди, насколько можно видеть, и, конечно, позади, где они только что проехали, и весь он был в снегу. Каждое дерево, каждый куст, каждый ствол и ветка, ну прямо-таки все в снегу, и снег еще внизу под деревьями, и снег вдоль дороги, и снег… Он никогда не видел такого: столько леса и столько снега. А лес летел на них слева и справа и откуда-то спереди. И дорога и машина их, мчащаяся по ней, как бы разрезали этот лес, и он, заснеженный и непонятнокрасивый, раздвигался перед ними и опять пролетал по сторонам, мимо машины и мимо негр. И все это было так, что если бы не сидящие рядом взрослые люди, то он закричал бы от радости, и запел, и заплясал, и пусть лес слышал бы его голос, знал о его радости и о том, как ему хорошо тут — в никогда не виданном! Он даже поерзал на сиденье, чуть задев локоть шофера, и ткнул варежкой в стекло, и что-то хмыкнул, может быть, от предвкушения возможною, придуманного сейчас желания, но услышал сзади голос: — Тебя, ненароком, не укачивает? Поняв и не поняв, потому что не знал, что такое укачивает — не укачивает, он смутился и опять сказал: — Спасибо большое! И ему стало немного грустно, но лес продолжал лететь ему навстречу, лес мчался по сторонам, и деревья стояли в снегу, усыпанные снегом, шапки снега лежали на голых ветвях и зеленых елях, и на пеньках, чуть выступавших из снега, и на каких-то мостиках и беседках, и всюду, а вот сейчас и на памятнике-танке, что был поднят кверху на каменной глыбе, лежал снег: жаль, что они так быстро проехали мимо памятника. Ветер бил в стекло машины, слева вырвалось солнце и заслепило глаза, и сразу лес сменился заснеженными полями, и началось что-то новое, после леса неожиданное. «Неужели все это на самом деле»? — подумал он и хотел спросить об этом, но промолчал, не спросил, не зная, можно ли или нельзя, когда рядом с тобой незнакомые взрослые.О приезде новенького уже знали в детском доме, и знали заранее. Директор Лайда Христофоровна (имя ее — сложное Аделаида — сокращали для удобства, и получалось просто — Лайда) еще три дня назад вызвала к себе воспитательницу Варвару Семеновну и говорила ей о прибытии новенького, который поступит в ее группу, о том, что и как нужно сделать, чтобы мальчик спокойно вошел в новую обстановку, и еще много всякого полезного, о чем Варвара Семеновна и сама знала. Варвара Семеновна не обижалась на поучения директора, скорей наоборот, ей нравилось, что немолодая уже Лайда Христофоровна говорит с ней как с равной и называет по имени-отчеству, и не просто поучает, а советует, и вообще, надо сказать, Варвара Семеновна была счастлива. Теперь она окончательно понимала, что нашла себя, что выбор педучилища был единственно правильный, а ведь еще несколько лет назад она металась, не зная, куда идти, — в металлургический техникум или на курсы медсестер, или вообще учиться дальше в школе, чтобы потом попасть в институт — любой, но в институт. Говорили, девочек берут трудно, только с большими способностями, а у нее… И вот у нее уже позади училище и четыре с лишним месяца первой самостоятельной работы здесь, в детском доме, где ее зовут уже не просто Варей, как прежде, а Варварой Семеновной, и все считаются с ней, и дети любят, потому что у нее доброе сердце, неистощимая энергия и вместе с тем нужный для работы с детьми строгий характер. А еще она думала, что с детьми, особенно маленькими, как в ее группе, надо обязательно быть на равных, и это хорошо, что она выбрала именно детский дом, а не детский сад. Там у ребят есть родители, и хотя родители бывают разные, но они все же родители, и у них авторитет в глазах детей выше, чем у воспитателя, какой бы он ни был умный. А она обычная, самая рядовая, недаром и училась всегда средне, с трудом, и потому детский дом — это как раз для нее. Ее ребятам не с кем ее сравнивать, и они все время с ней, и только надо любить их, как любила бы мать, и стараться воспитывать в них больше хорошего, и никогда не напоминать им о жизни до детского дома, чтобы не травмировать, не бередить душу. Это она усвоила с училища. Ей достались хорошие ребята, правда, чуть-чуть ограниченные, как казалось ей, и очень разные, поначалу, может быть, даже слишком разные, но она много старалась все эти месяцы и заметила результат: теперь у нее уже не было ни одного мальчика или девочки, кто бы не слушал ее или не хотел делать того, что нужно делать всем, или не смеялся, когда всем весело. Все шло так, как ей хотелось, может быть, даже так, как она задумывала, потому что, в конце концов, она хотя и не старая в свои двадцать два года, но и не такая молодая, как может показаться, и она не просто работает — она педагог, воспитатель. Она гордилась этим и потому даже наступала на собственные желания и, может, поэтому не делала того, что ей хотелось. Вот и Коле строго-настрого запретила приезжать из Москвы. Но она оправдывала себя, и получалось правильно, по ее разумению, и она писала в ответ на его бесконечные письма вовсе не то, что ей хотелось написать, а то, что она считала нужным. В самом деле, пусть он и студент третьего курса инженерно-строительного, пусть одногодок, но он не педагог, не психолог, он даже не проходил всего этого в своем институте, и как он приедет сюда к ней, и что это будет? И о ней самой бог знает как могут подумать, а потом еще он целоваться полезет и назовет ее при ребятах «Варей», чем вовсе подорвет ее авторитет. А он это может, он такой, несерьезный и взбалмошный, хотя и студент института, но, конечно, не все меряется этим: вот она работает, и опыт у нее больший, чем у него, и, наконец, она сама имеет дело с детьми, а он пока еще сам — ребенок… В группе у Варвары Семеновны всегда было чисто и уютно, порядок идеальный, и ребята никогда не ходили с грязными руками и носами, и одежда содержалась в порядке, а уж в столовой ее группа была лучше других, в том числе и старших. И все это было ей по душе, потому что если и говорят, что люди получают от любимой работы моральное удовлетворение, то оно, наверное, складывается из сознания сделанного тобой нужного и полезного. Узнав о прибытии новенького, Варвара Семеновна все эти дни хлопотала с особым подъемом. Она заранее продумала, где лучше спать новенькому, и поставила его кровать между самыми тихими и спокойными мальчиками, она вырезала из старого журнала самую красивую картинку с космонавтом и приклеила ее на шкафчик, где будет новенький хранить одежду, она выбрала на складе самую красивую — красную — зубную щетку для него и кружку и много еще чего сделала, чтобы все было готово заранее, чтобы новенькому было приятно видеть и знать, что его ждали у них. И когда хлопоты окончились, Варвара Семеновна с приятным чувством удовлетворения пошла к директору. Она рассказала о проделанной работе, и Лайда Христофоровна все одобрила, похвалила ее за предусмотрительность, напомнила о каких-то мелких деталях, которые надо не упустить. — А главное, Варвара Семеновна, — сказала директор, — постоянно помните, что у мальчика очень сложная судьба. — Да, я знаю, — согласилась Варвара Семеновна, — биография у него трудная. И она повторила директору все, что знает о трудной биографии Олега Караваева, не забыв ни одной детали, и Лайда Христофоровна вновь похвалила ее: — А вы у нас, Варвара Семеновна, — умница. Конечно, Варвара Семеновна всхлипнула, скромно заметив: «Что вы, что вы!», и все же самой это ей было удивительно приятно: значит, ее действительно замечают и ценят, а чего же еще желать лучшего. И она вспомнила Колю и подумала про себя, как жаль, что он этого не видит и не слышит. А от Коли только вчера пришло письмо — хорошее, ласковое, как всегда, и он опять грозится в нем, что вот возьмет и приедет, но как глупо получилось, что она вчера не ответила ему, что не надо, не надо, не надо приезжать, иначе она… и так далее, и тому подобное, что она всегда писала. Сегодня же напишу, решила она, но письмо это придет уже на сутки позже, а если бы вчера, то он завтра его получит. И он, конечно, послушался бы ее, потому что она так его приучила, и все это верно, так и должно быть, а если у них все настоящее, то это все равно будет… На самом деле ей страшно хотелось видеть Колю, но она убеждала себя в том, что сейчас, при нынешнем ее положении, это невозможно и ненужно, потому и писала ему сухо, подчеркнуто дружески, и сейчас, подумав об ответе на его очередное письмо, она вспомнила слова Лайды Христофоровны и все, ради чего она сейчас жила, и ужаснулась, что забыла в этих мыслях о главном — о новеньком, об Олеге Караваеве, мальчике с действительно трудной биографией, ради которого она так старалась все эти дни. Варвара Семеновна спохватилась, — о чем она думает? — и при чем тут ее Коля, и письмо его, на которое надо ответить, когда есть нечто другое, более важное, ее? Она покраснела вновь, покрылась еще более пунцовой краской, чем в кабинете директора, когда ее хвалили, и сейчас ей было в самом деле стыдно, и она не знала, куда деть себя, куда спрятаться. Но прятаться было некогда и некуда, и Варвара Семеновна просто зашла на минуту в свою комнату, причесалась, встряхнула, привела в порядок волосы и направилась к своим ребятам, чтобы умно, тактично напомнить им еще раз, что перед обедом они будут встречать своего нового товарища Олега Караваева, шестилетнего мальчика с трудной биографией. Но о последнем она, естественно, детям не скажет. Это важно знать ей и всем взрослым, но только не ребятам. Он, конечно, знал, догадывался, что детский дом — это дом, а не комната, а раз он «детский», то, наверное, в нем есть еще какие-то дети, и это уже хорошо, потому что будет с кем играть, а этого ему больше всего и не хватало. Нет, он совсем неплохо жил с бабушкой, а он помнил только ее, бабушку, и больше никого не помнил. Но у бабушки болели ноги, ей трудно было спускаться с четвертого этажа вниз, а еще труднее подниматься. И он понимал это, никогда не сердился на бабушку и не просился на улицу гулять, чтобы ее не сердить. Бабушка выходила с ним раз в день, и то ненадолго, но и тут особенно гулять было нельзя, потому что они шли обязательно в магазин рядом с домом, покупали все, что нужно для еды, а потом бабушка уже уставала, и сумка, которую они несли вместе, была тяжелая, и бабушка торопилась готовить обед. Летом она еще садилась на лавочку возле дома, и он мог чуть побегать, но и то недалеко, чтобы бабушка его видела, а в дожди и снег они уже не останавливались во дворе, а ходили до магазина и обратно. Раз в месяц, правда, они ходили дальше — по переулку и на соседнюю улицу, там они платили за квартиру, газ и электричество, и это было для него праздником. Дома бабушка, когда не была занята, рассказывала ему сказки и всякие интересные истории про революцию и войны, про героев, а еще читала книжки, которые покупали соседки, и у соседей же он смотрел телевизор, когда его звали, а у себя слушал радио, чаще утром — передачи для детей. И если было лето и жарко, то в комнате бабушка открывала окно, говоря: «Подыши, внучек, свежим воздухом», а если была зима, то она одевала его потеплее и открывала форточку с теми же словами: «Подыши, внучек, свежим воздухом, — и добавляла — Да смотри не простудись». Он привык ко всему, и жил так, и считал, что так должно быть, пока бабушка вдруг не заболела. Он видел, как она заболела, и они не пошли даже в магазин, а на улице было, наверно, скользко, и он не особенно горевал, потому что по такой погоде бабушке все равно нельзя идти на улицу, она может упасть. И бабушка ему говорила об этом, но на второй день его разбудили соседи и полусонного забрали к себе, и больше он не видел бабушку. Что такое «умерла», он не знал, но он слышал, что бабушка умерла, а когда спросил, ему сказали, что да, но она вернется… Он хотел взять игрушки в своей комнате и книжку «Маугли» — он очень ее любил, и бабушка емучитала ее, и потом он сам научился читать, — но его не пустили в их комнату. А в коридоре стоял по стене длинный какой-то ящик, вернее, крышка от ящика, сверху сырая, покрашенная, и он успел заметить ее и попробовать рукой, но напоролся, потому что на крышке были гвозди. У соседей ему было хорошо, но, когда ему разрешили прийти в свою комнату, чтобы взять игрушки и «Маугли», бабушки уже не было, и ему опять сказали, что она скоро вернется, и он знал, что будет так, потому что никак по-другому быть не может… Но вот он ехал, впервые ехал на настоящей машине и видел необычное — леса и поля, зиму и снег, все, что он никогда не видел и не знал, и не верил, что так может быть. За полями снова пошли леса, но более белые — березовые, и в них и на них лежал снег, и леса уже были другие, а чуть дальше — вновь другие: сплошь еловые, темные, через которые ничего не было видно. Они летели мимо, как черные стены, и вдруг сменились полем, почти бесконечным, и только уже по краям его стояли леса, тихие, почти не движущиеся из окна машины. Дома, одинокие и редкие деревни встречались совсем не часто, как люди и машины на дороге, а так только леса и поля, поля и леса. — Скоро, брат, будешь на месте, — сказал шофер, — подъезжаем. Детский дом — это дом. «Детский» — детский. Но он почему-то представлялся ему маленьким домиком, как сарай какой-нибудь, или избушка на курьих ножках, или что-то еще из сказки, или как палатка для утиля в их переулке, маленькая, но красивая. Они въехали в ворота с большими желтыми колоннами, и он сразу увидел огромный дом, тоже желтый, не высотный, конечно, как в Москве, дом в три этажа, но опять с колоннами, и все это было как старинный музей на картинке. Но больше всего его поразили ребята — их было так много, разных, одинаковых, мальчишек, девчонок, что он не поверил. Может ли быть такое, чтобы сразу столько ребят! А вокруг стоял лес, уже совсем не такой, как в дороге. Там он летел, мчался мимо их машины, а тут он стоял — дерево к дереву, ствол к стволу, и ветки деревьев переплетались в вышине между собой, а ели, совсем зеленые, молодые и старые, маленькие и большие, были украшены снегом, а снег все продолжал идти и идти.
После обеда и сна Варвара Семеновна вывела ребят на прогулку в лес, вывела, как всегда, но сегодня у нее был особенный день, и все обычное, что она делала, посвящалось этому особому — новенькому. Ей хотелось поразить его, и расположить к себе, и, конечно, привить ему любовь к этому делу. Он оказался вовсе не букой, а с добрым, хорошим лицом, вежливым и любопытным мальчиком оказался этот Олег Караваев; и Варвара Семеновна успокоилась, хотя волнение какое-то было у нее, но сейчас оно улеглось. Вместе с ребятами она показала новенькому спальни и комнаты для игр и занятий, вместе обошли они весь детский дом, заглянули в теплицу и на фермы, и Варвара Семеновна заметила, как заиграли глаза у новенького, когда он увидел корову, лошадь Капу и свиней. Может быть, он никогда не видел живых животных? Все может быть, ведь и она, когда училась в Москве, не видела, а тут привыкла, и ребята вместе с нею ухаживали за этой единственной детдомовской коровой, и за лошадью, и за свиньями, которые в самом деле приносили пользу: при весьма скромном бюджете детского дома подсобное хозяйство и эти свиньи становились заметным приварком. И лошадь была очень нужна всем, потому что единственный автобус, имевшийся в детском доме, чаще ремонтировался, чем работал, а лошадь была безотказна: Капа выручала всех по любому поводу. Варваре Семеновне рассказать бы обо всем этом новенькому, но ребята говорили между собой и что-то уже объясняли ему, хотя и не совсем полно, а потом и сам новенький не без восхищения произнес: — У вас тут, как в зоопарке… И позже он хорошо ел в столовой, и с ребятами сошелся сразу, запросто, и Варвара Семеновна с трудом успокаивала всех, когда надо было после обеда спать. В лес ребята вышли на лыжах, и новенький надел свои детдомовские лыжи, о чем Варвара Семеновна позаботилась еще вчера. Ей показалось, что новенький впервые встал на лыжи, уж очень неуверенно он держался на них, но она не стала спрашивать, опять же исходя из разумной педагогики, да и сам он не стеснялся, пытаясь догнать остальных, и догонял, хотя палки у него вихляли враскос, лыжи разъезжались в разные стороны. Короче говоря, новенький был как все, и все приняли новенького без оговорок. Мальчики, девочки разговаривали с ним, он разговаривал с мальчиками и девочками и даже обращался к ней, называя ее Варварой Семеновной, как все, и ему, как она понимала, нравилось здесь. И в самом деле, чего же не нравится, когда такой уход, и лес рядом, и вообще детский дом один из лучших… Одно беспокоило Варвару Семеновну с новеньким, с самого утра беспокоило, и сейчас даже больше, — это как раз слово само — «новенький», которое без конца крутилось у нее в голове: она думала о новеньком, подходила к новенькому, и вот сейчас среди ее ребят новенький, а как же к нему обращаться, как называть его? Караваев — это слишком официально. Но и Олег — официально. Если бы его звали Иваном или Федором, можно было бы называть его Ваней или Федей, а Олег? Какое уменьшительное есть у Олега? Она думала, ломала голову и ничего не могла придумать. — Ну, как ты? — спросила она, никак не обращаясь к нему, и помогла подняться из снега. Он опять упал. — Спасибо большое, хорошо! — ответил он и, встав на лыжи, заспешил к ребятам, снова упал, но поднялся сам и все же догнал их. И ребята, и он стояли теперь возле поникшей под снегом старой ели и говорили о чем-то. Варвара Семеновна вспомнила, что ведь совсем скоро Новый год и уже завтра они будут делать с ребятами игрушки и украшения, а послезавтра принесут елку, принесут тайно от ребят, чтобы они увидели ее уже в зале, — так неожиданнее и приятнее для них, — и, вспомнив все это, подбежала к ребятам по узкой тропинке, остановилась у старой ели, возле которой они что-то обсуждали, и спросила как бы невзначай: — Ну, а как у нас, такая елка будет или лучше? Как вы считаете? — Такая, такая! — закричали одни. — Лучше, лучше! — закричали другие. Она тут же, с ходу придумала игру, интересную, — какая она действительно умница! — сама удивилась своей сообразительности и предложила: — А ну-ка, давайте погадаем, какая у нас будет елка, вот как эта или как эта? Или как та, или… Варвара Семеновна по-детски размахивала руками в разные стороны, показывая ребятам, что и там и там есть елки для их выбора, пусть только посмотрят, поищут, поспорят, и ребята поддались, разлетелись по лесу, зашумели, загалдели, как воробьи, стали бегать на лыжах от дерева к дереву, каждый звал кого-то к выбранной им елке и спорил, а потом бросался к другой, лучшей, и опять доказывал, что вот она, эта, и все было смешно и очень умно, так, как она задумала. Нет, определенно, она — умница, а не заурядная, простая, какой казалась себе прежде, и в ней, конечно, что-то есть, определенно что-то есть от настоящего педагога! Новенький носился больше всех — и кричал, и радовался, и вновь искал новые елки. Варваре Семеновне хотелось, чтобы было так, и так было, и она видела это, удовлетворяясь, и думала про себя, что это — самое важное. В конце концов, для него, именно для него, придумала она эту игру, ему это важно, ему надо… И чтоб было так, что не скажет больше, как на ферме, «у вас тут…», а всегда будет говорить «у нас», «в нашей группе», «в нашем детском доме», «в нашем лесу»… Снег невесомо падал на лес, снежинка за снежинкой, и так, наверно, все в жизни бывает, когда малое, невесомое медленно, незаметно, постепенно складывается в одно, как вот этот летящий снег, и получается что-то большое, значительное, удивительное, как земля, покрытая тоннами, сотнями, миллиардами тонн снега. И у нее есть малые силы и вот эти малые ребята, одна группа, каждый как снежинка, но когда они вместе и рядом с ними она, то тогда уже все — не просто она и группа, а что-то более важное, невидимое сегодня, но завтра и потом значительное, вырастающее до огромных размеров самого мира. И если она тогда, завтра, будет старой и мудрой, как Лайда Христофоровна, то они, ее ребята, станут взрослыми и еще молодыми, и они будут всюду, но в них будет она, Варвара Семеновна, которая всегда была с ними и всегда так старалась ради них… А с новеньким все хорошо получилось. И вот сейчас — результат ее задумки, ее усилий и стараний, педагогического, наконец, чутья. Все это так просто и не так просто, если подумать, но она сделала все правильно, без единого промаха, и новенький уже растворился среди других, вот и она его сейчас не видит, где он, но он где-то здесь, она знает, но и не это столь важно, а другое. Он был теперь как все, а все — как он. Уже позже, к вечеру, она придумала и решила, что называть его нужно все же ласково — Олежком, например, или Оликом, но Олик — это не совсем то, больше для девочки, лучше уж — Олежек. И она его назвала так раз и два, и, кажется, он принял это ласковое имя, и Варвара Семеновна, благодаря ему и самой себе, решила, что надо сделать для него и для всех, конечно, но для него в первую очередь, что-то еще приятное, и наконец придумала что. С этим «что» и пришла перед ужином к Лайде Христофоровне. Правда, она чуть боялась. А вдруг директор отвергнет ее идею, сошлется на то, что у детского дома нет денег, но все равно, она постарается убедить, и в конце концов, она согласна, чтоб деньги взяли из ее зарплаты, ну, а сама она как-нибудь перебьется… И не в этом дело, а в главном: ведь это же здорово, если к ним на елку приедет Дед Мороз, приедет из Москвы! Какой это будет праздник для ребят, но и это не все, а важно и то, что будет раньше, сегодня и завтра. В самом деле, пусть именно новенький Олежек узнает об этом первым и расскажет всем, и тогда в глазах ребят… Оказалось все куда проще, чем она думала. Лайда Христофоровна положительно отнеслась к идее Варвары Семеновны, одобрила весь ее план, особенно ту часть, которая касалась новенького, назвала это даже весьма разумной педагогической хитростью, и похвалила ее за эту хитрость, и, конечно, сказала, что она за настоящего Деда Мороза из Москвы, но вот засомневалась в одном: — А удастся ли, Варвара Семеновна, достать такого в Москве? Ведь елка, каникулы… Тут такой спрос на артистов… Нет, вы не беспокойтесь, пожалуйста, деньги по смете у меня есть, но вот достать, уговорить… — Лайда Христофоровна! Милая! Я берусь! Я сама поеду! Я все сделаю! — обрадовалась Варвара Семеновна. — И не беспокойтесь, я добуду этого Деда Мороза, хоть из-под земли, а добуду… Она была счастлива, как никогда. И тем, что ее мысли одобрены, и тем, что ей верят, а там, в Москве, мало ли что можно сделать в Москве, но она сделает, и такая радость будет ребятам, и ее Олежку, и вообще все это так славно, умно придумано. Ну, а будет трудно, она Колю попросит, он, пусть и не приспособленный к жизни, поможет ей, сделает все, что можно сделать для нее. Это она знала давно и привыкла к этому…
— А откуда ты знаешь? В спальне было темно, Варвара Семеновна давно уже потушила свет, но никто не спал, и он знал, как все поражены его новостью, но делал вид, что ничего особенного не сказал, и только на лице его, явно хитрящем, выражалось все — важность сообщаемого, секретность, достоверность. Койки скрипели, и со всех сторон темной комнаты раздавалось: — Откуда? — А, откуда? — А мне тетя Варя сказала, — сообщил он тихо, но с небрежным достоинством. — Варвара Семеновна? — Ее нельзя тетей Варей называть, она воспитательница… — Варвара Семеновна, пусть так. Ему было приятно и это, что он назвал ее тетей Варей, как бы хотел называть, потому что она хорошая, но он и сам понимал, что так нельзя, и называл ее по имени-отчеству, а сейчас у него просто сорвалось это — тетя Варя… — И что, взаправдашний? — Из самой Москвы? — Настоящий-пренастоящий? — Конечно, настоящий, а какой же еще! — сказал он. — А у нас раньше дядя Сеня был Морозом. — Какой дядя Сеня? — не понял он. — Конюх наш, который на Капе ездит, — объяснили ему. — Ну, а теперь из Москвы приедет. Вот завтра увидите, что Варвары Семеновны нет. Она в Москву поедет, договариваться… Все поражались, удивлялись и еще не совсем верили, но утром сомнения рассеялись. Молодец этот новенький Караваев, не соврал, все точно. Варвары Семеновны не было, и на завтрак их повели вместе со старшей группой, а Лидия Федоровна, воспитательница старших, сказала, что Варвара Семеновна уехала в Москву по делам…
И вот он подошел наконец, этот день — тридцать первое декабря, которого ждали все и больше всех Варвара Семеновна. Уж как она хлопотала, хлопотала! Один этот Дед Мороз чего ей стоил! В Москве она пыталась найти Колю, но дважды звонила, не застала, и хорошо, что не понадеялась на него. Уже после, перед отъездом, она вновь звонила ему из автомата с вокзала, но он был весь день в институте и домой приедет поздно, как сказала его мама, которую она узнала по телефону еще по первому утреннему звонку, но ни тогда, ни потом, на третьем звонке, не призналась, что это звонит она, и, наверно, правильно. У нее была девичья гордость, и чувство это подсказывало ей, что не надо навязываться даже ему, Коле, а уж родители его, люди ей непонятные, какими она их воспринимала, тем более не должны думать о ней плохо, потому что то, что для других хорошо, для них может быть плохо, и она не хотела показывать им, что ей нужен их Коля. И раньше не хотела, и теперь. А ей нужен был, очень нужен был Коля, но они не должны знать об этом, и не надо, чтобы знали. Они — умные, слишком умные, и не ей тягаться с ними… Коли не было, и она бросилась искать Деда Мороза по собственному разумению. В справочном бюро она все объяснила, и ей дали адрес на бумажке. Она помчалась в центр, в Третьяковский проезд, в организацию со сложным названием. Уже с тротуара она с трудом пробилась в дверь, вокруг двери толпились какие-то шумливые люди в красивых шубах, похожие на артистов, но ей был нужен настоящий артист, и еще она подумала, что, может быть, всем им, как и ей, тоже нужен Дед Мороз на елку, и тогда, конечно, надежды нет никакой. В помещении ее совсем «убили»; хотя она и доказывала, что детский дом — это детский дом, а не просто школа и клуб с обычными детьми, ей говорили: «Поздно!», «Надо было раньше думать!», «Да что вы, гражданочка, сейчас…» Она уже готова была зареветь от отчаяния, и вдруг ей повезло, она нашла то, что нужно. Нашла как раз на улице, в толпе шумливых людей, которые оказались настоящими артистами, и обо всем договорилась, и адрес дала, и задаток — десять рублей. Хорошо, что захватила деньги, думая забежать попутно куда-нибудь в магазин… Где-то в глубине души она даже радовалась, что сделала это все сама, без Коли, и, значит, она что-то может, на что-то способна… А потом, уже дома, пошли хлопоты с елкой и игрушками, и вся ее группа два дня орудовала ножницами и клеем, кисточками и красками, и лучше всех был новенький Олежек. Теперь елка, украшенная, разнаряженная, стояла в зале, и со вчерашнего дня туда уже не пускали ребят, чтобы праздник стал праздником и красивую елку увидели именно в этот день, и пусть она поразит всех, обрадует или даже очарует, как сказала Лайда Христофоровна. Праздник был назначен на двенадцать, и все ждали его с нетерпением, и сама Варвара Семеновна подогревала в ребятах это нетерпение. Без четверти двенадцать она вернулась с ребятами из леса к подъезду дома. — А теперь, дети, — сказала она, — постоим здесь и встретим нашего гостя из Москвы — Деда Мороза. Ребята закричали «Ура!», и Олежек громче всех кричал «ура», а Варвара Семеновна веселилась с ними, и все думала, какая она умница, как все хорошо у нее получается, и нет на свете лучшей работы, чем ее работа; и она была на седьмом небе от счастья. День стоял чудесный, нехолодный и несырой, самый лучший зимний день в ее жизни, может быть, тогда она окончательно поверила себе, своему призванию, своей полной благополучия надежности на этой земле и еще, что рядом с Колей, если они будут, конечно, когда-то вместе, она останется такой самостоятельной, и это не слова, а факты, поскольку на практике видно, что она сама что-то значит и ничуть она не дурочка, не рядовая, какой может показаться его родителям… Дед Мороз, ее Дед Мороз, приехал вовремя, да еще как; она сама не ожидала, что будет так: он приехал без шофера, сам сидел за рулем «Волги» в полной форме — с бородой, белыми волосами, выбивающимися из-под бело-красной шапки, и с большим красным носом, и все это привело ребят и саму Варвару Семеновну в восторг. В машине он сбросил накинутую на плечи шубу и явился перед всеми — в сказочном великолепии! Варвара Семеновна была растрогана до глубины души, дети бесновались, пораженные, а она, воспитательница, не могла не думать еще и о том, какой он славный, этот Дед Мороз. Ведь другой мог просто приехать, потом переодеться, а этот, найденный ею, все понял и переоделся, наверное, в машине, перед тем как появиться перед ребятами, и все это важно, с педагогической точки зрения особенно. Начался праздник. Ребята не знали, на что смотреть, — на елку ли, которую они не видели в таком убранстве, или на Деда Мороза, который играл с ними, разговаривал, смеялся. Кто-то и что-то кричал, кто-то трогал одежду Деда Мороза, и все радовались. И Варвара Семеновна в первую очередь. А когда она собрала ребят в круг, и Дед Мороз встал рядом с нею, и заиграл магнитофон, и они пошли вокруг елки в хороводе, Варвара Семеновна увидела добрую улыбку на лице Лайды Христофоровны и поняла, как та сейчас в душе хвалит ее, и от этой улыбки ей сделалось еще лучше. Все было отлично, ну просто отлично, и Дед Мороз, конечно, украшал праздник. Он и поздравлял, и плясал — смешно, вприсядку, и вручал ребятам подарки, и вновь поражал их своим искусством, и вовсе не торопился, чего больше всего боялась Варвара Семеновна, потому что он — артист, а у них сейчас так трудно со временем, елка идет за елкой, каникулы, и всюду нужны Деды Морозы. Она знает. После поездки в Москву особенно хорошо знает. Праздник закончился почти перед обедом, когда уже директор показала, что пора заканчивать, и все вместе — ребята и взрослые — стали расходиться, а Варваре Семеновне все еще хотелось плясать и петь, но она все понимала и потому первой пошла вместе со всеми, зная, что у нее есть и еще одна обязанность — перед ним, Дедом Морозом, который выручил ее… Они выходили толпой из зала, где была елка, и ребята хватали Деда Мороза за его шубу, подпрыгивали, забегали вперед, пытались продолжить разговор с ним, и Варвара Семеновна все это видела, и радовалась общему и своему счастью, и потому вовсе не поняла, когда он шепнул ей на ухо: — Так как? — Что? Он ловко оторвал бороду, снял шапку вместе с париком, сказал: «Жарко у вас» — и опять повторил ей в ухо: — Как? А-а? Подошла Лайда Христофоровна, оттеснила ребят и поблагодарила его: — Вы доставили нам истинное удовольствие! А сейчас прошу ко мне в кабинет. Мы… Варвара Семеновна знала, что надо расплатиться, потому что залог — это только залог, и о нем директор даже не знает, и она понимала, почему Лайда Христофоровна приглашает к себе в кабинет, но… — Спасибо! Сейчас мы с Варварой Семеновной подойдем, — сообщил он, удерживая ее за локоть. — Переоденусь… В коридорах стихали голоса, и скрылась в своем кабинете Лайда Христофоровна, а он все продолжал шептать: — Ну, хочешь, останусь? Дурочка! Милая! Или в Москву рванем? Не маленькая… Варвара Семеновна побледнела и побежала по коридору. Почему-то сначала в сторону кабинета директора, а потом назад — мимо него — и к выходу. Перед обедом весь детский дом провожал Деда Мороза. Он был уже не такой веселый, как на празднике, но он был Дедом Морозом — с бородой, белыми волосами, выбивающимися из-под бело-красной шапки, и с большим, чуть сдвинутым набок красным носом. Ребята кричали: — Спасибо! Спасибо! До свидания! До свидания! Проводами руководила сама Лайда Христофоровна. — С наступающим! — крикнул Дед Мороз, садясь в машину и заводя мотор. И все что-то кричали ему приветственное и махали руками, пока «Волга» не выехала за ворота, свернула направо и исчезла за деревьями. Уже возвращаясь домой, Лайда Христофоровна спросила: — А где Варвара Семеновна? Варвары Семеновны при проводах не было. Не было и нескольких ребят из ее группы. — Почему я наврал? Почему я? — А как он бороду сорвал и шапку? — Еще из Москвы! — Вот и настоящий! — Но это не я наврал! — Уж лучше бы дядя Сеня, как всегда… — А я… Он никогда не плакал, наверно с грудных лет, а тут — заплакал.
И Варвара Семеновна изревелась за этот день так, как никогда. Оскорбили ее лучшие, добрые побуждения, и она, убежав в лес перед обедом, ревела навзрыд, потом замерзла и тайно вернулась домой — ревела дома, и еще позже, когда ей стучали, она тоже ревела, не решаясь открыть дверь и показаться в таком виде. Она передумала все, что могла передумать, пересмотрела все, что раньше считала ясным, и оказалось, что все было не то и не так, и сейчас ей все равно, что о ней скажут, все равно, потому что жизни нет и, значит, нет ее здесь, в детском доме, и потому никакая она не воспитательница, и никакой не педагог, и вообще она никто, если с ней можно было поступить так. Заплаканной застал ее вечером Коля, неожиданно приехавший из Москвы. Зачем ты здесь? Зачем? Я ж говорила тебе! Писала! — так она его встретила, и он не обиделся, ничего не спрашивал, а схватил ее сильно и даже больно, обнял и приложился нечисто выбритой щекой к ее мокрому лицу. Ей стало чуть лучше. Они были вместе час или два, и всякое говорила она ему за это время, ругалась, кричала: «Зачем? зачем?», а потом вдруг целовала его и обнимала, а позже, кажется, она совсем пришла в себя. Он сказал: — А теперь, Варюха, приведи себя в порядок и пойдем. Нас ждут! — Встречать Новый год? — А как же! — удивился он. — Надо встречать Новый год. Одевайся, Варюха. И поскорее. Она не знала, что он приехал больше часа назад, и был уже у Лайды Христофоровны, и видел других воспитательниц, и говорил о ней с ребятами и конюхом дядей Сеней, но это и не важно, важно, что он приехал и он здесь… Варвара Семеновна заторопилась, и когда уже все было почти готово, и можно, казалось бы, идти, и он, в пальто, ждал ее у двери, она вдруг спохватилась, подо-шла к нему: — Ну, а как же мы с тобой явимся туда? Теперь? Ты понимаешь? — Понимаю, — сказал он. — Пойдем. Одевайся! Она оделась, и они прошли по скрипящему снегу, опять разделись и вошли в зал с елкой, где еще днем веселились дети, а теперь за небольшим столом в самом центре сидели взрослые. — Познакомьтесь, пожалуйста! — сказал он громче, чем нужно, на весь зал. — Моя… Моя жена! Прошу любить и жаловать!
Олег проснулся утром очень рано, и в трусиках подбежал к окну. Стекло чуть заморозило, какие-то узоры появились на стекле, но и то, что он увидел за стеклом, было необыкновенно. За ночь деревья еще больше припорошило снегом, и лес, и снег замерзли, и не было ничего красивее этого зимнего, тихого утра. Почему-то раньше он не любил зиму. Может, потому, что зимой бабушке труднее было выходить на улицу, а может, и потому, что он просто не знал ее, зиму, такую, как здесь, как сейчас, и этого леса не знал, и многого другого, чего он не видел в Москве. Пришла Варвара Семеновна, и вместе с ней пришел еще один человек, который назвался дядей Колей, и ему это тоже понравилось. Хорошо, что он мужчина, хорошо, что он просто дядя Коля, хорошо, что он после завтрака пойдет с ними гулять. — Олежек, ну как ты? — Хорошо! — Так это ты и есть товарищ Караваев? — Я — Караваев, да. И еще после завтрака сама Лайда Христофоровна его спросила: — Тебе не скучно у нас? — А почему мне может быть скучно? — ответил он серьезно — вопросом на вопрос. — А Дед Мороз тебе не понравился? — Понравился, — сказал он и, подумав, добавил: — Но только это Дед Мороз не настоящий… — Ну, иди, маленький, играй!
Тут и кончить бы рассказ. Но, поверьте, не могу. Все думали о Караваеве. О маленьком Олеге Караваеве, человеке с трудной биографией для взрослых и с полным отсутствием какой бы то ни было биографии для него самого, потому что настоящей его биографии еще не существовало. Она сложится потом, со временем и возрастом, обязательно как-то сложится. Но все почему-то забыли сегодня об одном, и сам Олег Караваев не мог сердиться на это: он просто не знал и не помнил, когда он родился. А ведь он родился сегодня, первого января, и не станем говорить, какого года. Может, он родился тогда, когда шесть лет назад родился, а может, родился куда позже, когда приехал сюда. Вокруг него были ребята, и чудесный лес, и настоящие ели в снегу, и был настоящий мороз, щипавший нос и щеки, и еще у него было хорошее настроение. И он, новорожденный, не помнил ничего другого.
ОНА ТАКАЯ
— Леля? — А? Сейчас, тетя Паша! — Лелечка! — Тетя Дуня, сейчас! — Лель! Подсоби-ка, миленькая! — Сейчас! Она, Леля, такая. И подсобит, и поможет всегда. Ее любят и хвалят, и в стенгазете в каждом номере что-нибудь о ней — хорошее. Правда, народу у них мало, и в стенгазете пишут про каждого. Она и сама пишет как самая грамотная. Вот только рисовать и переписывать красиво заметки она не умеет. Это делает дядя Гриша — шофер. Дядя Гриша — единственный мужчина у них. Пожилой уже. У него дети и жена. Он всегда рассказывает о них по дороге, и Леля все знает в точности, потому что дядя Гриша одно и то же повторяет по многу раз. А остальные у них — женщины, старые и не очень старые, как была мама, но все очень симпатичные. — Лельк, родненькая ты моя! Ну что ж ты, так и будешь всю жизнь коптить с грязным бельем? — Почему с грязным? А чистое… Зинаида Сидоровна — самая старая и мудрая среди них. — Да ведь лет-то семнадцать! Это мы — бабы, а ты? Леле семнадцать. Это верно. Через месяц и пять дней будет восемнадцать. Много ли, мало ли? Кто знает. Наверно, мало рядом с ними. Наверно, не совсем мало. Она уже два года работает. Два года и три месяца. И она не думает об этом. Так сложилось, иначе не могло быть. Леля понимает, что у всех своя жизнь и свои заботы, и у нее есть свои, пусть их меньше и ей, конечно, легче, чем всем им, но, наверно, не надо все мерить возрастом. Так и мама когда-то говорила, и еще раньше папа. И сейчас она так думает, про себя. А папа очень хорошо как-то рассказывал, и ей, Леле, запомнилось это на всю жизнь. Слова точные, как говорил папа, она не помнила, но помнила его лицо и руки, когда он говорил, и смысл его рассказа. А было так. В войну, когда она уже долго шла, под самый конец ее, призвали в Красную Армию двадцать шестой год. Это по рождению тех, кто в одна тысяча девятьсот двадцать шестом году родился. Им, призванным, было тогда по семнадцать, и они как раз под самый конец попали, когда Польшу надо было всю пройти и Германию и Берлин брать. Папа тоже в двадцать шестом году родился, но он раньше на войну пошел, добровольцем, в шестнадцать лет. Но он не об этом тогда говорил, она это раньше знала, и потом уже от мамы, а разница, оказывается, была в том, что двадцать шестой взяли на войну, а двадцать седьмой не взяли. Война кончилась. На войне солдат — первая личность, выше всех генералов, а война прошла, и генерал иной обузой государству оборачивается! Корми его, пои, за звездочки плати, а солдата — что? — демобилизовали, списали с довольствия, и пошел он куда-то к себе, как вот я к вам вернулся, и опять же наркомату, Министерству обороны по-нынешнему, легче. Оно, министерство, уже не отвечает за этого солдата. До следующей заварухи. А так — военкомат: он знает, что когда надо делать. Вот так приблизительно говорил папа, когда Леля еще совсем маленькой была, только из октябрят перешла в пионеры, но ей это все очень запомнилось. Может быть, она догадывалась (сейчас ей так кажется), что папы не станет, но он говорил как-то интересно, необычно, и если что ей непонятно было, и не только ей, а и маме, он объяснял, и тогда они понимали. Раз и сейчас Леля помнит, значит, запомнилось. Но и опять не в этом дело. А в том, как папа рассказывал, что, когда война кончилась, он домой вернулся и стал устраиваться на работу. У него друг, товарищ детства, на год моложе его, и он к нему устроился. А потом они поссорились из-за чего-то и даже поругались. Товарищ его начальником был, а папа подчиненным. Папа пришел к нему — начальнику — и говорит, что тот все не так делает, нельзя и неправильно так поступать. А тот, товарищ его, закричал, заругался, грозить стал, и они окончательно поругались. Тогда папа и спросил его, почему он кричит и грозится, а тот ему в ответ: мы с тобой ровесники, старые друзья… Тут папа и сказал ему: да, мы почти с одного года с тобой, разница маленькая, но я все же старше тебя, старше на одну Отечественную войну. Так что уж, пожалуйста, не кричи на меня… Леля работает в прачечной. Вернее, в приемочном пункте, потому что белье она отправляет на фабрику-прачечную, а их дело собрать грязное для отправки и получить чистое для раздачи. Здесь и мама работала. А когда она заболела, Леля подменяла ее после школы, потому что надо было на что-то жить: папа тогда умер уже. Леля училась в восьмом классе и все успевала, и уроки, и дела по школе, и работу. А вот когда мамы не стало, пришлось школу бросить и только работать. Так она и осталась здесь насовсем. То, что Леля помогает тете Паше, тете Дусе, Зинаиде Сидоровне, — вовсе не главная ее работа. Главная — ее участок. Вместе с шофером дядей Гришей ездят они на стареньком «Москвиче»-пикапе по домам и дворам, и Леля бегает по подъездам и квартирам, сдает по квитанциям и поштучно чйстое, принимает грязное, проверяет метки на каждой простыне и наволочке и выписывает квитанцию новую. Ее уже знают клиенты, и она не боится даже собак, которые ее облаивают, потому что она и собак всех изучила, и каждый подъезд, каждую квартиру, и всех, к кому она приезжает. У нее — хороший участок. Чаще это пенсионеры — старики и старушки, потому что она приезжает днем, когда все остальные работают. И одни, замороченные, встречают ее как бы между прочим, другие приглашают поесть или чаю выпить, третьи яблоко или конфету предлагают, от чего она всегда отказывается. Но все ее знают и относятся к ней по-человечески, и ей это самой нравится. Правда, и вредные, конечно, попадаются: придирчивые, недоверчивые, но еще хуже необязательные. Привозишь белье в срок, торопишься, звонишь-звонишь, а их дома нет. Такие люди всегда огорчали Лелю, и она злилась, пока сама не нашла выход, сообразила, что ведь можно каждому позвонить, прежде чем выезжать, и перепроверить. И она, придумав это, обрадовалась, и пусть над ней посмеивались женщины в приемном пункте, она, прежде чем погрузить белье в машину дяди Гриши, садилась теперь за телефон и подряд обзванивала всех. Звонить в Москве по телефону — дело трудное, пока пробьешься через какие-нибудь 151 или 150, но все же так было куда лучше. И она уже потом везла белье, точно зная, что ее ждут, да и самим клиентам это понравилось: многие ее хвалили за предусмотрительность и внимательность. Может быть, конечно, это очень плохо — судить о людях по белью — по чистому или грязному, может быть… Но Леля судила. И судит сейчас. Люди очень интересуют ее. И Леле интересно разбираться в людях. Разбираться, думать про себя, кто какой и у кого какая жизнь. Иногда с ней делятся и бедами и радостями. Чаще она сама додумывает. И получается все по-разному. Нет ни одной семьи, похожей на другую. И в каждом доме люди разные. Взять хотя бы детей. С детьми она тоже часто встречается. И сами дети, и взрослые рядом с детьми, и вот собаки — теперь у многих дома собаки: кто как к кому относится, все это так по-разному… — Лельк, родненькая ты моя! А может, завербоваться тебе куда? В Сибирь? На Колыму? Специальность получишь, опять же деньги, не наши гроши… — А комната, Зинаида Сидоровна, как? Папа здесь жил, мама, а я… Зинаида Сидоровна хорошая женщина. И заботится о Леле всегда, когда еще с мамой плохо было. Она никогда не напоминает ей о маме, боится огорчить ее, и Леля это знает. Ведь Зинаида Сидоровна проработала с мамой много-много лет, и они дружили, давно, при папе. Зинаида Сидоровна тоже приемщица, как мама была, как она сейчас, только в пункте, не на участке. Там тоже много работы, потому что дом, где находится приемный пункт, большой, девять корпусов, и люди без конца идут. Леля помогает Зинаиде Сидоровне, когда может, а в свободную минуту и в магазине ей что нужно купит. Леля всегда знает, где яички дешевые продают, где мясо получше, где парные, не мороженые датские или венгерские цыплята появляются. Пока она с дядей Гришей едет, по сторонам смотрит и все примечает. Женщины же, которые работают вместе с Лелей, тоже интересные. И не только сама Зинаида Сидоровна, которая старшая, а тетя Дуся, тетя Паша, и уборщица тетя Тоня, и ночная сторожиха тетя Клава. Как разговорятся, такое начинается! Леля слушает, краснеет и думает: «А что ж тогда мужчины меж собой говорят!» Чаще о ней говорят. Как она появится утром или с участка вернется, так и переходят на нее. Леля удивляется, не обижается, краснеет. Ну, что ей сказать? Почему она должна быть недовольна? Ей нравится так. А любовь? Ну, была у нее одна любовь, еще в шестом классе, когда она в физика влюбилась, Василия Семеновича. Влюбилась страшно, ночи не спала, но ведь он взрослый был, женатый, и как сейчас об этом скажешь? Странно. И еще она влюбилась бы, именно с «бы», в дядю Гришу, шофера ее, но он тоже старый и женатый, а она, слушая его, почему-то завидует его жене и в чем-то осуждает ее, вернее, поправляет, думая, как и что бы сделала она — для дома, для его ребят, лишь бы дяде Грише было легче. У нее дома, хотя она еще и одна, всегда все прибрано и все есть. Но и об этом не скажешь вслух? Тетя Паша тут спрашивает: — Нет, ты со мной не спорь, а скажи, зачем ты живешь? Вот ты — зачем? Перед этим у них спор был. Тетя Паша спорила и за себя и за Лелю, а Леля молчала. — Живу, — наконец сказала Леля. — Вот живу и… Не помирать же! — она рассмеялась. — Не о том я, Леля! Пойми, не о том вовсе! — А о чем? — Неужто так и нет у тебя никого? Ну никогошеньки? — Почему нет? — Леля смутилась. — У меня Люся есть, подружка. — Опять двадцать пять?! Не о том я! Пойми ты… Леля! При чем тут твоя Люся? Леля не знала, что у тети Паши чуть не сорвалось слово «дурочка», и Леля сказала: — Ведь Люся очень хорошая. Мы с ней… Может, чего-то она не понимает? Нет, почему не понимает? Она все прекрасно понимает! — Тетя Паша, а мне хорошо! А что она могла сказать? Им и тете Паше, может быть, непонятно, что ей нравится жить, так жить. Глупо же думать о том, что у нее сейчас будут папа и мама, которых нет? И еще о том, как она жила, если бы они были? Это все равно, что представить себя на месте Терешковой или давней ее подружки по школе Люси Еремеевой, которая пять лет выступает в ансамбле Локтева и объездила весь мир? Да, нужно позвонить Люсе. Совсем забыла… А Сибирь? Она поехала бы в Сибирь. Когда-то на целину хотела, но сейчас — зачем куда-то ехать. И работой она довольна, и денег, пусть их немного, ей хватает, а по вечерам она приходит домой, в свою комнату, и читает до ночи. Зинаида Сидоровна не знает этого счастья — читать, и тетя Паша, а вот тетя Тоня — уборщица — много читает и разбирается. Она о книгах судит лучше ее, как настоящий писатель. Дома у Лели в самом деле хорошо. Отдельная комната — четырнадцать метров. Говорят, что многие семейные не имеют такого. И все у нее чисто, прибрано. Ни соринки, ни пылинки. Папино и мамино она бережет особо… К ней и Зинаида Сидоровна не раз заходила, и другие женщины забегали, а тут как-то и дядя Гриша не постеснялся, хотя и отказывался, но зашел все же. Все одобряли ее жилье и порядок. А дяде Грише Леля поставила четвертинку старки, специально для него купленную, и он был доволен, взял бутылочку с собою, сказав: — В гараже, как машину отгоню, раскрою. С ребятами… Дома у меня, сама знаешь, не выпьешь… Дядя Гриша рассказывает только про себя и свой дом. Про жену свою Надю. Про Герку и Славку — это его ребята. Иногда про войну, на которой он был танкистом. Тогда люди часто сгорали в танках. А Славка у него опять двойку схватил по русскому письменному. Герка не такой, занимается. А этому одно — хоккей, правда, летом еще и футбол. Тоже мне, как его, Ги-Молле или Пеле нашелся! Хорошо, что о другом дядя Гриша не говорит. И Лелю ни о чем не спрашивает. А ведь иногда такое можно спросить, что потом весь вечер думать будешь! И почему же не влюблена до сих пор? И школу бросила? И комсомольский билет не обменяла?.. Кстати, надо сфотографироваться и обменять комсомольский билет. Сколько раз собиралась в фотографию, а не выбралась. Часы там, правда, неудобные, все когда она работает… Леля любит дядю Гришу за все за это, и когда она бежит с бельем по подъездам и появляется с бельем назад, он не торопит ее, не ворчит, если она задержалась на минутку, а такое случается, хотя она и понимает, сама торопится: ее ждут машина и дядя Гриша. И вот Леля задержалась. Дольше обычного задержалась, прекрасно понимая это, отсчитывая каждую лишнюю минуту, и все равно она не могла поступить иначе. И когда выбежала из двести седьмой квартиры, опрометью летела по лестнице с четвертого этажа, и ей хотелось кричать от радости и извиняться одновременно перед дядей Гришей, потому что она ждала, что он ее обругает. И еще она думала, что если он будет ее ругать, то она скажет ему, и он все поймет. Леля открыла дверцу машины, возбужденная, непохожая на себя, и дядя Гриша, отложив на сиденье газету, спросил, как всегда: — Тронулись? Тогда Леля успокоилась, и стихла, и как бы пришла в обычное свое состояние. Она раскрыла записную книжку и назвала следующий адрес: — Знаю, ты же мне говорила, — сказал дядя Гриша. — Между прочим, когда моя Надя… Леля уже не слушала, что говорил дядя Гриша, потому что она знала заранее, о чем он. Пока они выезжали из лабиринта двора, затем за ворота, на улицу и дальше по знакомому маршруту в следующие ворота и опять налево, направо, направо, налево к очередному нужному подъезду, она все думала: что же произошло? Минуту назад она готова была сказать, крикнуть дяде Грише: — А я… Но она не сказала и правильно не сказала, а что же все-таки произошло? Может, и ничего? Спросила вдруг: — Дядя Гриша, а сколько вам лет? — Сто, — буркнул дядя Гриша. — А что ты спрашиваешь? — Нет, в самом деле? — Много, сорок четвертый разменял. — А он молодой, — неожиданно сказала Леля. — Кто «он»? — Так, — спохватилась она. — Никто… — Счастливый, — сказал дядя Гриша. — Еще хлебнет горя! Все впереди! Нет, в самом деле, если думать спокойно, то ничего особенного. Просто Леля поднялась на четвертый этаж в двести седьмую квартиру, которую не любила заранее. Она, эта квартира, как раз из тех, которые подводят даже после предварительных телефонных звонков. И здесь не раз было так, а кому охота таскать зазря вверх-вниз пачку белья, тяжелую пачку, а потом опять приезжать, искать клиента. И главное: сами вызывают, а дома не оказываются. Ну ладно с чистым. А грязное? Сами хотели сдать. И вот не сдали. Придется еще раз вызывать ее, а у Лели и так полно работы. Как же ее фамилия, старушки такой? Леля перебирала в памяти знакомые фамилии и уже нажала кнопку звонка, когда вспомнила: Никандрова. Она еще как-то о чем-то с ней говорила. Но на сей раз ей открыла дверь не старушка. — Из прачечной, — бросила Леля по привычке и прошла в квартиру, знакомую, обычную, однокомнатную, каких много. И эту она помнила и потому пронесла сверток прямо в комнату и положила на диван. — Здравствуйте! Вот! Грязное будете сдавать? Она удивилась, что ее встретил мужчина, которого она никогда не видела, и как-то неловко захлопотал вокруг нее, долго извинялся за свой вид и почти растерянно сказал о грязном: — Вообще-то надо бы, но понимаете… Надо было собрать заранее, а я… Он сразу понравился ей, и не как-нибудь там, как мужчина, а как человек. Застенчивый такой и симпатичный. И чуть неухоженный, грустный. И дома у него все было не прибрано, что она заметила сразу, и вообще что-то не то и не так было во всем, и она, ничего не зная, взялась ему помогать. Они собрали вместе белье, и она пришила недостающие метки (перед тем он долго искал иголку и нитки), пересчитала все, связала и стала выписывать квитанцию. Ей хотелось спросить, где старушка Никандрова, и вообще что и как он, и почему он дома, а женщин в квартире нет, но Леля постеснялась и спросила: — Фамилия ваша тоже — Никандров? — Никандров, — сказал он покорно. — Инициалы? — Ка Эс. Константин Сергеевич. А так просто — Костя. Не для квитанции. Леля улыбнулась, не выдержала: — Но вы же старше меня! И потом, я спрашиваю для квитанции! Она сама удивилась своей игривости и вспыхнула, напустила на себя серьезность. — Мне мама о вас говорила, — продолжал он. — Вот, говорит, если бы ты писатель был, а не циркач, то написал бы о такой девушке. Ведь вы та самая Леля? — Леля, — удивилась она. — А почему та самая? — Мама говорила, что вы очень внимательная и еще, простите, красивая. Вы уж только извините меня, пожалуйста. Столько хлопот вам… — А я вас раньше не встречала, — призналась Леля, хотя это было смешно говорить. — Мы ж все время на гастролях, — сказал он. — Дома как гости. И когда это случилось, я в Сибири был на гастролях. Красноярск, Омск, Иркутск, Улан-Удэ, Новосибирск… — В Сибири? — переспросила она. И все! Ничего особенного. Он даже конфетку ей не предложил, как другие, или яблоко, апельсин, но что-то произошло, она чувствовала это, и была в ней радость, был восторг и щемящее чувство ожидания. А может, она это придумала?.. Дядя Гриша что-то закончил говорить, когда они подъехали к нужной двери, но и сейчас, когда она бегала по разным квартирам, и до вечера она думала почему-то о двести седьмой и, закончив работу, дома думала оней. Утром Леля пришла на работу. — Леля? Что с тобой? — А? Почему, тетя Паша? — Лелечка! Ты вроде похорошела сегодня! Красавица! — Что вы, тетя Дуся! — Лель! Ты что? — Ничего. — Радость какая? — Что вы, Зинаида Сидоровна! Леля смущалась, краснела и не знала, что сказать. А что сказать? Ведь ничего нет, просто так. Не объяснишь же этим женщинам то, чего себе объяснить не можешь. Но они все видят и замечают, эти женщины! А потом все было как в сказке. И пропуск, который он привез для нее, и то, что на пропуске было отпечатано «Московский государственный ордена Ленина цирк», и то, что говорили Зинаида Сидоровна, и тетя Паша, и тетя Дуся, и все по этому поводу, и то, как Леля не знала, куда себя деть, потому что хорошее, оказывается, труднее скрывать, чем плохое. Леля сидела в цирке на приставном месте, как ее посадил сам Константин Сергеевич, и ждала, ждала, ждала. Сначала третьего звонка, потом, когда начнется представление, потом выхода акробатов на проволоке, где он уже будет не Никандровым, а Калистратовым, но разве это важно. Она поражалась, восхищалась и все время ждала: еще и еще, еще и еще что-то будет, что-то должно быть. Нет, цирк — это самое лучшее на свете. Она бывала и в театрах, и в кино — чаще, а в цирке раз или два, совсем еще маленькой, до школы, с папой и мамой, и тогда, наверное, цирк ей нравился, а сейчас — сейчас это было что-то необыкновенное. Есть, конечно, искусство и искусство, это непостижимо, но где-то в кино или в театре тебе может что-то нравиться и не нравиться, и пьеса может быть плохой, и актер слабый, а тут — тут нельзя не восхищаться. Каждый номер, самый маленький, самый простой, это бог знает какая работа, какой труд! И вот группа Калистратовых. Их много, и Леля видела всех, но больше Константина Сергеевича, который вовсе не был главным, но как он был хорош. И это ж надо такое уметь!.. После представления Леля ждала его, как он просил, и они вместе вышли из цирка, направились к Трубной, потом по бульварам к улице Горького. Осень переходила в зиму. Шел снег. Он говорил ей что-то хорошее, она радовалась и думала, вспоминала и вновь думала о чем-то очень разном. О цирке, конечно, и о том, что надо сфотографироваться для нового комсомольского билета, и взносы заплатить за октябрь, и обязательно поступить с будущей осени в школу рабочей молодежи, пусть опять в восьмой, но надо, и съездить на кладбище — Ваганьковское и Перхушковское — на могилы папину и мамину, привести их в порядок, и не забыть позвонить Люсе Еремеевой, а то она обидится и правильно сделает, потому что Леля ей очень давно не звонила. — А я и не знал, что вы такая, — сказал он. — Какая? — Такая, какая есть. Мама говорила, а я не знал… Леля промолчала. Ей и так было хорошо. Она вспомнила свою работу, и тетю Пашу, и тетю Дусю, и тетю Тоню — уборщицу, и дядю Гришу — шофера, и, конечно, Зинаиду Сидоровну, и то, как все будет завтра утром, когда она придет. А в Сибирь она поехала бы, обязательно поехала, если он был бы там на гастролях, и ходила бы на все его представления, и потом они вместе шли бы по сибирским улицам вот так, как сейчас.ПРИКЛАДНАЯ ХИМИЯ
О ели вспомнить детство, то его, пожалуй, больше увлекала физика, чем химия. Правда, в том смысле, который вкладывается в это понятие сейчас, физики в тридцатые годы не было. Скромная университетская наука, имеющая дело с относительно простым оборудованием и обходящаяся весьма малыми денежными средствами. Лишь прикладные вопросы — радиотехника, электротехника и авиация — были более привлекательными и обещающими. И все же в школе Валерию Павловичу повезло, особенно после восьмого класса, когда пришел Борис Николаевич. Формально он преподавал физику, но болен был химией. И в те часы, когда на уроках появлялась возможность поговорить о химии, Борис Николаевич, казалось, становился просто счастливым. Он рассказывал о химии так, как говорят о позднем, единственном, горячо любимом ребенке — глаза его излучали глубокую и преданную нежность, речь становилась какой-то завораживающей, ему было очень хорошо. Борис Николаевич предсказал этой науке — во что тогда трудно верилось — великое, сложное и почти фантастическое будущее. И в том, что Валерий Павлович стал потом признанным и уважаемым ученым, академиком, возглавляющим ныне один из ведущих научно-исследовательских институтов, в названии которого соединились физика и химия, была, наверное, заслуга и Бориса Николаевича. Но странное дело, Борис Николаевич почти всегда вспоминается Валерию Павловичу почему-то не по довоенной школе, а по зиме сорок первого. Возник он тогда совершенно неожиданно — его навстречу Валерию Павловичу стремительно вытолкнула тревожная, горячая суета у Покровских ворот. — Валерий! Я знал, что встречу вас здесь. Сегодня все время думал о вас, — Борис Николаевич начал разговор так обыденно, как будто расстались они вчера. Но при этом внимательно и вопросительно, словно ждал чего-то, смотрел Валерию в глаза… И вдруг добавил почти уже совсем несуразное: — Помните, как Чкалова встречали тут, по соседству, на Мясницкой, то бишь улице Кирова? Они так ничего и не успели толком сказать друг другу. Но эта встреча почему-то долго и больно назойливо тревожила совесть Валерия Павловича. Все время было ощущение, что он в чем-то виноват перед Борисом Николаевичем — виноват, но в чем?.. Оба они тогда вошли в коммунистический батальон, что стал частью Московской пролетарской дивизии. Под Наро-Фоминском Борис Николаевич погиб. Немцы, чтоб прорваться к Москве, ринулись через реку Нару. Речушка, по понятиям русской военной истории, чепуховая, но тут, под Москвой, в сорок первом она оказалась трудным и очень важным рубежом. …Немцев уже основательно загнали за Нару, когда Валерий со своим пулеметным расчетом вышел на берег и на секунду решил передохнуть. Враг отошел почти без огня, а у своих, судя по всему, потери небольшие. Именно тут к Валерию Павловичу подбежал младший политрук Безручко: — Ты что ль Воскобойников? Пойдем со мной!.. Не понимая, что к чему, Валерий бросился за политруком. Они миновали небольшой лесок, разрушенную деревеньку Николаевку и на окраине ее вошли в медсанбатовскую избу. — Не добежал я, Валерий, — услышал, вернее, вспомнил он голос Бориса Николаевича, — обидно очень. Валерий сделал несколько шагов на голос, увидел плащ-палатку, под которой лежал он, его учитель, и бинты, кровавыми буграми выступавшие по краю плащ-палатки. — В живот попало, — тихо, но внятно продолжал Борис Николаевич. — Это все, конечно. Но вы… Не забудьте… Вы талантливы… Постарайтесь не растратить себя понапрасну, мне кажется, вы сможете многое… Все эти годы я, как мог, следил за вашими успехами… Учиться вам надо, обязательно надо учиться… Очень прошу вас… Валерий Павлович почему-то смутился, смешался от этих слов, хотел сказать что-то подобающее ситуации, но что, не знал. И молча смотрел на Бориса Николаевича, Тот сделал попытку заговорить снова, но вместо слов вылетели булькающие звуки. Борис Николаевич открыл глаза, и Валерий Павлович увидел в них такую тоску и страдание, что неожиданно для себя наклонился и припал к руке Бориса Николаевича… Потом было суетное. Он хотел сам похоронить Бориса Николаевича, но начальству медсанбата было все не до этого, а Валерий должен был возвращаться к своему расчету. Все же похоронить успел. Могила оказалась братской — двадцать семь человек. Он отдал Борису Николаевичу долг. В последние годы Валерию Павловичу особенно часто стали сниться военные сны. …Вот после суточной переформировки их перебрасывают под Красную Поляну и Белый Раст. Они трудно — от чего сердце в груди тяжело, вот-вот разорвется, стучит — выбивают вместе с моряками-балтийцами немцев из Красной Поляны и Белого Раста. Там, в Расте, его ранило. Там он встретился с Верой Прохоровой, старшей медсестрой, которая стала после войны его женой. Но ранение в Расте уже не снилось. Он просыпается раньше — и неимоверными усилиями отодвигая от себя ту военную действительность, жадно, радостно, с прерывающимся дыханием принимает действительность сегодняшнюю. …Или он участвует в штурме немецкого городка Бунцлау, бой за который шел двенадцатого февраля сорок пятого. В сполохе страшных, неслышимых огненных разрывов бой этот вдруг исчезает, а Валерий Павлович совсем один оказывается на пустынной площади, перед памятником Кутузову. Кто-то невидимый громко читает надпись на памятнике: «До сих мест довел князь Смоленский Кутузов победоносные войска свои, но смерть положила предел славным делам его. Да будет благословенна память героя!» Валерий вспоминает, что Кутузов умер от простуды в апреле 1813 года. Знает, что здесь, в Бунцлау, похоронено сердце русского фельдмаршала. Еще один бесконечно повторяющийся сон был помечен точной датой — второе мая сорок пятого. Побежденный Берлин. Метро, затопленное самими немцами. Он долго спускается вниз и видит страшно много черных мелких крыс, суетливо и торжествующе шныряющих по мертвым людям. Валерий Павлович идет между ними, и это огромное мерзкодышащее скопище легко и податливо растекается от каждого его шага. Он просыпается, но сон продолжают картины увиденного тогда в Берлине. Зоопарк. Уцелевшие звери и погибшие, лежащие прямо на улицах мальчишки-фольксштурмовцы. И много-много немцев, в основном стариков и женщин, стоящих в очередях к солдатским красноармейским кухням. У всех — на рукавах белые повязки. А в каждом окне — белые простыни, скатерти, полотенца. На Унтер-ден-Линден Валерий Павлович встретил тогда немца в штатском: — О, герр русский офицер! Он, картавя, неплохо говорил по-русски. — О, вы знаете, как я рад, что русские пришли в Берлин. Ведь я сам из Одессы. Специалист по импорту кожи. Работал в торгпредстве, Люблю Россию и очень скучаю по ней… — И долго скучаете? — спрашивает Валерий. — С самого начала… — Надо понимать, с тридцать третьего, когда пришел Гитлер?.. — Зачем вы так?.. И потом не очень уверенно и явно смущенно немец добавил: — Я надеюсь, что сейчас мне удастся все-таки вернуться на родину… Валерий разыскал Веру в сорок шестом через адресный стол в городе Горьком. Он не мог без нее. Вера не сразу, только в сорок седьмом решилась переехать в Москву. Долго, может, слишком долго обживала его относительно приличную жилплощадь, конечно, коммунальную, в Настасьинском переулке. У него с мамой было три комнаты и восемь соседей. Отец умер до войны, в тридцать девятом, вернувшись из Испании с тогда еще не очень распространенным и потому малоизвестным раком. И там, в Горьком, и потом в Москве Вера не раз тревожно и всегда, казалось ему, совершенно не к месту спрашивала его: — Тебя не пугает, что мы такие разные? — Ну, почему разные? — возражал он. — По законам физики противоположности как раз и сходятся… — Но ведь жизнь не всегда подчиняется законам физики… Он всякий раз пытался успокоить ее, стараясь не вдаваться в смысл Вериных сомнений. Он интуитивно это чувствовал — совсем не лишенных основания. Он был доволен, что у Веры сложились прекрасные отношения с матерью. Сам же, торопясь, наверстывал упущенное войной в МГУ, где его уже приметили, строил планы на будущее, непременно связывая его с аспирантурой, а Вера работала в детском саду медсестрой — осталась верна военной специальности и все мечтала о ребенке. Но именно он откладывал это на потом, поскольку понимал, что ребенок для него сейчас помеха. Жили бедно, денег постоянно не хватало. Его стипендия — гроши, Верина зарплата — небольшая да мамина пенсия, еще меньше. Каждый человек ищет оправдание содеянному, и Валерий искал. Ему казалось, что разрыв с Верой начался задолго до развода. И пытаясь собрать в памяти, с чего все началось, каждый раз вспоминал похороны матери, умершей в сорок девятом. Валерий опоздал в морг, и потому гражданской панихиды не было, а у могилы, где стояло пять-шесть маминых и отцовских друзей, включая бывшего бригадного комиссара, — он не знал их и лишь там, на похоронах, услышал, что бригадный вместе с отцом воевал в Испании, — неясно ощутил: что-то не так. И после похорон, на поминках, когда у стола хлопотала Вера, постоянно вдруг убегавшая в другую комнату и скоро возвращавшаяся оттуда с красными глазами, а он сидел отчужденный, вроде бы и не причастен к происходящему… Как будто умерла совсем и не его мать. И не тогда ли ему показалось, что он только что потерял не мать, а потерял Веру? Но он тут же отогнал от себя вспыхнувшую тревожную мысль. Об этом ли ему тогда было думать? Ведь скоро защита диссертации, и главное на данный момент — утвердить себя в науке, а все остальное — Вера, возможные дети, даже смерть собственной матери — потом, потом, потом… И вспоминая это сейчас, он торопился сам себя успокоить: в то время надо было многое успеть, он дорвался до науки и уже, будучи студентом, всерьез нащупал свою основную тему: «Методы борьбы с коррозией металлов». И… не потому ли опоздал на похороны, опоздал почувствовать боль и потерю… Вера стеснялась его друзей. Но и этому он не придавал значения. Если кто-то приходил к нему домой, она старалась пропадать на кухне. В гости они почти не ходили, а если и ходили, то Вера чаще застенчиво молчала. Единственное, что по настоящему сближало их, это концерты. Вера любила и понимала серьезную музыку, и когда ему удавалось достать билеты в консерваторию или зал Чайковского, была, казалось, по-настоящему счастлива. Но счастлива молчаливо. Он пытался говорить с ней о музыке. Она смущалась: — Я говорить об этом не умею… Музыку надо просто слушать. Разве не так? — Не знаю, — говорил он. И тут же предлагал — Пойдем в Дом ученых на концерт Софроницкого? Никаких серьезных конфликтов он вспомнить не мог. Так, одни мелочи. Но мелочью ли был март пятьдесят третьего? Умер Сталин, и, казалось, мир перевернулся. У Валерия вот-вот должна быть защита диссертации. Тема та же: «Методы борьбы с коррозией металлов». И Валерий, не признаваясь себе, ощутил легкую досаду — по всей видимости сроки ее защиты передвинутся… Вера спросила: — Ты не пойдешь в Колонный зал? — Почему не пойду? Обязательно пойду, — ответил он, — С кем? — С университетом, наверное… — А со мной? Он не ответил тогда, но пошел, конечно же, с ней. Они слышали, что колонны строятся на Садовом кольце у Курского вокзала. Бросились туда, но там ничего не было. Сказали, что на Самотеке. Вместе с такими же, как они, ошалело помчались на Самотеку. Но и там никто не собирался. Пошли к центру, но туда их не пустили. И вот, наконец, у Покровских ворот они втиснулись в какую-то колонну и медленно двинулись по бульварному кольцу. У Кировских ворот все было нормально, у Сретенки тоже, а на Рождественском бульваре началась давка. Их прижали к домам и вот уже совсем стиснули, словно вдавили в каменные стены, а потом резко бросили в разбитые окна подвалов. Помнится, он сказал тогда: — Я дальше не пойду. — А я пойду, — Вера отчужденно и неожиданно сердито посмотрела на него. — На Трубной, слышала? Столпотворение, — он не столько беспокоился за Веру, сколько беспомощно искал подтверждения своему решению. — Все равно пойду! — упрямо повторила Вера. Он не был трусом на войне, но чего-то тогда снова он не понял или торопился не понять? Вера вернулась под утро, и он даже не решился спросить ее, удалось ли ей попасть в Колонный зал. Она долго сидела, тяжело положив руки на подлокотники старого, еще отцовского, кресла. Потом, когда он в очередной раз проходил мимо, совершенно чужим, чуть осевшим голосом сказала: — Не сердись, Валера, но я сегодня же уеду от тебя. Домой, в Горький. Если, конечно, билет достану. Он был настолько обескуражен, что не нашелся, что ответить. Помнится только, что его очень обидно задело слово «домой». А сейчас она, что ж, не дома? И, значит, не считала его дом своим родным? Но тогда — первое, что беспомощно и глупо пришло на ум: может, надо помочь с билетом? Каким образом? Попытаться достать через университет? Но почему надо так срочно уезжать? Что случилось? — У меня же послезавтра должна быть защита. — Защитишь, — сказала она. — Знаю и поздравляю заранее. Потом бесстрастно добавила: — Это на войне казалось, что мы одинаковые. На самом же деле — очень разные. По-разному смотрим на жизнь. Я преклоняюсь перед твоей целеустремленностью. И ты научил меня многому за эти годы. Ты не хочешь, да это тебе совсем и не требуется — понять меня! А я ведь живая. Ты ведь даже ни разу, несмотря на твои заверения в любви — а я верю, что ты любишь меня, — не удосужился посидеть со мной просто так, спросить, как мне живется, чего я хочу, о чем думаю. И я знаю, если что-то у меня сложное, трудное случится, ты не поможешь мне, главное для тебя — это ты, твоя наука, твои отношения, а все остальное несерьезно — и стоит ли на это тратить лишние усилия… Ты даже не понимаешь, как это страшно, имея любящего мужа, почти все время быть одной. Одиночество вдвоем… Нет, больше я не могу. Не сердись. Ты еще построишь семью… Она уехала не в тот вечер, а в следующий. Валерий не знал, на какой день она достала билет, и когда вернулся домой — ее уже не было., Конечно, он поначалу клял себя, пытался понять, что произошло, но никак не мог. И скоро успокоился. Была защита, и блистательная. Он получил не кандидатскую, а сразу докторскую и, по всей видимости, заслуженно. И вот он уже старший научный сотрудник, профессор, заведующий кафедрой в университете — все получено сразу. Работы по технологии редких металлов и редких элементов, а потом теоретическая и экспериментальная разработка основ создания веществ и материалов с заданными свойствами… Блистательная перспектива! И Валерий Павлович отдавался ей полностью, не думая о доме, о потерянной Вере… Прошлое было отторгнуто легко и беззаветно. И впереди ничего — кроме науки. А больше ничего, казалось, и не надо было. В тридцать восемь он стал академиком. Ему дали институт. Кафедру в университете пришлось, естественно, оставить. Там он лишь изредка читал лекции. Это наваждение пришло неожиданно. Они познакомились в Доме ученых на каком-то рядовом юбилейном вечере, где Валерий Павлович председательствовал. Потом встречались еще несколько раз. Через месяц Римма Васильевна зашла к Валерию домой и осталась. Уже через месяц они оформили брак. В отличие от Веры, Римма была моложе Валерия Павловича на десять лет. Но эта разница не смущала его. Смущало другое. Как-то сразу она стала старшей, главенствующей. И не только в доме, но и даже в делах его. И, наверное, не случайно и его друзья и знакомые называли ее не иначе, как только по имени-отчеству. Неистовая деловитость и чрезмерная организованность молодой супруги скоро начали угнетать и обескураживать Валерия Павловича. Она быстро взяла в руки дом Воскобойникова, как-то легко и властно вошла в круг его знакомых и сослуживцев и, кажется, была готова руководить не только его делами, но и делами всех его коллег. Деньги летели, но бог с ними, Валерий Павлович никогда не придавал этому значения, но вот бесконечные упреки, что его якобы недооценивают, обходят вниманием, сначала вызывали снисходительную усмешку, потом стали настораживать. Валерий Павлович был в общем-то лишен тщеславия. Академик, директор института, золотая медаль Ломоносова, что нужно еще, когда нет и пятидесяти. Он увлекся новыми методами неорганического синтеза, корпел над выяснением природы химической связи, электронного и неметрического строения молекул и кристаллов, подбирался вплотную к разработке инструментальных методов химического исследования простых и координационных соединений, а тут без конца: «Почему ты не купишь машину?», «Почему других выдвинули на Государственную премию, а тебя нет?», «Почему тебя не посылают за границу?», «Почему ты не переедешь в высотный дом, где живут все приличные люди?»… В первое время он пытался не реагировать на эти разговоры, потом отшучивался, позже, чтобы отвлечь от этих разговоров, стал уговаривать Римму Васильевну сходить то на концерт симфонической музыки в консерваторию, то в театр, то просто приносил хорошую книгу, но музыка ее не увлекла, как и театр, как и многое другое, как, впрочем, и ее юридические науки. Кажется, он лучше ее за эти годы познал, что такое арбитраж, специалистом по которому она была, и мог бы вполне взвалить на себя, случись такая необходимость, все ее служебные заботы, тем более что Римма теперь больше сидела дома, нежели у себя в институте, — ей там было явно неинтересно. И в Дом ученых, где они когда-то познакомились, она уже давным-давно не ходила, хотя там были не только интересные, но и важные для него встречи. Чем больше Римма Васильевна проявляла активность, тем больше Валерий Павлович как-то в ее присутствии замыкался в себе. Он уже не выносил гостей и особенно всего того, что предшествовало их сбору, сам всячески избегал визитов в гости. Время шло. Он получил Государственную премию. Стал часто бывать в Париже и Монреале, Лондоне и Бонне. Купил машину. Но все это словно происходило как бы не с ним. Словно это Римма Васильевна получила премию. Словно Римма Васильевна ездила в заграничные командировки. Словно Римма Васильевна купила машину. Впрочем, машиной он действительно почти не пользовался. У него была служебная, которой ему вполне хватало. Оставалось получить квартиру в высотном доме, но пыл Риммы Васильевны не иссякал. И не только по части престижной квартиры. Она, как скаковая лошадь, брала барьер за барьером, и чем препятствие было труднее, тем энергия ее, соответственно, возрастала. Казалось, что ей это постоянное преодоление высот доставляет несравнимое удовольствие, и как только покоренные высоты позади, она искала новые… Он понимал, что вся их семейная жизнь напоминает плохой анекдот или затасканную тему на эстраде, и никак не хотел верить, что это происходит именно с ним. Он несколько раз серьезно попытался поговорить с Риммой Васильевной. Но это оказалось бесполезно — она просто не понимает, что он хочет. Валерию Павловичу снова приснился сон, связанный с войной. …Жаркое душное лето. Он едет из Москвы на постоянное местожительство в деревню Николаевку, что брал в сорок первом. Трясется какая-то машина с нелепым грузом: все, даже сиденье заполнено пустыми колбами и пробирками. И вот уже начинается деревня, уютная, спокойная, с крепкими избами, украшенными в изобилии резными наличниками. И Валерию Павловичу очень хорошо, так хорошо, как никогда еще не было. И вдруг на пороге одной избы он видит Бориса Николаевича: — Приехал? Рад тебе, Валерий! Тут простор и место для отличной лаборатории найдется. — Откуда вы тут, Борис Николаевич? — А я всегда тут, Валерий! А у меня сюрприз для тебя! — и радостно улыбается. — Какой же, Борис Николаевич! — Ну как же ты не знаешь? Вера! Твоя Вера. Неужели ты забыл ее? Валерий Павлович растерян. Он совсем забыл Веру. Как же это случилось, что забыл? Нельзя ее было забывать. Борис Николаевич помогает ему разгружать колбы, из которых потом, не понятно как, образуются нормальные стулья, полки, шкафы, и как бы мимоходом спрашивает: — А как твоя хищница? — Вы о ком, Борис Николаевич? — Будто и не догадываешься? — Борис Николаевич хитро прищуривается. — Это же Римма Васильевна… — Римма Васильевна живет хорошо. А где же Вера? — Сейчас, сейчас, Валерий… Сон обрывается при входе в избу. В памяти остаются лишь рябины возле окон да березки у калитки. Валерий Павлович проснулся со странным, противоречивым чувством. Было ощущение, что вернулся из какого-то приятного путешествия. Вера. Конечно, надо сделать так, чтобы только она, и никто другой, была рядом с ним. Почему он отказывался от ребенка? Пусть жизнь нелегка, но молодость бы все перекрыла. Сколько и куда можно торопиться? Он и так, торопясь всю жизнь, постоянно опаздывал. Он лежал в полной темноте, вспоминал прожитое и невольно приходил к мысли, что ему надо обязательно вернуть Веру. Ведь он любил ее. Впрочем, почему любил? А разве сейчас она не нужна ему? Чем больше думал Валерий Павлович о Вере, тем больше убеждался, как неверно он жил. И, конечно, не Вера виновата в том, а он. У него действительно все не доходили руки, чтобы спросить Веру о ее делах, о детском саде, где она работала, о ребятах. А ведь Вера наверняка и устроилась в детский сад потому, что очень любила детей и не могла жить без них. Конечно, им нужен был ребенок и, может быть, не один. Впрочем, сейчас это пустое. Он любил Веру и хочет, чтобы она опять была рядом с ним. Еще ничего не решив для себя, Валерий Павлович послал запрос в Горький. Ответ пришел через две недели: адрес: ул. Короленко… Значит, там же. Бумажка с Вериным адресом лежала в кармане, дела в институте шли обычной чередой. Колесо жизни раскручивалось все быстрее, скоро ему пятьдесят, а как мало прожито и как мало сделано. На службе его справедливо считали удачливым человеком. В их среде не принято было обращать внимание на семейные дела — счастлив, не счастлив — каждый судит друг о друге по научным результатам, по положению, наконец, а тут у Валерия Павловича все было в полнейшем порядке. Последняя его разработка — новые полимерные материалы — выдвинута даже на соискание Ленинской премии. Работа руководимого им института была на хорошем счету, его постоянно ставили в пример за тесную связь с жизнью, с производством. А дома был полный тупик, и, мучительно думая, как найти выход из него, Валерий Павлович порою просто отчаивался: как Римма Васильевна ничего не понимает? Ведь они давным-давно не живут даже вместе. А Римма все суетится и упивается, но чем? Его славой? Но ведь это не слава, а дело, жизнь. Все произошло неожиданно. За месяц до его пятидесятилетия Римма сказала: — Думаю, банкет надо делать в «Метрополе». Там очень приличная кухня… — А при чем тут кухня? — Будет Федотов, он член Комитета по Ленинским премиям. Твоя судьба в его руках. — Еще? — И Востряков, конечно, и Савин, и Злотников… — Еще? — А что «еще»? Валерий Павлович подумал: — Если тебе это нужно, то давай так: только дома! — У нас же тесно! — Ничего, поместятся. — А продукты? Их же надо доставать… — Ты все достанешь, если захочешь. Надо отдать должное Римме Васильевне, она все организовала. Но Валерий Павлович ждал не столько самого застолья, сколько окончания его. За столом он сидел отстраненный, слушая и отвечая благодарно на добрые слова. Когда гости разошлись, он положил на стол пачку телеграмм и адресов, в том числе правительственную с поздравлением по случаю награждения орденом Трудового Красного Знамени, третьим по счету, и почему-то с грустью подумал: «Жаль, что как-то не принято носить награды, даже колодочки…» Римма Васильевна прервала его размышления, как всегда, самым прозаическим образом: — Сколько раз говорила тебе, что надо иметь домработницу?! В ответ он мягко и спокойно произнес: — Нам домработница больше не потребуется. Во всяком случае после сегодняшнего дня. Жена не поняла, но сообразила:. — Не шути! — Не шучу, — сказал он. — Это сегодня наш последний вечер. Римма Васильевна бросила на стол салфетку: — Что ты имеешь в виду? — Мы больше с тобой вместе не живем. — Бог мой, ты влюбился! — воскликнула Римма Васильевна. — У тебя кто-то есть? В какую-нибудь студентку свою, как раньше в медсестру! — Влюбился, влюбился, — подтвердил равнодушно Валерий Павлович. — В студентку, в медсестру, считай, как хочешь. Римма Васильевна стояла совершенно растерянная. Но деловое начало оказалось в ней все-таки сильное. — Мы много нажили!.. — Дели, как хочешь. — А жить где? — Где хочешь. Ведь есть какие-то обмены. И вновь поразился: Римма Васильевна была деловита, сверх даже своей поразительной деловитости. — Я знаю, но три комнаты обменять трудно, — сказала она. — Господи, да об этом ли надо сейчас говорить! Решай, как хочешь. Мне нужен угол. Себе возьми квартиру — однокомнатную, двух, какую захочешь, Ты же все умеешь устраивать, если тебе надо. — Машина как? — Машину, конечно, делить трудно. Бери ее! Ради бога! — А мебель? — И мебель. — А книги? — Забирай и книги. Только оставь мне Твардовского… И мои по науке… Он не ожидал, что будет все так просто. И почему-то при этом вспомнилось: Монреаль, где он был в очередной командировке. Деловой русский канадец: — Господин Воскобойников, меня очень беспокоит один вопрос. Каждый день вы ужинаете и обедаете в частных домах. А у меня деньги на ваше питание. Как же быть? У меня ваши деньги. — Верните их мне, если положено, — сказал академик Воскобойников. — И нет вопроса. И сейчас, чем больше отдавал Валерий Павлович своей жене, тем спокойнее становилась она. — Я займусь, займусь, — повторяла Римма Васильевна. — Я постараюсь решить все, как лучше. А как же, к слову, ковры? Их же дарили тебе при мне — в Таджикистане и в Ташкенте. — Возьми и ковры. Прошло три месяца. Валерий Павлович задерживался как можно дольше в институте и жевал бутерброды с чаем, а то вдруг шел в Дом ученых или в ЦДРИ, или в Дом литераторов, к архитекторам и киношникам в надежде перекусить в буфете, а то и в ресторане. Где-то кормили лучше, где-то хуже, но всюду было вполне прилично и, казалось Валерию Павловичу, ничуть не хуже, чем готовила ему Римма Васильевна, все покупая только на рынке. Прошел почти год. Римма Васильевна, и он не мог этого не признать, оказалась на высоте: сделан удачный обмен, и Валерию Павловичу досталась однокомнатная квартира неподалеку от его института. Себе же она выменяла двухкомнатную в Южинском переулке, в перестроенном доме. Его не удивил такой вариант, он был доволен и спокойно переехал со своей библиотекой и минимумом мебели. Расстались они спокойно. — Я на тебя не сержусь, — сказала она. — Только вот не знаю, как быть. Может, чтобы не делить через суд твою сберкнижку… — Возьми, ради бога, половину по доверенности, — продолжил он ее мысль, — пока мы официально не разведены. Кажется, она поблагодарила его. А может, и просто он думал сейчас не об этом. А думал о том, что надо в институте как-то отпуск за свой счет на несколько дней. И заказ на поезд до Горького. Он должен увидеть Веру… В этот день Воскобойников появился в своем институте на редкость энергичный и помолодевший. А в двенадцать вышел на кафедру в университете и совсем не обычно, не традиционно произнес: — Юные друзья, коллеги! Пожалуй, начнем! Итак, сегодня мы порассуждаем о…ЛЕСНОЙ РАССКАЗ
И все-таки удивительно это — лес! Ели, сосны, ольхи, дубы, осины и, конечно, березы. Как эти, что стоят отдельной семейкой на опушке: всякие — молодые и старые, прямые и кургузые, красивые и вовсе вроде бы несимпатичные на взгляд. Но почему-то сюда тянет. Тянет, когда хорошо на душе. Тянет, когда плохо. И когда никак — тянет. Александр Петрович заметил березу, давно знакомую по прошлым годам, и не поверил себе: было ли так? Верх ствола расщеплен, и правая часть макушки повергнута вниз, повисла, зацепившись кончиками веток за соседнее дерево. Не было. Внизу ни щепы, ни коры. Значит, прошлым летом — гроза. Значит, без него. Летом он не приезжал… А в войну она сохранилась. Обидно, что так! Он погоревал как мог, но соседние березы, здоровые, разные, стоило ему отойти в сторону, рассеяли эти мысли, и он подумал совсем о другом: у каждой березы, оказывается, свое лицо. Ни одна не похожа на другую. И все вместе не похожи на то единое, что зовется лесом. Ели, сосны, ольхи, дубы, осины — лес. А березы и в лесу сами по себе. И тут, на опушке, где стоят одни они, это не лес, а — березы. Много берез, но каждая из них — одна-единственная, неповторимая». Такие же лица он видел вчера в городе, когда выступал в школе. И пожалуй, впервые за послевоенные годы он не стеснялся перед ними за свое лицо — обезображенное, как эта сломанная береза.Он принес в школу несколько самых простых моделей, показал, как их можно сделать. Потом спросил: — Понятно? — Понятно! — закричали ребята. — Что еще вам пояснить? — О войне расскажите! — просили мальчишки. — А вы в войне принимали участие? — осторожно спрашивали аккуратные девчонки. — А в гражданской? — восклицал кто-то нетерпеливым, петушиным голосом с места. Александру Петровичу тут улыбнуться бы, спросить наивного «петушка» строгим голосом, а знает ли он арифметику и в каком классе учится, но он вспомнил своего отца, которого давно нет на свете, и его ответы на свои, такие же наивные, детские вопросы. Да, сам был такой… Это очень, очень давно — до войны… — И вся-то наша жизнь есть борьба, — говорил тогда ему отец и чуть грустно добавлял всегда одно: — Так-то, будущий красноармеец! А теперь в кино, конечно, не на детском сеансе, или в театре — совсем иное: — Опять о войне? Это вздохи его ровесников и зрителей помоложе. Александр Петрович их не понимает. И презирает уходящих из зала, если на экране или на сцене — не пошлость. И вот еще разговор с учительницей: — Это ужас какой-то! Они все о войне мечтают! Только и разговоров! — А может, все же не о войне? О другом? — Не знаю, не знаю, как в других школах, а у нас… Александр Петрович пожал плечами. Ему дороже были эти мальчишки и девчонки, чем их учительница. Просто спорить с ней не хотелось. Как-никак учительница. В нем трудно узнать полковника. Когда идет по улице или стоит у прилавка в магазине — невозможно узнать. И вчера в школе никто не вспомнил об этом — не знали. Учительница сказала: — Вот вы просили, чтобы Александр Петрович рассказал нам, как строить модели. Сегодня он у нас в гостях. Давайте поприветствуем его! Я надеюсь, что он будет нашим постоянным шефом… Даже необычное лицо его, изуродованное осколками мины, не напоминает сейчас, с отдалением времени, о войне. Мало ли что могло быть с человеком? Может, родился таким? Может, под машину попал? Да и сам Александр Петрович не вспоминает о высоком своем бывшем звании. Никогда не мечтал о нем. До войны мечтал о судостроительном институте — корабли строить, а попал в школу младших командиров. Потом — сорок первый. Четыре года войны. Ранение одно, ранение другое и вот третье, самое страшное, выбившее его из седла. Если бы не старое детское увлечение планочками, реечками, не выбрался бы. Первые модели в доме инвалидов еще в постели — шлюпка, шхуна, корвет; потом за столом — подводная лодка, и вновь свобода — город, какой-никакой одинокий, но свой дом. И еще возможность двигаться, ходить и, больше того, ездить, как сейчас, сюда, в лес, где когда-то все начиналось и о чем нельзя забыть.
Много, конечно, и странного в этом пригородном лесу сейчас. Сейчас — зимой, в конце февраля. Корки африканских апельсинов в лыжнях и рядом. Конфетные бумажки — «Театральные», «Холодок», аэрофлотская «Взлетная» — рядом с лыжнями. Они напоминают город. Ох уж эти нынешние лыжники! Правда, и город стал ближе, чем он был в сорок первом… И все же это — лес. Мох на стволах елей и — плесень. Впрочем, плесень и плесень, а так выглядит смола. Зеленоватая, желтая, бурая, серая, а вместе — как плесень. Дубки, даже самые престарелые, шуршат сухой листвой. С осени сохранили. А как подует ветерок, что там шуршат — кипят, как чайники или самовары. Кипят! Слева чащоба. Снега невпроворот, и туда сейчас днем с огнем не пробраться. Провалишься. А позапрошлым летом Александр Петрович ходил туда не раз, пробивался через поваленные деревья, между ветвями, по мхам и подгнившему хрустящему суховью. Но это летом… На снегу, уже по-весеннему пожухлому, еловые ветки, палочки, куски того же мха с еловых стволов, чешуйки и непонятные вертолетики с семенами: два крыла-лепестка и четыре сухих ягодки-семечка. На одних четыре, на других шесть, а крыльев всюду по два. Две такие упавшие на снег штуки и — настоящий вертолет! Жаль, что не знает он, откуда они, с какого дерева: с липы ли лесной, с ясеня ли, еще с какого другого дерева? А может, и с той же самой осины? Все борются с осиной, всеми способами — вырубают и травят ее химией с самолетов, а она ведь — не так уж плоха! — должна бороться за свою жизнь. И вот, может, рассылает по лесу с помощью ветра семена-вертолетики. Может, и так… Слишком много деревьев в здешнем лесу, и все никак не узнать. Рядом у ручья — осины. Неприметные, рыжие, в ржавчине, они покрыты снежными хлопьями. То белые куропатки на них мерещатся, то песцы, то пучки ваты. И на старой березе, спустившейся чудом к ручью и чуть не упавшей в него, такие же белые куропатки, песцы, пучки ваты…
Кто-то догнал Александра Петровича, поздоровался. — Здравствуй, — сказал Александр Петрович. По привычке отвел в сторону свое лицо. Чтобы не смутить мальчишку. Белка откуда-то с дерева свалилась на тропинку, вскочила на ствол ели и виновато смотрела на Александра Петровича немигающими глазками. Он остановился, чтобы не спугнуть ее. И мальчишка остановился. Белка словно поняла, махнула благодарно хвостом и взвилась куда-то вверх. — А вы тут были? На войне? — спросил мальчишка. — А почему ты так думаешь? — поинтересовался Александр Петрович и обрадовался, но тут же подумал: «Сейчас скажет — по лицу». — Не знаю… Так, вижу: идете, вспоминаючи что-то… Они шли рядом, и мальчик нет-нет да и нагибался — собирал шишки в свой школьный портфель. — Из школы? — Из школы. — В пятом классе? — Что вы, в шестом. Я и так год пропустил. — Значит, четырнадцать? — Пятнадцать. Шестнадцатый пошел. — А шишки зачем? — Да просто так… И опять: — Так были? В войну? — Был. — Я так и думал! И у мальчишки заморгали глаза. — А у меня дед тут воевал, в партизанах. Может, знаете командира сто сорок четвертой дивизии генерала Пронина и командира девятой стрелковой дивизии генерала Белобородова? — Лично не знаю, но слышал. Они ведь в этих местах были… — Так вот, дед мой им сведения передавал. И через них — штабу Западного фронта. По этим сведениям наши разгромили немецкий аэродром под селом Ватулино, артиллерийский склад и штаб полка в Можайске. В общем, много чего сделали! А отец у меня летчиком всю войну… Шубейка на мальчишке, как заметил Александр Петрович, недорогая, с дешевым воротником, а шапка хорошая, только потертая от времени и страшно большая: на лоб и уши налезает. Видно, не своя, отцовская. И портфель дерматиновый, куда он только что совал шишки, незастегнутый, распухший, не новый, мятый, потрескавшийся. Птицы лесные вспорхнули с тропки. Александр Петрович узнал только двух снегирей, а мальчишка — сразу: — Смотрите, зеленушки, коноплянки, дрозды, снегири… — А я думал, что все, кроме снегирей, — воробьи, — пошутил Александр Петрович. — Нет, воробьи ближе к жилью тянутся, их в лесу не встретишь, — сказал мальчишка. — А вы знаете мину-сюрприз? — вновь перескочил он с птиц на войну. — Ну, в коробочке «Казбека», в папиросной? — Слышал, — сказал Александр Петрович. — Ходили наши разведчики с такими по тылам немцев. — А вот дед мой, я рассказывал вам о нем, так однажды такую мину подсунул прямо в кабинет начальника гестапо района. Правда, сам начальник не взорвался, а офицеров их много погибло… «Вот почему он тут ходит, — подумал Александр Петрович. — Славно! Традиции отцов и даже дедов, как говорят, и все они в нем есть…» В городе такие ребята выглядят куда старше. И не по одежке. Признаться, Александр Петрович и побаивался их порой, вернее, избегал, поскольку не знал, как с ними держать себя, как говорить. Они чаще не спрашивают, а сами отвечают на все… Этот — не такой и потому особенно был приятен ему. Наивный, с пухлыми губами и моргающими глазами и какой-то чистый… А ему пятнадцать. Шестнадцатый пошел.
Небо — белесое с голубинкой. Оно и в лесу видится. Там, где лес, только над головой голубое. А на спуске к ручью и прямо на берегу его, на полянке, уже куда больше неба, и оно — разное. Прямо над тобой — голубое, иссиня-голубое. А дальше оно бледнеет, бледнеет и постепенно становится уже не голубым, не белесым, а молочным. И еще дальше, с лесной поляны, как видит глаз, небо меняется: там оно светлее молока со стороны солнца и на фоне леса, но стоит повернуть голову, и опять белый цвет начинает голубеть и почти незаметно, осторожно возвращается к прежнему цвету неба, которое ты видел там, наверху. — На небо смотрите? — спрашивает мальчишка и тут же добавляет: — Я тоже люблю. А больше всего — лес. Этот! — И я, — признается Александр Петрович. Ветка сухих дубовых листьев повисла на голой осине, прилипла к ней и сейчас, запорошенная снегом, похожа на сказочные грибы. В сарае у домика лесника вяло кудахчут куры. У них там какие-то свои переживания. Другие куры — не белые на фоне снега, а какие-то желтоватые — вместе с петухом прижались у стен сарая, прямо на снегу. Поднимают, нахохлившись, то одну ногу, то другую. Петух повелительно, но устало посматривает на них и сам чистит перышки, старается спрятать голову под рыжевато-грязное свое крыло. Но вот наши спутники минуют сарай, и петух выходит за ними на тропку. — Ку-к-ка-р-реку! — кричит он им вслед. Александр Петрович оборачивается: — Здравствуй, петух! — Ку-к-ка-р-реку! — опять повторяет петух. Кажется, он совсем разошелся. Они уже отошли от сарая, а за спинами их все слышится это «ку-к-ка-р-реку» и нежданно — возбужденное кудахтанье кур. Видно, они все и там, у сарая, и в сарае — ждут весны. Лишьсигнал подай. Копна снега под навесом, что чуть дальше от хозяйства лесника, тоже напоминает о весне и о лете. Копна тает, как и снег, сена осталось уже совсем чуть-чуть (хватит ли леснику для его коровы до первого весеннего выпаса?), но и эти остатки копны пахнут уже весной и летом, пахнут дурманяще. Чем дальше в лес, тем больше причудливых зимних чудес. И не одни уже белые куропатки, песцы и пучки ваты на голых стволах и на лапах елей, а и удивительные фигуры из снега, которые никогда не построит нарочно ни один мальчишка. Дед Мороз, лежащий на боку, — он подложил под голову с мохнатой шапкой руку и лежит себе спокойно, отдыхает после трудных декабрьских дней и январской вьюги, и, верно, снятся ему хорошие сны. И Снегурочка, выросшая на срубленном пне березы, рядом с сосной, — тонкая, обмытая ветрами. И белые мишки, и тюлени, и пингвины. А рядом сломанный ствол березы, и на нем белые охапки в окружении сухих стеблей крапивы, и все это в снегу, занесенное, похожее на Гулливера в стране лилипутов. Развалился Гулливер на поникшем стволе березы, а вокруг него мельтешат маленькие существа — крапивные человечки, лилипуты. Внизу, под столом, настоящая пещера — полметра глубиной и вышиной. И еще такие же пещеры, норы и норки. У молодых елочек — их много в лесу. У поленниц дров. У кустарников. Возле чудом сохранившихся с осени лесных сорняков — трав всяких и палок, торчащих между деревьями. Снег завалил их — каждое по-разному, ветер продул, и вот вам — тысяча и одна сказка Берендея! И вновь ели и сосны. Под елями — меньше снега. Почти круглые провалы в снегу, ложбинки, усыпанные хвоей, ветками и просто зелеными иголками. И шишки там лежат, какие шишки! Но туда через снег не проберешься… Ничего, есть шишки и на тропке. Александр Петрович поднимает подряд три шишки. Все тяжелые, замороженные, в снегу. — Вы тоже интересуетесь? — спрашивает мальчишка и советует: — Вы их домой принесите… Они оттаивать начнут, и трещать, и пахнуть по-особому. Дома лесом пахнет. И знаете, чешуйки у них будут раскрываться — одна за одной, одна за одной — и оттуда семечки выпадать… — А я думал, ты для самовара собираешь шишки, — вырвалось у Александра Петровича. Спутник его вроде даже обиделся: — Самовара у нас и нет совсем. У нас — газ! И, чуть помолчав, добавил: — Хорошо, просто. Они как ежики становятся. А семена я, между прочим, собираю в коробочку. Потом в лес выбрасываю. Пусть растут. Лес, он же расти должен!..
Лес, он должен расти, и Александр Петрович понимает это сейчас. Как и понимает все то, что видит, приезжая сюда вот уже много-много лет. Чем дальше от него война, тем чаще его тянет сюда. А тогда, в сорок первом, он, кажется, ничего не видел. Кроме того, как немцы бьют этот лес — из орудий, из минометов, давят его, взрывают танками и бомбами. Верно, молодой был, глупый. Не видел ни сосен, ни елей, ни берез в красоте их, а только практически: там, за этой сосной, он скрылся; оттуда, из-за этой ели, в них стреляли; там, под этой березой, погиб… Погиб — погибла. Много тогда погибло, и он помнит живыми многих, но больше всех почему-то ее — Октябрину… Ее, Октябрину Назарову. Как раз вот тут, где сейчас сломанная береза, где этот Гулливер со своими лилипутами, где пещера, куда заглядывают прохожие собаки. Тогда здесь много было сломанных берез и разбитых в щепу елей, и все же это тут… Тут или чуть рядом, но он не может обмануться: тут. И давно, когда впервые после войны он приехал сюда, он нашел это место. И во все следующие приезды проверял: оно! И теперь еще больше знает: здесь… Слишком много примет и слишком много воспоминаний. А воспоминания, если пока не дошло дело до старости, редко обманывают. Впрочем, какая старость: пятьдесят шесть… Домик лесника и тогда был домик лесника. И сарай, где сейчас кудахчут куры, был. И копна сена под навесом. И само сено, наверно, пахло так же, как ныне. Кур не было. И домика в нынешнем виде, и сарая. Александр Петрович помнит развалины и пепелища прежнего сарая и прежнего домика. Они занимали тут оборону. Люди удивительно крепко приживаются к месту и после беды остаются на своем, прижитом куске земли. Новый домик лесника стоит там же, ни на метр влево, ни на метр вправо — там же. И сарай сооружен на месте прежнего. Лучше, не так, как было до войны, а на том же месте и домик стоит, и сарай. Здесь помкомроты Шестаков проводил политбеседу перед боем. «Враг рвется к Москве. Немецкая группа армий «Центр» прет на нас. Точнее, четвертая немецкая танковая группа. Гитлер дал ей особое указание: взять столицу во что бы то ни стало! Все это у них, у офицеров, называется — операция «Тайфун». Не скрываю, товарищи, танков у немцев в два раза больше, орудий — почти в два, самолетов — в два с половиной, по живой силе — в полтора раза. Вот и давайте думать, что делать. Бежать, Москву сдавать или стоять насмерть? Неужели не выдюжим? Мы-то, русские? Думаю, выдюжим, товарищи, и не пустим немца в Москву! Только что мне сказали в штабе батальона, что мы теперь входим в состав новой Пятой армии и командующий ее, генерал Лелюшенко, получил лично от товарища Сталина указание — не пускать немца в Москву. Так станем насмерть, товарищи! На нас смотрит и надеется вся страна наша, Москва и лично товарищ Сталин…» Это было как раз после гибели командира роты. Шестаков заменил его. И ходил по окопам, собирая для разговора всех, кого можно было собрать. И они сидели рядом с Октябриной, и Александр Петрович слушал помкомроты, а сам почему-то смотрел на нее и думал о ней. Он знал, что она из Москвы, и больше ничего не знал… А через час они вышли отсюда, от разбитого домика лесника, и цепочками стали пробираться к оврагу. Одна цепочка — два взвода их роты. Они шли к оврагу, к ручью, и впереди шла она, Октябрина. Он слышал ее дыхание, видел, как она проваливается к снег, соскальзывая с тропки, и был счастлив. Она — впереди, рядом. Перейдя овраг, вновь заняли оборону. Окопались как могли, и он уже не видел ее. Как раз здесь, где сейчас белка удивленно смотрела на него… Шли немецкие танки, но они не смогли миновать глубокий овраг, замерли, а потом ударили по ним. Зенитная батарея наша дала залп по танкам, и немцы свернули куда-то назад, в сторону. Вместо ушедших танков двинулись немецкие автоматчики. И тогда слева закричал кто-то: — За Родину, за Сталина, за Москву нашу — вперед! Они скатились вниз, к ручью, потом бросились наверх, и только там оставшиеся в живых столкнулись с немцами. Странно, но немцы откатывались, когда рядом с ними не оказывалось танков… Была передышка. Хоронили Шестакова, и только тогда Александр Петрович узнал, что это был его голос, его команда. Хоронили многих. И Октябрину Назарову, которую он почти не знал и которой ничего не сказал, похоронили…
— Имя-то какое — Октябрина! Наверно, с гражданской войны? Александр Петрович рассказал ему не все, а так, чуть-чуть, что вспомнилось сейчас. — Наверно… — Я очень люблю песни и книжки о гражданской войне, — признался мальчишка. — Помните эту:
ЛУНА И СОЛНЦЕ
Е. Л. ПермякуВ сорок втором году, в январе, нашу часть на север перебросили. До фронта было далеко, но все же не запасной полк. Сам знаешь, что такое запасной полк в тылу. Война идет, какой никогда не было, а мы, красноармейцы, загораем! А здесь, на севере, — налеты немецкой авиации, тревоги и сознание того, что ты не просто блох и вшей в казарме кормишь, не просто служишь, а делом занимаешься. Нам даже сказали, что от нас, именно от нас, зависят все операции на море, и даже доставка продовольствия из Англии и Америки по ленд-лизу. Тогда-то мы не знали, что это такое и зачем, потом поняли, но сами слова «ленд-лиз» важно звучали для нас, мальчишек. Все думали, что, может, с этого непонятного и начнется американская и английская помощь — настоящая помощь в войне. Потому что формально, ты помнишь, они с самого двадцать второго июня нас поддерживали. Но не об этом речь. Я — короче. В небольшом селении, типично северном, мы расквартировались. Две недели землянки долбили, ну и всякое прочее: службу несли, по тревоге, когда немцы налетали, помогали зенитчикам — и снаряды подвозить, и хоронить погибших, — в общем, батальон особого назначения. Правда, особый — это было потом, а пока обслуживающая команда. Делай все, куда пошлют, помогай всем, кому нужно, плюс патрульная служба в селе. Холода стояли адские. Тридцать пять, тридцать восемь, а то и за сорок, но это еще ничего, когда без ветра. Ветер с моря подует, а моря мы и не видели — пятьдесят километров оно от нас, — так и по малому морозу взвоешь. На что уж местные жители привычные, а в такие дни никого в селе не увидишь. И тут вдруг он — мальчишка. Я как раз из караулки в землянку свою возвращался. Было так холодно и так тихо, что, казалось, все вокруг замерло и замерзло. Избы, деревья, и ближние сопки, и само село, и небо — розовато-мутное с одного края, где опустилось солнце, и бледно-мутное с другого, где взошла луна. Жуть. Впрочем, если бы у меня обмотка на левой ноге не развязалась, я бы и не заметил этого мальчишку. А тут остановился, варежки снял, обмотку застывающими пальцами перематываю, смотрю, а он на крыльце стоит. Закутанный, лет восьми-девяти парнишка. — Ты что? — спрашиваю, когда обмотку перемотал. — Ничего, — говорит. — Смотрю. — На меня? — спрашиваю. — Холод же собачий, замерзнешь, иди в дом. — Не замерзну, — отвечает. Петушиным таким голосом, но бодро. — Я на тебя только сейчас посмотрел, а так я на луну смотрел. Ты же только сейчас подошел, а я когда смотрю… И все с таким говорком северным, тогда меня удивило это, и я подошел к парню: — А что там, на луне, особенного? Я где-то слышал, что собаки и волки не могут отвести взгляда от луны, и смотрят на нее подолгу, и воют, а еще есть лунатики, которые при лунном свете встают с постелей и тянутся к луне, на чердаки и даже крыши, и ходят там, как завороженные, порой всю ночь бродят, а потом возвращаются в постель и спят спокойно и утром ничего не помнят. О лунатиках я от матери знал, потому что она всегда дома задергивала занавески, когда луна светила в окно. Но тут — мальчишка на крыльце. И сейчас не ночь, только восемь вечера. И не похож он на лунатика — серьезный такой, хотя и ребенок, и говорит со мной по-солдатски, на «ты». Парень дрожал, хотя укутан был тепло, не то что мы, солдаты, и я снова переспросил, уже шутя: — Так что на луне? — А ты посмотри! — сказал мальчишка. — Посмотри внимательно, какая она! Сверху и слева, посмотри! Я посмотрел, больше для него, конечно. Мутная луна. Скорей, может, месяц, полумесяц, с обрубком сверху и слева. И чуть сдвинутая набок, как неровно лежащая половинка арбуза. — Ну что, неполная? — спросил я. — А почему неполная? — совсем оживился мальчишка. — Почему? — Ну, так бывает, — неопределенно сказал я. — Так и зимой и летом бывает. То луна, то месяц… — Ничего ты не понимаешь?! — в сердцах произнес мальчишка. — Ничего, ничегошеньки! А еще красноармеец! Тоже мне!.. Обмотки и то носить не умеешь! Признаюсь, он совсем меня смутил. И зло меня на него взяло, и холод сердил, и то, что он знает что-то такое, чего не знаю я… — Так говори, если знаешь! — бросил я ему. — А то стоишь здесь, делать нечего, и морочишь мне голову. И он мне сказал: — Коль не знаешь, скажу. Просто холодно ей, луне, понимаешь? Вот солнце ее и согревает, заботится. То маленький кусочек возьмет у нее — согреет, то побольше, когда мороз как сейчас, с ветром. А оно, солнце, теплое, горячее, в далеких жарких краях скрывается, а о луне не забывает. Знает, что ей холодно, все по ночам да по ночам… Поверь, услышал я это, и совсем меня парень поразил. Что там мороз, стужа с ветром, я и о себе и о нем забыл: интересный парень! И мне, мальчишке в то время, захотелось поразить его чем-то. — Скажи, — спросил я, — на небе и солнце и луна сразу… По вечерам так бывает, в сумерки и утром на рассвете. Почему? — Луна и солнце сразу… Почему сразу — не знаю… Не знает! Я… Мне даже теплее стало. Хорошо хоть этого не знает! А то мальчишка, плюгавенький, — и вдруг со мной так. И обмотки вспомнил, и… — Так слушай, — сказал я с чувством явного превосходства, — когда солнце садится, а луна или месяц только появляется, это как смена караула у Мавзолея или на другом важном посту. Солнце вечером сдает пост луне, а утром луна — солнцу… Я вспомнил все, что в детстве рассказывал отец. Мне хотелось и поразить его этим детским воспоминанием, и еще, конечно, похвалиться, что не такой уж я ничего не знающий красноармеец, как кажется ему. — Хорошо! — сказал он опять с акцентом на «о». — А откуда ты знаешь? Вопрос был неожиданным, но я об отце не сказал, схитрил. — Знаю, и все, — сказал, — это точно! — Хорошо! — повторил он. — Как у Мавзолея, смена караула. Спасибо тебе! — он помолчал, посмотрел на луну и вновь на меня: — А я не сам узнал, что луну солнце согревает. Отец рассказывал. И я запомнил и, когда смотрю на нее, все помню. И отца. — А где он у тебя? — На войне погиб, немцы убили, недавно похоронная пришла, — сказал мальчишка. — А у тебя есть отец, он старый? Я не выдержал, прижал парня, обнял, растряс, чтобы согреть как-то. И может, стыдно красноармейцу плакать, и вся война у меня была еще впереди, когда я пи разу не плакал, — а тут не пересилил себя. — Прости! Я ж тоже… Про солнце и луну не сам. Отец в детстве рассказывал. Не старый он был. Тоже на войне под Москвой немцы убили. Только в сорок первом…
ДЕРЕВЬЯ СОХРАНЯЮТ ТЕПЛО
Л. М. ЛеоновуЗима в этом году пришла устойчивая, хорошая, не хлипкая, каким и лето было, а люди, досужие до примет, как Евгений Сергеевич, всегда считают это добрым предзнаменованием. Ибо если в природе или в иных сферах все устойчиво, то и в жизни твоей так. Мелкие беды не в счет. Наступила зима неожиданно — сразу, вернее, после всех ожиданий сразу — после сухой и еще зелено-желтой осени, пришла с сухим, ядреным морозцем, который к двадцатым числам декабря дошел здесь, в Подмосковье, до тридцати. Евгений Сергеевич — человек неуравновешенный и железно стойкий, когда речь идет о работе, беспокойный, как и многие в наш век, — обладал всю жизнь тем равнодушно-спокойным отношением к природе, которое свойственно людям аналитического ума, людям дела, науки, а отнюдь не людям эмоций. И только внимание к приметам, где-то почти подсознательное, в сочетании с тем, что он оказался на природе и никаких дел у него горящих не было, потому что ответственно важная работа закончена и одобрена еще в конце сентября, а за-одно и сдана книга, его книга — плод всей его жизни, по крайней мере двадцати лет из сорока пяти, имеющихся на счету, привело его к наблюдениям над погодой, и вот он заметил, что в этом году зима пришла так. А еще он и правда попал в настоящий лес, какого уже давно не видел, и он его поразил. Лес был изумрудный, коралловый, хрустальный — черт знает что можно сказать о лесе в эти морозные дни! Евгений Сергеевич бродил по лесу — по шоссе, по тропкам и дорожкам, по снежной целине, специально надевая валенки, и никак не мог понять, когда и где видел он такую красоту и что в ней бередит его душу, что-то особое, с давних лет знакомое и неизвестное. Он привык к формулам. Он привык к тому, что общее складывается из мучительно непонятных частностей — уравнений одного порядка, другого, десятого, сотого. И от сложения их, что подвластно уже не только уму, а и кибернетике вместе с умом человека. А сейчас лес, покрытый снегом и инеем, не существовал для него иначе, как единый, целый лес. И он был поразителен. Евгений Сергеевич никак не мог разделить этот изумрудный, коралловый, хрустальный лес на части — на сосны и осины, ветлы и ели, лиственницы и дубы, клены и вербы, березы и ясени. Все деревья стояли по сильному морозу в инее и трещали стволами и ветвями, и все это был один лес, неделимый, могучий, до невероятности сказочный — наш, до боли русский лес. Ему казалось, что он где-то что-то упустил в своей жизни. Всю ночь Евгений Сергеевич не спал. Уже утром, после каких-то бессонных провалов и выкуренных сигарет, он, кажется, смог найти объяснение кошмарной ночи. Такое случается и в науке. Такое, увы, случается теперь и в природе. День, прошедший с тридцатью градусами мороза, перешел в утро с нулевой температурой. С крыш капало. Врачи скажут: разница в давлении, резкая смена температур. Тридцать минус. Действительно, тридцать минус, если считать от тридцати мороза до нуля. Но ночь, его кошмарная ночь была не во вред ему. Ему самому сейчас ясно, что не во вред. Он вышел утром, усталый, невыспавшийся, неустроенный, одинокий и хитрый, дабы не попасть на глаза врачу или хотя бы медсестре, и вместо завтрака устремился в лес. Просто так — сначала по дороге, потом по более узкой, санной, и вовсе — по тропке. А деревья стояли в том же инее. Теперь уже не лес, а деревья. Каждая сосна в отдельности. Каждая осина. И каждая ветла. И каждая ель. Лиственница, не похожая на ель, и дуб, клен и верба, береза и ясень. Ничто не складывалось в единое, потому что в этом оттепельном инее каждое дерево было само по себе. Евгений Сергеевич шел и думал, шел по лесу и мучительно думал. Пожалуй, так сложно не было ему никогда. Когда сдавал работу, связанную с новым в космосе, — не думал так. Когда сдавал свою заветную книгу — так не думал. И вот он понял. Лес — это собрание деревьев. Все частности разных порядков собираются в одну. Частности — деревья. Частности — сосны, осины, ветлы, ели, лиственницы, дубы, клены, вербы, березы, ясени, даже рябины, которых он прежде не видел, и бузина. Они собираются в одно — лес. И, покрытые инеем, каждое в отдельности, они складывают себя в общую красоту и необычность. Но ведь есть что-то еще в этом инее? Есть, но что? И где? В Москве? Да, в Москве по морозам и оттепели покрываются инеем стены домов, и станции метро, и на Красной площади башни Кремля… По оттепели. По морозам. И лес стоял в инее в морозы и в оттепель. Как вчера, позавчера и сегодня. Лес, сложенный из деревьев, лес, сложенный из сосен, осин, ветел, елей, лиственниц, дубов, кленов, верб, берез, ясеней, рябин, бузины. Верно, каждое дерево сохраняет тепло и покрывается инеем при морозе. Каждое — оно хранит это тепло с весны и лета, с детства и юности, хранит вечно, как память, и потому в суровую пору холодов оно живо и становится еще более красивым. И камни домов, и башни стен Кремля по-своему сохраняют тепло давних месяцев и лет, пусть не так, как живые деревья, но как живая история. А когда приходит тепло воздуха, они, уже охлажденные, опять реагируют на него… И Евгений Сергеевич вспомнил. Вспомнил сначала частность: в прошлом году среди кучи поздравительных телеграмм, которые он получил в связи с присвоением звания Героя Социалистического Труда, среди телеграмм правительственных, служебных, дружеских была та непонятная, которую они попытались разгадать с женой, но так и не разгадали: «Рада, что вы живы. Значит, надо было вас спасать. Ваша Кожевникова». Сейчас вспомнил главное. Октябрь. Сорок первый год. Немцы рядом. Говорили, танковый клин Гудериана. Химки тоже были рядом. Да что там рядом? Напротив, за водохранилищем, — Химкинский речной вокзал. И бой. И потом тишина. Он ждал, что сейчас подойдут немцы, и тогда — конец, потому что ничего нельзя было понять. Рядом горели танки — наши и немецкие, и лежали люди — наши и немцы. Кто-то стонал и утихал, только он не в силах был что-то сказать. Потом он провалился куда-то, а очнулся, когда услышал голоса, наши: — Это ж для похоронной команды… — А если живые есть?.. — Какие тут живые? Через столько часов… — А если… Он опять провалился в пропасть, а когда его растрясли, увидел женщину, а может быть, девчонку — в туго завязанной ушанке и с удивительными бровями и ресницами в инее, белыми, как у Деда Мороза, как у Снегурочки, которая что-то делала с ним, а говорила с другими: — Ну что? Вот вам фрицы! А свои… Давайте быстрехонько, что стоите! Потом он вновь забылся и ничего не помнил, и когда открыл глаза, увидел ее же, с бровями и ресницами в инее, и понял, что она спасает его. — А как вас? — спросил он. — Что как? — Величать? — почти шутливо спросил он. — Капой величать, — ответила она резко. — А по фамилии Кожевниковой. А вас? — Он был безымянным героем, — сострил он. — Мне не до этого, — бросила она. — Документы надо оформить для госпиталя, понимаете? — и выругалась, почти по-мужски. Он назвал себя со всеми данными. От испуга и счастья назвал. И еще потому, что узнал: Гудериана отбили, клин ликвидировали. Уже на подводе, обычной деревенской подводе, на которой их лежало впритык трое, отправляемых в госпиталь, он слышал ее разговор с возницей: — Говоришь им, а они хоть бы что! Именно среди убитых и надо искать. Вот нашли же! А они — похоронная команда! Евгений Сергеевич, вспомнив об этом, был обескуражен. Прошлое, забытое и вновь открытое сейчас, оказалось сильнее настоящего. И только лес стоял вокруг, заиндевелый лес, состоящий из деревьев, которое каждое по себе сохраняет тепло. А он… Она, спасшая его, разыскала, через двадцать пять лет разыскала его и поздравила с наградой. «А нужно было мне ее разыскать, давно разыскать, — подумал он. — Надо сейчас». Вечером Евгений Сергеевич неожиданно собрал вещи. Он шел лесом, мимо деревьев, сохраняющих тепло и покрытых инеем, как брови и ресницы, те брови и ресницы военфельдшера Капы Кожевниковой тех военных лет, — шел на большую дорогу, к автобусной остановке. Пусть отпуск не кончился, осталось двенадцать дней, но он проведет эти дни дома, в Москве. Так надо. И он найдет ее.
ДУБ СТОЕРОСОВЫЙ
Это мне с детства запомнилось. С тридцатых годов. Как песни из кинофильмов. Песен тогда было много, хотя фильмов — мало, но каждый из них рождал песню, которую потом пели все мы — вся страна. Частушки о дубке никакого отношения к фильмам не имели. А запомнились, как другие. Запомнились по деревне, которая и сейчас осталась деревней, хотя ехать к ней с моей Новопесчаной ближе, чем в Зюзино или в Химки. В деревне Перекрестино я слышал эти частушки. Слышал в тридцать восьмом, когда мы думали об Испании и даже о мировой революции, но не знали, не ведали, что наступит сорок первый год…
— Дуб стоеросовый! — сказал он мне. — Дуб! Чего ты понимаешь! Я не знал, что ответить на такое. Все понимал: он и товарищи его выпили. А пьяные… И все же. Почему так? Что я сказал не так? Просто чтобы не галдели, не матерились под окнами. Я обиделся. Потом ночью почему-то долго не мог уснуть. Опять вспомнил: почему обижают дуб? Ну ладно, про осину говорят как о тунеядке. Действительно, самая светлая страница осиновой истории — колы в сорок первом — сорок втором. А дуб? Дерево из деревьев! Воспетое всеми, и просто так — чудесное дерево! Для меня особо. В сорок четвертом я сам посадил такое… В Румынии, под Яссами, на могиле друга. Потом, в сорок шестом, под Москвой, — у нас в деревне. Говорят, дубы растут долго. Эти, оба, выросли быстро и скоро. Я видел, как они росли… Так почему же… Под утро я не выдержал и забрался в словарь Даля: «В лесу дуб рубль; в столице, по рублю спица»; «Когда лист с дуба и березы опал чисто, будет легкий год для людей и скота»; «Когда дуб развернулся в заячье ухо, сей овес, тул»; «Держись за дубок: дубок в землю глубок». Про стоеросовый дуб — ни слова. А ведь ходит же такое слово по земле. С детства слышу… Я знал его уже давно — лет десять. С той поры, как мы переехали в этот дом. Трезвый он здоровался. Выпивший — виновато проходил мимо меня, чуть кланяясь. Пьяный… Впрочем, тут и начало рассказа. Дядя Миша, слесарь-водопроводчик, мой сосед по дому, в деды мне годился. Мастер он отличный. Если его официально, по жэковской линии вызывать — все сделает, ни копейки не примет, больше того, возмутится: «Зачем обижаете?» Другое дело, если не официально. Тут и рубль возьмет, и о литературе поговорит, и о политике, и спасибо скажет, и сам в благодарность предложит что-нибудь дополнительно — доброе. Например: «Давайте ведро вынесу!» А если откажешься, хватает сам помойное ведро, добавляет: «Я мигом!» И так не только с ведром. Двери скрипят — подгонит. У окна шпингалеты разболтались — заменит. Стекло треснувшее в форточке заметит — вставит новое. Мы не раз дома вспоминали дядю Мишу, но, увы, реже по-доброму, хотя и знали его отменные заслуги. По вечерам дядя Миша был сильно не в себе. Вот и начинались у нас разговоры о нем. — Странный он человек, но в конце концов… — Ведь какой вежливый, а тут… — Хотя бы о людях подумал; дети, женщины… Так приблизительно говорили жена, дочка, бабушка. А дядя Миша под окнами нашими, распив там, как положено, не единожды на троих, матерился в семь этажей. Матерился в адреса многие — внутренние и внешние. Тут и жэковские начальники были, зажимавшие прогрессивки, и американцы в Сальвадоре, и израильские сионисты… Диапазон вечерне-ночных бесед дяди Миши был удивительно широк. И я, соглашаясь с домашними, возмущался вместе с ними и все же почему-то старался оправдать дядю Мишу, хотя он и сказал мне это обидное: «Дуб стоеросовый». Может быть, потому, что после брани своей всех и вся дядя Миша переходил на фронтовые воспоминания и говорил о местах мне знакомых и близких — о Яссах, Кишиневе, Плоешти, Констанце, Бухаресте… Он стоит на поляне рядом с нашей пятистенкой — совсем еще молодой и уже взрослый, зрелый не по возрасту, ибо ему только тридцать. Он моложе меня, и я ему чуть завидую, хотя и знаю, что дубы живут на свете дольше людей. У него чудесные матовые листья — ажурные, как северные наши, редко встречающиеся сейчас кружева. Они то крошечные, то большие, или вовсе огромные, в пол-ладони, и это правильно, поскольку он — вполне солидный дуб.
И вот я привез эту землю. Не горсть, а целлофановый пакет с землей и лентами цветов флагов — румынского и нашего. Ленты и весомость пакета спасли меня при переезде границы в Унгенах: я не знал, что по каким-то суровым международным законам нельзя перевозить через границу фрукты, овощи, цветы и даже землю с могилы Друга. Землю я бросил к нашему подмосковному дубку, а ленты румынского и советского флагов повесил на стене в нашей московской квартире. Тут и вышло так, что вскоре после моего возвращения домой нам пришлось вызвать дядю Мишу: засорилась раковина. Дядя Миша, почти трезвый, видно не помнящий даже о дубе стоеросовом, был предельно вежлив и, я бы даже сказал, ласков. — Опять из-за границы? Понимаю, понимаю… — Ну, как там в Румынии? Как? Где побывали? — Понимаю, понимаю, а в Яссах-то где? Я что-то отвечал дяде Мише, он поддакивал, и наконец я рассказал ему, почти ради шутки, с каким трудом провез через границу целлофановый пакет с землей… Дядя Миша вдруг изменился в лице. — И куда же ее, землю? — перебил меня он. — Да дубок у меня есть, в сорок шестом посадил в деревне, или, как говорят, на даче. Тут, под Москвой, в Перекрестине. Слышали? Двадцать три километра… — Двадцать три километра, говоришь?.. А тысячу двадцать три не помнишь? Я не узнал его. И не потому, что он перешел на «ты». — Яссы не помнишь? Что после нас Ясско-Кишенев-ской операцией назвали? Седьмым Сталинским ударом? Не помнишь? И батальон наш гвардейский забыл? — Помню, как же не… — пробормотал я. Теперь я все вспомнил. И дядю Мишу — тогдашнего… — Слушай, прошу тебя! Умоляю, если хочешь… — попросил дядя Миша. — И не сердись, ради Христа, за дуб этот стоеросовый, за все. Ты — я все понимаю, а я… Отвези меня к себе, к дубку этому, где земля с его могилы. Да, тут я все вспомнил. Покраснев, вспомнил. Сорок четвертый. Три километра от Ясс. Там сейчас дубок. Там тогда хоронили Колю Невзорова, Николая Михайловича Невзорова — сына дяди Миши, солдата, моего друга. И дядя Миша, сам солдат нашего хозвзвода, который был в сорок четвертом тоже молод, хоронил вместе со мной своего сына. Я же знал его, знал. А встретив через тринадцать лет в этом дворе, не узнал и не вспомнил. А он…
СТРАННЫЙ ЧЕЛОВЕК
Я приехал в этот поселок к вечеру и сразу же вышел к морю. Золото песчаного пляжа потускнело и будто состарилось, от него исходило ощущение смутного одиночества и тревожно-необъяснимая грусть. От моря веяло уже легкой прохладой, и огромное солнце, опускаясь за горизонт, бросало в воду ненадежную красноватую дорогу. Человека с протезом вместо правой ноги я заметил сразу же. Он был в шортах, и его протез ярко и упруго поблескивал своими металлическими частями в лучах уходящего солнца. Человек медленно брел по остывшему песку и словно искал что-то, цепко всматриваясь во все вокруг. Иногда он подходил к берегу, останавливался перед равнодушно бьющей волной, и лицо его принимало счастливо-печальное выражение, какое бывает у людей, вдруг обратившихся своей памятью во что-то им бесконечно дорогое и невозвратимое. При этом он всякий раз снимал пенсне, которое очень напоминало знаменитое чеховское, и без него загорелое лицо незнакомца очерчивалось резче — отчетливее и рельефнее проступали глубокие морщины, выпуклее обозначались широкие крепкие скулы, а глаза, освобожденные от легкой завесы, становились — это было видно даже на расстоянии — пронзительнее и беспокойнее. Человеку было явно за шестьдесят, но назвать его стариком было нельзя, хотя голову его и венчала хорошо поношенная шапка белых волос. И на следующий день, и позже я встречал этого человека здесь только по вечерам, когда люди покидали пляж, и все повторялось — невидимая, непонятная, нелепая траектория его движений оставалась неизменной… И, признаюсь, он упрямо стал занимать меня, не знаю чем. Но я думал о нем почти постоянно. Заговорить с ним я не решался — было как-то неловко, — да честно, я даже чуть побаивался его, а никто из моих знакомых ничего толком рассказать о нем не мог. — Странный человек, — мимоходом обронил один. — По-моему, немного не в себе, — сказал второй, и последовал выразительный жест пальцем около виска. — А я слышал, что он сюда и зимой каждый день ходит, — ответил третий. Все они, как и я, были люди приезжие, — и поэтому знали не больше меня. Я пошел по местным жителям. Выяснил только одно: зовут его Степаном Степановичем Вольновым, а остальное все то же: «странный», «чудаковатый», «чокнутый» и прочее. Наконец мне повезло. Я нашел двух стариков. И тому и другому было уже за восемьдесят, но память сохранили хорошую. Степан Степанович здешний. Жил тут недалеко с семьей — женой и двумя сынишками-близнецами. В самом начале войны попал на фронт. Воевал на Украине и под Москвой — потом в Ленинграде. Там его тяжело ранило. Вольнова эвакуировали в Тбилиси, где ампутировали ногу. После госпиталя, откуда его выписали по чистой, он вместо ноги соорудил себе деревянную ходулю и решил во что бы то ни стало добраться до дома. А здесь еще немцы были. Но пошел. Сначала попал в Краснодар, а потом сюда. Как уж шел с такой ногой, как переходил линию фронта, никто не знает, но домой все-таки вернулся. Да дом-то оказался пустым — жену с мальчиками немцы куда-то угнали вместе с другими жителями. То ли там, то ли в пути они, видно, и загинули, поскольку ни слуху ни духу о них не было. Остался Степан Степанович один. Стоял декабрь сорок второго. Как-то под вечер вышел Вольнов на берег. Море штормило. Вдруг видит прибитый к берегу полуразбитый баркас. Он к баркасу, а в нем три краснофлотца. Только не живые, а мертвые. Всю ночь копал Степан Степанович могилу на берегу, захоронил краснофлотцев, но даже холмика не насыпал, досками от баркаса прикрыл: ведь в поселке-то немцы. А уж когда немцев прогнали, он могилу в порядок привел, а еще немного погодя останки краснофлотцев в общую братскую перенесли, что в трех километрах отсюда. Там и имена их выбиты: Вольнов сохранил. После войны Степан Степанович, как все, естественно, работал, был счетоводом в райпотребсоюзе — благо эта должность не требует разговоров, но каждый день после службы обязательно приходил на пляж. А потом не очень давно на пенсию вышел и это занятие стало его единственным смыслом жизни. Вот так все ходит и ходит, все смотрит и смотрит, о чем уж думает — кто знает, — говорить с ним сейчас об этом совсем бесполезно стало. Что он надеется найти?.. И вот я вновь у моря, на золотом песчаном пляже. Снова вечерело, солнце садилось за горизонт, но сегодня было не так прохладно, как в день моего приезда. Степан Степанович уже шел по пустынному пляжу. Только теперь я отчетливо слышал, как поскрипывает его протез. Когда он поравнялся со мной, я встал: — Добрый вечер, Степан Степанович! Он, кажется, смутился, чуть забеспокоился, поправил чеховское пенсне на носу и ответил негромко: — Добрый вечер, милейший. А откуда вы меня знаете? — Да знаю, Степан Степанович, — сказал я и крепко пожал его сильную, вовсе не старческую руку.БОЕВАЯ ПОДРУГА
Генерал был очень стар. Восемьдесят семь — не шутка! Правда, на здоровье он особенно не жаловался, но все же лет десять назад бросил курить, а выпивать, да и то чуть-чуть, позволял себе лишь в большие праздники. Ведь береженого бог бережет. Уже семнадцатый год он жил без дела — без министерской должности и зарплаты, без машины и без адъютанта. Был на пенсии. Его беспокоили только пионеры — красные следопыты. Их, пионеров, становилось все больше, а старых генералов соответственно все меньше. Накануне очередного Дня Победы генерал сказал жене: — Давай, Катя, завтра в Парк культуры махнем! — А что вдруг? — спросила Катя. — Да праздник ведь завтра наш. Сходим, посмотрим, как собираются ветераны. А мы с тобой так ни разу и не были. Поглядим, как народ чтит своих героев. — Мундир приготовить, Петенька? — А зачем мундир? Вытерся он, поизносился, а новый, как ты знаешь, мы не пошили. Пойду в штатском, ордена надевать не буду. Сама говоришь, надо быть поскромнее. — А как мы туда доберемся? В метро, наверное, затолкают. — Такси закажем ради праздника. На том и порешили. Но утром жена вспомнила: — А как же, Петенька, твои любимые пирожки с капустой? Надо бы по такому случаю испечь… Да вот забыла. — Смотри! — сказал генерал. — Пирожки — это хорошо. Я тогда, пожалуй, один съезжу. Он натянул свою рубашку, надел уже кое-где залоснившийся костюм. — Может быть, все-таки хоть колодочки наденешь? — Не буду, — сказал он. — Чего кичиться? И так сойдет. Все со мной. Заказал такси. Битый час стоял у окна. Потом позвонили, что машина вышла, и назвали номер. Он поцеловал Катю, похвалил службу быта и спустился вниз. Сказал шоферу: — В Парк культуры. — Какой? — Горького. — А то можно Измайлово или Сокольники. — Нет, Горького. У входа в парк было настоящее столпотворение. Толпы народа и в самом парке. И что совершенно поразило генерала, среди в общем-то немногих ветеранов — с наградами, колодочками в выцветших гимнастерках, матросских бушлатах, старого покроя кителях — куда больше было молодых людей, явно не прошедших войны или вовсе не видавших ее. Они медленно шли по аллеям парка, и пристально, напряженно вглядывались в лица ветеранов, словно хотели увидеть кого-то из своих близких, дорогих сердцу людей. Многие держали в руках маленькие самодельные щиты с надписями: «Ищу отца…», «Я — внук солдата, погибшего…», «Однополчане, отзовитесь!..». А сами ветераны собирались под более солидными транспарантами — по фронтам, армиям, корпусам, дивизиям, полкам. «А вдруг и мой есть?» — подумал генерал о своем гвардейском корпусе. Но тут же решил, что вряд ли. Лет пятнадцать назад создали совет ветеранов корпуса, начали переписываться, провели две встречи — ветеранов явилось немного, а потом все совсем заглохло. Многие члены совета поумирали, других захватили иные дела, а сейчас, может, из всех он, командир, один и остался? Не торопясь бродил старый генерал средишумных и веселых, задумчивых и печальных людей, среди слез и объятий и с удовлетворением отмечал, как хорошо у нас берегут память о людях войны. — Петя, ты ли это? — услышал он чей-то голос и обернулся. — Люся? Он не столько узнал ее, сколько догадался, что это она. И не верил глазам своим. Перед ним стояла Люся, конечно, не та фронтовая, ладная, боевая, а пожилая, со старчески поникшим телом, в скромном немодном костюмчике с тремя рядами колодочек на груди. Отметил про себя: девять, а когда расставались, был один орден и две медали. — Какими судьбами? — Да вот хожу. — И я тоже. Люся, Люся, Люся… Он знал ее с сорок первого. С Минского котла. Она работала у него в штабе в секретной части. Сначала она была вольнонаемной — приехала добровольцем из Москвы, а потом ей присвоили звание — стала младшим лейтенантом. Тогда она была моложе его на тридцать лет, но на войне это не разница — ему сорок восемь, ей восемнадцать, и он полюбил ее искренне, горячо, как будто в первый раз, и она ответила тем же. Никто не осуждал их — чего на войне не бывает! — когда он возил ее в своей «эмке», когда она приходила к нему на ночь, когда он ставил к ее землянке часового, чтобы мужики не вздумали пристать. Он лишь три раза наградил ее за всю войну и то за дело, чтоб никто не мог сказать, — в Можайске, когда она спасла секретные документы, — «Красной Звездой» и в Кенигсберге — медалью «За отвагу». Ну, конечно, еще и медалью «За победу над Германией». В короткие и горячие ночные свидания он говорил ей: — Люсенька, Люсенька, мой единственный! Я люблю тебя! Вот кончится война, сразу же разведусь и мы поженимся. Ох, и свадьбу закатим! Ведь не старый я для тебя, не старый? Ну, скажи! И она соглашалась: — Что ты? Что? Какой же ты старый! Ты самый молодой на свете. Ты такой смелый! Ты умный! Я очень люблю тебя! Очень! Очень! — и исступленно целовала его. Но жизнь распорядилась по-иному. Кончилась война, и они как-то неожиданно и суетно вдруг расстались. Люся торопливо демобилизовалась, словно очень спешила, хотя он и пытался отговаривать ее. Его с корпусом перебросили на Дальний Восток на войну с Японией. Клялись списаться, встретиться, но этого не случилось. И вот сейчас Люся, его единственная, его неповторимая, перед ним. — Как живешь-то? — генерал не знал, с чего начать разговор. — Да ничего живу, можно сказать, хорошо живу. И оба замолчали. Наконец генерал робко поинтересовался: — Замуж вышла? — Нет, Петя, не вышла, — ответила она. — Может, и могла, да не вышла. — Что же так? — Однолюбка я, Петя, неужели забыл? Генерал смутился. — Вижу, наград у тебя больше стало, — сказал он, чтобы только не молчать. — Это все юбилейные, послевоенные, — объяснила она. — А за войну, если помнишь, у меня орден и две медали. И вновь наступила неловкая пауза. — А с кем живешь-то? Если не секрет, конечно, — генерал взял ее легко за локоть, и они медленно пошли. — С сыном и двумя внуками. — Как это с сыном, внуками, когда не замужем? — генерал почувствовал, что его упрек смешон и глуп, и тут же поправился: — Это, не сердись, я так просто спросил. — А что ж сердиться-то? Спросил и спросил, — а сама подумала: «Хорошо, что он ничего не знает. Значит, тогда в сорок пятом и не сообразил, почему я так из армии торопилась. А сын-то как на него похож! Особенно когда наденет свою офицерскую форму. Все-таки правильно, что он послушался моего совета и пошел в военные». — Ну, что ж, Петя, — она подняла на него свои еще по-молодому красивые серые глаза. — Я, пожалуй, пойду. — Да, да, — заикаясь, выдавил он. — У тебя, надеюсь, все хорошо? — Конечно, конечно. — Странно только видеть тебя в штатском и совсем без наград. — Это я специально, специально, — поспешно объяснил он. — Чтоб других не смущать. Старых генералов-то все меньше и меньше становится. Уходим мы, старики. Люся повторила: — Прощай! И как-то суетливо заспешила к выходу. А генералу не везло. Он больше часа ловил такси, но безуспешно, пошел через мост к метро, долго трясся в набитых вагонах с пересадкой, и никто ему даже не уступил места. И мучала его всю дорогу, как старая фронтовая болячка, мысль: «Чей же сын у Люси? Ведь ежели… нет, сказала бы она! А то ни слова…» Но дома он поел пирожков с капустой, полежал немного на своем любимом диване, потом рассказал своей Кате, которая ждала его всю войну, обо всем увиденном, даже о неожиданной встрече с однополчанкой, и окончательно пришел к мысли, что все у него идет хорошо. А тем временем Люся тоже думала о хорошем. Хорошо, что все-таки повидала свою любовь. И хорошо, что Петя так ничего и не знает. Ведь стар он. Того гляди помрет. В газетах сейчас не о всех умерших генералах пишут, только в «Красной звезде», говорят, всех поминают, да она ту газету не читает. А так живым-здоровым увидела. Хорошо. И каждый из них по-своему был счастлив.АЛЕНУШКА
Родители назвали ее Аэлитой. Точнее, Аэлитой Владимировной… Но сейчас речь не об этом. Предсказатели погоды не в первый раз ошиблись. В Москве и Подмосковье двое суток шел снег, которого не предвиделось, и лишь на исходе второго дня синоптики определили уровень снежного покрова и авторитетно заявили, что последний такой снегопад был у нас, конечно же, сто лет назад. В поселке Волынцево снег завалил все. Перестал ходить автобус со станции. Машины почти не добирались сюда, и на заваленном снегом магазинчике, где в заведующих был оборотистый мужичок, умудрявшийся только ему одному известными способами получать дефицитные продукты, это сказалось немедленно. И вообще жизнь, казалось, замерла. Аэлита Владимировна вместе с соседками разгребала снег, сначала у дома, потом у ворот и на улице, и ей помогали внуки — двойняшки, десятилетние Саша и Дима. Таня уехала рано утром в город, в Москву, в свою больницу, зять был на работе, и Аэлита Владимировна беспокоилась, как они доберутся домой от станции — три километра, а главное, ходят ли еще электрички, вдруг и там все занесло. Таня всегда возвращалась домой вместе с мужем. Снега — мягкого, тяжелого — было много, но к вечеру чуть потеплело, началась изморозь, обледенели лопаты и провода, под ногами скользило, а Аэлита Владимировна стала еще больше волноваться за дочь и зятя. Слава богу, детство и юность — счастливое время, и Саша с Димой азартно продолжали свое дело, ничуть не беспокоясь о родителях. Именно в этот момент на дороге засветили фары и какая-то машина остановилась у их ворот. — Улица Панфилова, четыре? — выкрикнули из открытой дверцы. — Да, — удивленно и тревожно ответила Аэлита Владимировна. Машина «уазик» была военная, в военной форме были и шофер, и пассажир, что спросил адрес. А пассажир, молодой капитан, уже выскочил из машины: — Мне нужна Синцова, Алевтина Владимировна… — Аэлита, — машинально поправила Аэлита Владимировна. — Простите, но у меня записано так, — пояснил военный. — Это я. — Я к вам по важному делу. Можно? — спросил капитан. Они прошли в дом. Поначалу Аэлита Владимировна беспокойно и как-то совсем по-старушечьи засуетилась — гость, видимо, непростой, да и зачем он пожаловал? — потом, когда он снял шинель, успокоилась. Капитан был очень молод, но уже две юбилейные колодочки были на его груди. Аэлита Владимировна терялась в догадках. Капитан спросил: — Вы ведь в Москве раньше жили? На улице Осипенко? Так? Искали вас долго… — Да, верно, жила. Но вскоре после войны у меня заболела дочь. Вот врачи и советовали всякое — воздух, прочее. Тогда мы и переехали сюда… — несколько сбивчиво отвечала Аэлита Владимировна. А сама думала: «Почему военный? Почему этот капитан? И зачем?» И тут, как нельзя кстати, шумно появились Таня, зять и Саша с Димой. — Слушаю вас, — строго сказала Аэлита Владимировна.Тогда это имя — «Аэлита» потрясло меня. Немцы под самой Москвой, и вот в распределителе, на углу Пятницкой и Серпуховской площади, я знакомлюсь с ней. В очереди. Аэлита мне сразу понравилась, но была явно постарше меня. — А вы что отовариваете? — не нашел я ничего умнее спросить. — Как все, — спокойно взглянула она на меня. — Но ведь мяса нет, — глупо, как-то по-петушиному стал пояснять я. — На мясные талоны положены яйца, а их тоже нет, значит, дадут яичный порошок. — Значит, — передразнила она. — А ты, смотрю, деловой. — Деловой, а как же иначе в наше время, — парировал я, хотя деловитости во мне было ни на грош, а просто очень хотелось показать себя перед ней. — У вас тоже родители в Наркомпищепроме работают? — поинтересовался я и понял, что снова сказал глупость. Мои папа и мама работали в Наркомпищепроме, я гордился этим, и хотя сам получал рабочую карточку на заводе, был вместе с родителями прикреплен к этому распределителю. Но она подрезала мое тщеславие: — Почему родители? Я сама работаю машинисткой в Наркомпищепроме. А ты? Я сбивчиво объяснил. Рассказал, что мы делаем снаряды для зениток, не забыл упомянуть и о своих ночных дежурствах на крышах. — Я думала, что ты старше, и честно удивилась, почему не в Красной Армии, — призналась она. — Не берут, мне еще нет семнадцати, — ответил я. — Вот если все затянется, то скоро, конечно, пойду и я. Подошла наша очередь, и мы, отоварившись, окончательно познакомились. На пороге магазина — мне не хотелось так сразу расставаться с Аэлитой — я предложил: — Давайте зайдем ко мне. Мы тут рядом, на Пятницкой, у Климентовского переулка. И почему-то добавил: — У меня никого нет. Я уже представлял себе, как мы придем домой и останемся вдвоем, как я признаюсь ей в любви, буду целовать ее, и… — Пожалуй, зайдем, только на минутку, — сказала она. — А то мне надо за дочкой бежать в ясли. Эти слова сбили меня с толку. Я остановился и обалдело смотрел на нее. Какая дочка? Я вскипятил на буржуйке чайник. Накрыл, как мог, стол. Я уже привык самостоятельно хозяйничать дома, поскольку родители были на казарменном положении и дома появлялись неожиданно и ненадолго. Аэлита выпила чашку чая, к другой не притронулась и стала собираться. — Я провожу вас. — Мне близко, у Балчуга, — она сделала несмелую попытку отказаться от моего предложения. Я все-таки проводил ее. У дома спросил: — А имя ваше это от Алексея Толстого? — От родителей, — сказала она. — А в общем-то, видимо, от Циолковского. Толстой написал «Аэлиту» позже. — А где ваши родители? — Погибли в тридцать четвертом. На Урале. А я детдомовская… Я, благополучный сын своих, как мне казалось, благополучных родителей, знал о таких детях только по книгам Макаренко, и она от этого еще больше выросла в моих глазах. — А можно я как-нибудь зайду к вам? — спросил я неожиданно. — Заходи, ради бога, квартира четырнадцать, но только учти, что я прихожу обычно после шести вечера. Это сегодня так вышло, отгул за две недели круглосуточной… И телефон запомни, если хочешь. Я, конечно, запомнил телефон и номер квартиры и в ноябре был у нее три раза. А в декабре я все же попал в Красную Армию. Я писал ей письма на улицу Осипенко и передавал приветы ее полугодовалой Танечке. Я клялся Але в любви из-под Старой Руссы и когда мы оставляли Крым, из Нальчика и из-под Корсунь-Шевченковского, и потом, и потом, и потом… Аля отвечала мне — сдержанно и ласково. Даже писала, что ждет. Из одного ее письма я узнал, в ответ на мой вопрос, что муж, ее кадровый командир, летчик, пропал без вести в конце сентября сорок первого. Это мне придавало уверенности. Аля во всех подробностях писала о Танечке — о ее первых словах, шагах, открытиях и проказах, и мне казалось, что это особое доверие ко мне: ведь Аля доверяет мне самое дорогое, что есть в ее жизни. А Танечка была действительно мне дорога. Я и впрямь любил Алину дочку, как и саму Алю, любил безоглядно, поскольку эта любовь была первая и самая главная, а для солдата — единственно необходимая. Но вот, когда в августе сорок четвертого мы были уже в Румынии, письма от Али стали приходить все реже и реже. Мать с отцом писали мне два-три раза в неделю, и это было прекрасно, и я писал им короткие письма, но вот что случилось с Алей? Я писал ей, когда вырывал минутку, ежедневно, а от нее не получал ничего. Одно совсем короткое и сдержанное, в декабре, и два совсем чужих письма уже победной весной. Война кончилась, я еще продолжал служить в Австрии, пока не подорвался на мине и не попал в госпиталь, сначала в Маннсдорф, а потом в Киев. Из Киева я снова писал Але, но безуспешно — ответа не было. Когда по чистой вернулся в Москву, прямо с вокзала бросился, конечно, не домой, а на улицу Осипенко. — Аля! Аленушка! — крикнул я, когда Аля открыла дверь. Я впервые назвал ее Аленушкой. Даже не понял, откуда это вырвалось: «Аленушка»? Аля не смутилась, не удивилась, и виноватого в ней ничего не было, но я сразу понял, что она не одна. — Проходи, — предложила она, — сейчас я познакомлю тебя с мужем. — И крикнула куда-то: — Кирилл! Вышел Кирилл, сухопарый, очкастый мужик с какими-то бесцветными глазами, представился: — Кирилл. Я назвал себя. Выбежала Танечка, ей было уже больше шести и, конечно не узнав меня, прижалась к матери. Потом мы тяжко сидели за столом, о чем-то пытались говорить, но говорить было трудно. Я ни о чем Алю толком не мог спросить, Аля же интересовалась только войной и несколько сконфуженно моей хромотой — я был с палкой. Мы расстались словно чужие. Я даже не смог узнать, кто такой Кирилл. Заметил лишь, что Танечка никак не относится к нему. Папой его при мне не назвала ни разу и вообще все больше крутилась возле матери. Я никогда в жизни не писал стихов, хотя считается, что в юности стихи пишут все. Я же никогда не писал. Но тут, вернувшись домой, у меня вдруг ночью вырвалось:
У зачехленного монумента, что поднялся на опушке леса возле шоссе, собралась тысячная толпа. Перед монументом была вырыта могила, я с трудом пробрался к ней поближе и тут увидел Алю. Я узнавал и не узнавал ее. То, что это она, я понял скорее интуитивно, ошибиться я не мог. Рядом с ней стояли несколько военных в летной форме — два подполковника, майор, капитан и трое рядовых, и еще женщина, совсем молодая, мужчина в штатском и двое мальчиков. Все они держались кучкой. Конечно, она изменилась с тех далеких пор, но вовсе не постарела, скорей посолиднела, а лицо и глаза остались прежними. «Ей должно быть сейчас шестьдесят, — думал я, — если мне пятьдесят пять. Пять лет разница. Но это имело значение тогда, а сейчас какая разница?..» Я старался догадаться, кто стоит рядом с ней. Женщина — это, наверное, дочь — Таня, Танечка, а рядом, судя по всему, муж дочери и мальчишки, похожие друг на друга — их дети, ее внуки. Танечку, конечно, не узнать. У всех в руках были цветы — красные гвоздики в целлофане. А Кирилл? Никакого Кирилла рядом нет. Я бы наверняка узнал его, хотя и видел лишь однажды. Заиграл оркестр и вдали, со стороны поселка, на шоссе появилась процессия — солдаты, за ними бронетранспортер с лафетом, на котором весь в цветах стоял красный гроб. Процессия приближалась. Вот военные сняли с лафета гроб и поставили его на специальный постамент около трибуны. Я услышал, как один из подполковников сказал: — А теперь, Аэлита Владимировна, прошу вас и ваших близких на трибуну. — Нет, нет — поспешно ответила она. — Мы тут постоим, тут… И осталась на месте рядом с открытой могилой. Офицеры оставили ее и взошли на трибуну, где уже стояли штатские. Начались речи, но я их не слышал и смотрел только на нее. Казалось, что и она не слышит того, что говорили в микрофон. Я скорее догадывался, чем понимал, что выступал командир полка, в котором служил Синцов, кто-то из боевых друзей лейтенанта, секретарь райкома. Когда закрытый гроб опускали в могилу, многие вытирали слезы, но у нее слез не было. Она лишь зябко поеживалась — декабрь стоял морозный. Наконец все закончилось, и командир полка сбросил белый чехол с монумента. Еще минут двадцать-тридцать, и все стали расходиться. Я подошел к ней: — Аленушка!.. Она, кажется, совсем не удивилась. Сказала просто: — Хорошо, что ты здесь. Я рада тебя видеть. И добавила: — Я почему-то знала, что приедешь.
ВЕРОНИКА
Я родился через четыре года после окончания гражданской войны, в день, когда Москва хоронила легендарного Дзержинского. Но когда мне исполнилось одиннадцать лет, все — и революция, и гражданская война, и интервенция четырнадцати держав, и разруха — казалось уже давней-предав-ней историей, и, пожалуй, только она, одна она была живым, удивительным символом этой истории, тех славных времен. Мне казалось, что именно вот такими и были когда-то знаменитые красные комиссары — короткая стрижка и волевое лицо с глубокими, светящимися карими глазами, строгая белая блузка и коричневая под кожу куртка, которой, может, не хватало лишь пулеметной ленты да нагана. Она — наша учительница, она — неповторимая Вероника, Вероника Михайловна. Признаться, я терпеть не мог школу. До школы я занимался в нулевой немецкой группе, научился читать и писать не только по-русски, а и по-немецки, и, наверное, потому в школе мне поначалу казалось довольно скучно: зубрить буквы, писать по слогам, выводить прописи — все это было уже пройденным этапом. Но в школе была она — Вероника Михайловна, и я с тайной, трепетной радостью бежал в школу, с нетерпением ждал каждого ее урока, каждой встречи с ней. И для меня вовсе не имело значения, как она вела эти уроки. Вполне допускаю, что кому-то они были интересны, а кому-то и скучны, а кому-то и вообще безразличны. Для меня же они превращались в уроки полного, какого-то сказочного счастья… После уроков я гонял по переулку железный обруч или мастерил самокат на подшипниках — единственные и потому, видимо, особенно любимые игрушки нашего детства — и думал только о ней, все мечтал, как хорошо бы было, если бы она хоть однажды увидела меня за этими занятиями… За уроки я принимался вечером и даже их старался растянуть как можно дольше, ведь старался я только ради нее… Она мне снилась иногда и по ночам — мое воображение бросало ее то в вихри огня и лихие конные атаки, а то на баррикады и к пушкам «Авроры»… В третьем классе, когда я начал читать большие, серьезные книжки, я понял, что это называется любовью. Открытие это сначала обескуражило меня, а потом безмерно обрадовало, и эта любовь стала вырываться, проситься из моего сердца, она требовала выхода и вот наконец выскочила наружу и превратилась в стихи:Испанцы считали ее испанкой, французы — француженкой, а немцы — немкой. Ее звали Сильвией, и это имя как нельзя лучше подходило ей, поскольку оно было не только испанским. Она появилась в интербригаде под Барселоной в тридцать седьмом и очень быстро стала любимицей бойцов и командиров. Она могла быть и переводчицей, и разведчицей, и связисткой, а когда тяжело ранили комиссара бригады Хуана Кастильо, как-то достойно заняла его место и прошла с боями не одну тысячу километров по испанской земле, сражаясь с франкистскими мятежниками и воевавшими на их стороне итальянскими, немецкими и марокканскими солдатами. По ночам, когда было относительно спокойно, она вспоминала свою далекую родину, московский университет, работу в Коминтерне и даже свое короткое замужество, мучаясь от того, что не поехала с Витей на дальневосточную заставу. Ведь если б поехала, он не погиб бы в тридцать пятом на маньчжурской границе. Она почти не встречалась в Испании со своими соотечественниками — советскими добровольцами, хотя их было не так уж мало — больше двух тысяч, и почти все они были танкистами и летчиками. В их же бригаде сражались стрелки и артиллеристы, и лишь в начале тридцать девятого ее случайно нашел в Мадриде Михаил Кольцов: — Вероника Дмитриевна? Значит, вы и есть героическая Сильвия! Кольцов знал Сильвию по Коминтерну! Она рассказала Михаилу Ефимовичу, с каким трудом попала в Испанию, ведь туда брали только мужчин. — И помог мне, в частности, Георгий Димитров, — призналась она. Весной тридцать девятого фашистские войска ворвались в Мадрид. Начались тяжелейшие бои на баррикадах. Двадцать девятого марта около радиостанции Сильвия упала. На груди ее было знамя бригады. Через год, когда никто еще не знал о предстоящей войне, моей матери сообщили, что ее младшая сестра Вероника награждена орденом Боевого Красного Знамени — посмертно.
В октябре сорок первого мы, желающие попасть на фронт, осаждали Московский горком комсомола в Колпачном переулке. В военкомате у меня ничего не вышло, а здесь, кажется, была какая-то надежда. Говорили, что тут формируют комсомольские истребительные батальоны, партизанские группы и даже отряды разведчиков. В горкоме было людно, шумно и безалаберно суетно, но в этой сутолоке, внимательно присмотревшись, можно было обнаружить свой жесткий порядок. Она встретилась мне возле одной из дверей, спросила: — Вы тоже? — Да, но только не знаю, возьмут ли? В военкомате отказали. Вид у нее был какой-то несерьезный, пигалица, кроха, с большими детскими глазами, в которых слились восторг, удивление и испуг. Оказалось, что она из соседнего переулка, как и я, перешла в восьмой класс, у нее, как и у меня, есть оборонные значки. Но надеть она их постеснялась. Она спросила, как меня зовут, я ответил и в порядке вежливости тоже спросил. — Вероника, — отозвалась она. — Странное имя, — я почувствовал, что сказал явную глупость. — Почему же? — Да так, знакомые у меня были, — пробормотал я еще более смущенно. Из первой комнаты меня направили в третью. Из третьей — во вторую. Из второй — опять в первую. Наконец прорвался в кабинет секретаря горкома. Там мне тоже сказали: — Рано еще! Я, огорченный, вышел на сухую мерзлую улицу. Вероника увязалась за мной. Мы вместе дошли до моего дома. «Смешно, — подумал я. — Девчонка провожает меня». Я не стал спрашивать, где она живет, меня это не интересовало: у меня были две девочки Нина и Наташа, куда лучше Вероники, и я их тайно любил. Она же записала мой адрес и телефон. Чтобы не болтаться без дела, я устроился на работу катошником в типографию «Московский большевик», неподалеку, по соседству. В ротационном цехе, где я катал роли бумаги и закреплял их на печатной машине, выпускалась газета «Московский большевик», многотиражки «На боевом посту», «Сталинская трасса», «Советский метрополитен» и листовки для населения оккупированных районов. Я, как несовершеннолетний, работал с шести утра до двенадцати, а по ночам еще дежурил на крыше, тушил немецкие зажигалки. Однажды, выйдя из типографии, я увидел Веронику. — Ты что? — Тебя жду. — А откуда ты знаешь, что я тут работаю? — Мне твоя мама сказала. Мы собирались на Чистые пруды копать траншеи. Вероника пошла с нами. И копала землю вместе со всеми. Потом опять проводила меня до дома. Так стало повторяться почти каждый день. Признаться, мне стало все это основательно надоедать, но отвадить Веронику прямо я не решался. В начале декабря я все-таки добился своего — меня зачислили в комсомольский истребительный батальон. Но сначала батальон направляли куда-то на учебу в Подмосковье. Сбор был назначен во Владимирских казармах по соседству с институтом Склифосовского. Вероника пошла провожать меня. У ворот казарм мы попрощались. — Это тебе, но сейчас не читай, — сказала Вероника и, сунув мне записку, убежала. Я развернул записку: «Очень прошу — пиши мне. Я тебя люблю. С того дня в Колпачном», — прочитал я. Внизу значился ее адрес. Признаюсь, я даже опешил: «Еще чего не хватало! А если я тебя не люблю, что тогда?..» Нас отправили на станцию Петушки, а оттуда, уже в январе, мы попали на фронт. С фронта я писал Нине и Наташе, писал одинаково нежные письма, в которых весьма прозрачно и, как мне казалось, красиво говорил о своей любви, и они мне писали, чуть сдержаннее, но тоже о любви. Нина даже прислала свою фотографию с надписью «Дорогому…» Тайно я гадал, кого же мне все-таки выбрать, когда кончится война, но война затягивалась, и казалось, ей не будет конца. В сорок третьем я загремел в медсанбат, а оттуда в госпиталь в Гороховец, что под Горьким, и там получил письмо от Нины. Она писала мне, что любит другого и выходит замуж. Просила вернуть фото. Я порвал его. Оставалась еще Наташа, но письма ее приходили все реже и реже и становились нескрываемо холодными. Я пролежал в госпитале чуть ли не полгода, и именно тут стал ловить себя на мысли, что все чаще и чаше начинаю вспоминать Веронику. Она уже совсем не казалась мне замухрышкой и пигалицей. Как-то я решился и написал ей письмо — большое, просил не ругать за долгое молчание, а в конце приписал: «Пришли мне свою фотокарточку». Прошла неделя и другая, но ответа не приходило, я перепроверил адрес на полуистлевшей записке и написал вновь. Но и на сей раз Вероника не ответила. Уже с фронта я сочинил еще одно письмо на ее адрес и на треугольнике приписал: «Родителям Вероники». Вскоре пришел ответ: «Вероника с февраля 1943 года в действующей армии», — писала ее мать. А адрес не указала. Я снова отправил письмо матери, и только тогда у меня оказался адрес полевой почты Вероники. И странное дело, чем я больше искал Веронику, тем больше она мне была необходима. Я уже не вспоминал ни Нину, ни Наташу, а Вероника… Но письма мои так и оставались без ответа. Я написал своей маме, просил ее сходить в дом Вероники и перепроверить адрес, и она прислала мне уже другой номер полевой почты. Но и по этому номеру Вероника не откликалась. …В марте мы оказались в Германии. В деревне Обер-Кюшмальц нам дали отдых — первый после наступления 13 февраля на Сандомирском плацдарме. День стоял теплый, даже душный, солнечный и необыкновенно тихий. За деревней был виден довольно приличный для здешних мест лесок. Деревня средних размеров, с кирхой и сотней домов, не пострадала в боях. Грелись на солнце красные черепичные крыши, блестели стекла в аккуратных серых двухэтажных домиках. Местных жителей здесь не было, они все, видимо, бежали, и дома заняли наши — красноармейцы и командиры. Здесь же находился штаб дивизии, какие-то хозвзводы и наша крошечная часть, которая в силу причастности к Резерву Главного Командования (РГК) моталась по всему немалому Первому Украинскому фронту. Прямо на улице мы устроили из трех пустых железных бочек вошебойки и, пока они дымили, сидели рядом полуголые на свежей зеленой траве. В садах уже зацвели первые яблони и вишни, желтели одуванчики и выглядывали белые глазки трилистников, напоминающих подснежники. Неожиданно кто-то крикнул: — Глядите, славяне! Мы повернули головы и замерли в удивлении. Из леса, по полю, неторопливой походкой шел прямо к деревне огромный красавец лось. Могучая шея его была чуть сдвинута вправо, из нее сочилась кровь, а возле раны кружились мухи. Несколько солдат вскочили и бросились к лосю, но он остановился и принял решительную позу — не подпуская к себе. Мы тоже бросились к лосю и теперь уже ясно видели его рану, кто-то вытащил индивидуальные пакеты, пробуя приблизиться к нему, но лось опять нагнул голову и сердито повел рогами. Пока мы обсуждали что к чему и гадали, как помочь зверю, из-за наших спин выскочила девушка в гимнастерке с погонами младшего лейтенанта и с какими-то еле слышными, явно ласковыми словами начала медленно приближаться к лосю. Я видел ее со спины, но узнал сразу — по крошечной фигуре, по короткой прическе, по очертаниям, которые лишь изящно подчеркивала военная форма. Вероника! А девушка уже была рядом с лосем. Она гладила его по морде и делала свое дело — перевязывала рану. Обернувшись к нам, она спросила: — У кого есть соль? Кто-то помчался за солью, а она продолжала возиться с лосем и он не противился ей, терпел, лишь слегка пофыркивал и терял на землю белую пену. Наконец все было сделано. Сразу несколько солдат принесли соль, и девушка на узкой ладони протянула ее лосю. Животное доверчиво припало к руке, громко слизывая соль. Но вот лось встряхнул головой, обвел всех нас большими благодарными глазами и, медленно развернувшись, спокойно пошел в сторону леса. А Вероника повернулась, и я увидел ее счастливое лицо, в котором слились радость, восторг и гордая победа одновременно. — Вероника! — громко произнес я, и она ошарашенно посмотрела на меня, подскочила и, подпрыгнув, чмокнула меня прямо в нос. — Ты? Неужели ты? Красноармейцы, знакомые и незнакомые, загалдели, развеселились, кто-то крикнул: — Вот дает! Кто-то добавил: — Везет же мужику. Младший лейтенант целует солдата! — Ну пойдем, рассказывай! — увлекла меня Вероника и, когда мы скрылись с посторонних глаз, еще раз, уже крепче поцеловала: — А ты ничего, герой! Я же буквально ошалел от радости. Все, нашел ее, нашел! Вероника, словно угадав мое состояние, остановилась и как-то странно посмотрела снизу вверх на меня. — Понимаешь, я искал тебя, — лепетал я, — долго искал, ты мне очень нужна! Она вновь непонятно посмотрела на меня и тронула за рукав. — А об этом не нужно. Я рада тебе, как старому товарищу, — произнесла она чужим, далеким голосом. — Почему? — не понимал я. — Я вышла замуж, — пояснила она, — и очень счастлива, хотя и война. Я совсем опешил: — Как замужем? Когда? Кто твой муж? — Ты его знаешь, — улыбнулась Вероника. — Должен знать. И она назвала фамилию генерала, командира дивизии.
Мне не было еще пятидесяти, когда жизнь моя зашла в тупик. Жена, с которой мы хорошо или худо прожили почти тридцать лет, тяжело проболев три года, умерла. Дети давно выросли, жили своими семьями и заботами и им было явно не до меня, особенно когда они не нуждались в деньгах. Врачи же нашли у меня такой букет болячек, которых по войне хватило бы на целый батальон… И теперь, приехав на неделю по делам в Болгарию, я свалился с очередным приступом в Пловдиве. Врачи поколдовали вокруг меня и, по-моему не очень уверенные в диагнозе, оперировали. Я с трудом приходил в себя, но через неделю-другую начал вылезать на больничный балкон. Дышал густым пловдивским воздухом, смотрел на пересохшую Марицу и взнесенный над городом памятник Алеше, печально напоминающий каждому о минувшей войне. Однажды в дверь постучали и в палату вошла высокая, стройная, как лама, совсем молодая женщина в бежевых брюках, со светлыми, солнечными волосами. — Здравствуйте, — сказала она. — Меня зовут Вероника… Она назвала свою фамилию и газету, в которой работает. И тут же пояснила: — Я специально приехала к вам из Софии, чтобы взять интервью. А это вам! Она принесла цветы, какие-то несусветные соки, конфеты и ароматные печенья — в общем, все, что мне было категорически заказано. — А вы хорошо говорите по-русски, — заметил я. — Я же училась в Москве, в МГУ, на филфаке, — опа мягко и доверчиво улыбнулась. — И когда закончили? Она назвала год. Я лихорадочно подсчитал в уме. Значит, ей тридцать пять — тридцать шесть. А кажется куда меньше. Когда-то я написал рассказ. Он назывался «Тринадцать лет». И вот опять эта цифра. Она моложе меня на тринадцать лет. И вдруг я сразу же понял: «Мы будем вместе!» Я слушал ее вопросы и повторял про себя упрямо и твердо: «Мы обязательно будем вместе!» Мы говорили еще и еще, а в голосе неотступно звучало: «Пусть у нее муж, пусть дети, мы все равно будем вместе!» Через полтора месяца я выбрался из больницы. Она отвезла меня в Софию и пригласила домой. Оказалось, Вероника живет одна. Замужем не была. Детей нет. А родители? Отца и мать расстреляли в сорок четвертом по доносу за связь с партизанами. Уже позже в Москве она скажет мне: — А у меня такое ощущение, что я всю жизнь ждала тебя, именно тебя. Только очень-очень долго тебя не было… Каждый год девятого мая мы идем с Вероникой в Парк культуры. Все меньше и меньше остается ветеранов, но людей в парке не убавляется. Сюда приходят и те, кто родился в годы войны, и те, кто появился на свет много позже сорок пятого… Мы вливаемся с Вероникой в это святое и грустное празднество, и я почему-то думаю, что это не я, а она прошла от Москвы до Берлина и Праги. Или — мы вместе. И уж совсем точно то, что живу я, хожу по этим дорожкам лишь потому, что была и есть на свете она — Вероника…
БЕСКРЫЛЫЙ СЕРАФИМ
Признаюсь, люблю цирк и стараюсь не пропустить ни одной программы ни в Москве, ни в любом другом городе, куда часто заносит меня судьба. На этот раз я попал в цирк в Калуге. Представление было так себе, среднее, без особых открытий и находок, хотя на уровне, но все равно я смотрел с удовольствием — ведь в цирке в отличие от многих других искусств практически исключена халтура — каждый, даже самый простой номер требует огромного неподдельного труда. Но вот кто потряс меня, так это клоун. Он не был похож ни на Карандаша, ни на Олега Попова, ни на Юрия Никулина — моих давних и постоянных любимцев, он мне казался и чем-то универсальнее и в чем-то совершеннее. Не молодой, явно за пятьдесят, он выходил на манеж совсем без грима. Единственными, так сказать, атрибутами его циркового снаряжения были только парик и борода под доктора Айболита. Но он был неуловимо ловок, удивительно гибко, по-хорошему остроумен, ни одного дешевого, затасканного жеста. Он не допускал ни одной лобовой шутки, и все, что делал — острил, ходил по канату, играл на разных инструментах, имитировал гордого зазнайку-петуха, собирающего вокруг себя простодушное куриное семейство, пародировал Утесова и Шульженко, Кристалинскую и Лещенко, — было, без преувеличения, блистательно. Звали его Коко. Вернувшись к себе в гостиницу, я все никак не мог расстаться с Коко и чем больше о нем думал, тем чаще ловил себя на мысли, что я когда-то встречал этого человека, даже знал его. Я узнавал его чуть сутуловатую худощавую фигуру, мне казались знакомыми черты лица его, заключенные в нелепый парик и бородку доктора Айболита, я уже слышал этот голос — глуховатый, спокойный, с еле заметной, приятной картавинкой. Но где, когда встречал я этого Коко? Я долго и мучительно перебирал в памяти все послевоенные годы, но ни за что не мог зацепиться. Стал вспоминать время войны, но с цирком тогда ничего не было связано, и уже под самое утро я, совершенно измочаленный, тяжело уснул. Спал я час-полтора, не больше. Проснулся, конечно, с мыслью о Коко и решил вечером пойти в цирк снова. И пошел. Все повторялось — парад-алле, эквилибристы на проволоке, дрессированные собачки, прыгуны на батуте,космический полет, гимнастический этюд, дагестанские канатоходцы и опять Коко. Он делал все то же, что и вчера, но его выходы не были простым повторением вчерашнего, у них было и другое настроение, и другое дыхание, и другие, более разнообразные краски, и другие повороты, они пополнились новыми, изящными шутками и репризами. Все знакомые трюки он выполнил свежо и легко. А я смотрел теперь на него и был уже не в цирке, а возвращался памятью в войну, конечно, в нее, в нашу седьмую роту третьего батальона сто четвертого стрелкового полка. Правда, сто четвертым это мы уже потом стали, когда вырвались из немецкого котла под Смоленском, В этом вновь сформированном, а точнее, наспех собранном из остатков разных частей полку я и познакомился с Серафимом Еськовым, бескрылым Серафимом, как мы прозвали его. Звали мы его еще нелюдимом и молчуном. — Ну, разговорился, как бескрылый Серафим! — Ну, развел, как Еськов, тары-бары! И верно, Еськов был не только немногословен, а вообще почти все время молчал. Вроде бы достоинство свое сохранял. Службу нес сверхисправно. Из карабина стрелял не хуже, чем из снайперской винтовки. Ног в походе никогда не натирал, по крайней мере, если это когда и случалось, что маловероятно, то жалоб никто не слышал. И за всю войну — а были мы и под Ельней, и под Москвой, и на Дону, и под Сталинградом, и под Берлином, и под Прагой, где война у нас кончилась не девятого мая, как у всех, а четырнадцатого, поскольку мы добивали в Судетах армию Шернера, — не был ни разу ранен. Не только солдаты, а и командиры взирали на Еськова, как на чудо, и, может быть, за это еще больше уважали его. Коко поразительно напоминал мне Еськова. А может, это и есть он? Бог ты мой, неужели такое может случиться? После представления я, совершенно потрясенный и обескураженный, вернулся в гостиницу. И снова не мог до утра заснуть. А утром направился в цирк и спросил, где можно найти Коко. — Он на репетиции, на манеже, пройдите, — сказали мне. Я пробрался на манеж, и теперь у меня не оставалось никаких сомнений — это он, наш Еськов. Коко работал здесь без парика и бородки, он, конечно, постарел и изрядно полысел, но все равно передо мной был Серафим Еськов. — Еськов, Серафим, — тихо, каким-то не своим, как из глубины колодца, голосом позвал я его. Мы обнялись и долго, вжавшись в плечо друг друга, стояли. Еськов лишь несколько раз повторил: — А цирк — это такая удивительная штука! Выхожу каждый раз на арену и заново рождаюсь… Вечером после представления Еськов пришел ко мне в гостиницу. Мы сидели до полуночи, пили отвратительно теплый коньяк и все больше молчали. Я, к моей радости, узнавал прежнего Еськова. Даже когда вспоминали войну, Серафим говорил в основном жестами. И только когда речь заходила о цирке, он на моих глазах перерождался. Он со знанием дела, запальчиво и увлеченно рассказывал о тех или иных номерах, как водится, знал все о всех артистах, бранил администраторов, искренне, с радостью хвалил своих талантливых коллег… И еще сказал: — Про тебя не спрашиваю. Ты на виду. Книжки твои читаю, у меня их немало собралось… Я сидел рядом с Серафимом Еськовым, старым фронтовым товарищем, и думал о нелепых каверзах судьбы — вот тебе и бескрылый Серафим. И еще думал о том, что судьба к нему оказалась пророчески милостивой — она сохранила его для великого искусства.РОДСТВЕННИК
К вечеру второго мая Берлин полностью капитулировал, и, казалось, счастью нет предела — войне конец. Белые простыни, дороги, забитые нашими войсками и немецкими пленными, пестрыми толпами возбужденных репатриантов из всех стран Европы со своими флажками, тележками, колясками, велосипедами — все говорило о победе. И вдруг получен приказ — нам двигаться к Шарнсдорфу, где засела и отчаянно сопротивляется какая-то гитлеровская часть — то ли батальон, то ли полк, то ли остатки недобитой дивизии. Приказ есть приказ, но погибать в такое время особенно никому не хочется и все по мере возможности осторожничают — и командиры, и бойцы, а темная ночь, как на зло, сегодня не наша союзница. Шарнсдорф, к которому мы идем, говорят, цел-целехонек, ни одного пожара, ни одного разрушения. Мы чуть ли не на ощупь пробираемся по лесу, держа наготове автоматы и ручные пулеметы, а за нами следуют бойцы с легкими минометами и противотанковыми ружьями. У некоторых в руках, освоенные еще на подступах к Берлину, трофейные фауст-патроны. Дурманяще пахнет лесной прелью, на этот тревожащий запах легко и нежно ложится аромат свежей зелени, и после дымных пожаров Берлина все это кажется чудом. И всюду — непривычная, нереальная, оглушающая тишина. Лишь издали, на оставленной нами автостраде, слышится глухой рокот машин, танков, артиллерии. И немного жаль, что мы не с нашими войсками, идущими на Запад. Мы прошли уже, наверное, метров пятьсот-шестьсот, миновали неглубокий, но широкий овраг с ленивым ручьем — пока никого не видно. Но вот раздалась неожиданная команда: — Ложись! И тут же ударил шквальный огонь — автоматы, пулеметы, и в небо взвились несколько хвостов желтых ракет. Мы стреляли вперед, наугад, в темноту, из автоматов и карабинов, а за нашими спинами уже развернулись минометчики и бронебойщики. Время, пока шла эта слепая перестрелка, тянулось неправдоподобно медленно, но тут вновь прозвучала команда: — Вперед! Мы уже видели горящие транспортеры и несколько легких танкеток, из которых с криками выскакивали немцы, хорошо различали мотоциклистов, поворачивающих вспять… Откуда-то с тыла, тяжело урча, подкатила наша радиоустановка. По лесу раздалось: — Deutshe Soldaten und Offizire! Ihr seid einge-kesselt! Ergebt euch! Berlin ist gefablen! Das Sowietkom-mando garantiert euch das Leben[31]. Но немцы не собирались сдаваться. Наконец встречный огонь поутих, и мы опять залегли. Прошел час или около того. Противник молчал. Небо еле заметно начинало светлеть. Наша радиоустановка повторила предложение о сдаче. Никакой реакции. А сквозь верхушки деревьев на нас спокойно и безразлично смотрели звезды. Ими было усеяно все небо. Их чистый бесстрастный свет взывал к миру безмятежности. Неужели кому-то именно сейчас, когда уже кончалась война, придется погибнуть от этих шальных немцев? Наше командование, видимо, тоже думало об этом и потому не спешило. Лишь когда совсем рассвело, раздалась команда: — Вперед! Мы двинулись вперед, и вдруг все невольно остановились. Наш путь преградило несколько десятков убитых немцев, брошенная — разбитая и целая — техника… Раненых не было, а с убитых было снято оружие. Мы поняли, что немцы ушли. Но куда? Командир батальона Усов, совсем еще молоденький старший лейтенант, заменивший погибшего в Берлине капитана Сомова, выслал разведку — из старичков трех самых отчаянных ребят, но я в нее не попал. Среди этих ребят был мой лучший друг Витя Ковалев, с которым мы начинали под Москвой, потом воевали под Ростовом, где были ранены и откуда попали в разные госпитали, а в сорок четвертом снова встретились, в своей же части, но уже на Первом Украинском. — Тебе повезло, — кивнул он мне, проходя мимо. — А по-моему, уж лучше куда-то двигаться, чем сидеть здесь в полной неясности, — ответил я. — Лучше живым сидеть, чем двигаться на костылях или того хуже, — мрачно пояснил Витя. Они ушли. Мы продолжали торчать в лесу, правда уже близко к опушке, за которой в неясном отдалении и находился этот самый, будь он неладен, Шарнсдорф. Минут через сорок разведка вернулась. Витя доложил: — Немцы в селении, засели по домам, но там полно и гражданских. Пройдя пол-Германии от самой польской границы, мы мало видели штатское население, не считая редких выживших из ума стариков и старух да разбитых параличом калек. Лишь на подступах к Берлину и в самом городе появились первые гражданские немцы, да и то их было не так уж много. Командир батальона собрал взводных: — Придется выкуривать их осторожно. Лобовая атака не годится… Было решено, что мы зайдем в Шарнсдорф с тыла — два взвода слева, два — справа. Уже было совсем светло, когда мы выбрались из леса и, совершив немалый полукруг, подошли к задворкам крайних домов. Дома аккуратные, одинаково серые, с крутыми черепичными крышами, окруженные строгими палисадниками. Вокруг них — сады и ухоженные огороды. Немцы, по всей видимости, здесь нас не ждали и потому подпустили без единого выстрела почти вплотную к дверям и окнам. Дальше все происходило относительно просто. Мы по очереди врывались в дома, обезоруживали уже довольно вяло сопротивляющихся гитлеровцев. В первых двух домах немцы пытались стрелять. Но, к счастью, никто не пострадал. Большинство же просто бросало оружие и покорно выходило с поднятыми руками на улицу. Всего их оказалось больше ста человек. — Ребята, сюда! — мы услышали отчаянно-растерянный голос ординарца комбата Беспалова. Несколько солдат, в том числе и я, подбежали к погребу, пристроенному к одному из домов. Беспалова, белого как снег, трясло: — Смотрите! Возле яблони ничком лежал старший лейтенант Ухов, а в нескольких метрах от него возле распахнутой двери погреба немецкий офицер в чине полковника. — Они застрелили друг друга. Первый раз вижу такое, — произнес кто-то. — Это я виноват, я его упустил, — бубнил Беспалов. — Капитана Сомова в Берлине хоть без меня убили, а тут при мне… Мы бросились в рядом стоящий дом. Две перепуганные женщины — седая, старая, и совсем молодая — и трое белобрысых детей — мальчишек — испуганно сгрудились вместе, смотрели на нас. Молодая даже закрыла от ужаса лицо руками. — Есть кто? Они онемело молчали. Я проскочил по лестнице наверх. В большой пустой комнате лицом к окну сидел немецкий обер-лейтенант и, странно жестикулируя, разговаривал сам с собой. Перед ним на столе лежал пистолет. Я поначалу несколько опешил. О чем он говорил, я не понял, да и не мог понять, ибо не знал немецкого, но, судя по голосу и жестам, немец доказывал сам себе что-то весьма убедительное. Наконец он обернулся в мою сторону, вроде удивился, но тут же вскочил и судорожно рванул вверх руки. — Не надо, не надо, — почему-то сказал я и, подойдя к нему, показал, чтобы он опустил руки. Пистолет же на всякий случай взял. Так мы и стояли некоторое время друг против друга. Вдруг глаза его странно блеснули, он словно опомнился, внимательно всмотрелся в меня и спросил на вполне приличном русском языке: — Вы меня расстреляете? Я удивился: — Мы пленных не расстреливаем. Ты что — разведчик? Откуда русский знаешь? — Нет, я не разведчик. Я — артиллерист. А русский знаю от матери… Мы спустились вниз и вышли на улицу. Тут я внимательно разглядел обера. Светлые, как и полагается арийцу, волосы. Круглое, почти мальчишеское лицо. Пожалуй, он немного моложе меня. Пока мы шли к толпе пленных, немец спросил: — А как вас зовут? «Нет, он явно пришел в себя, — подумал я. — А там в доме ведь совсем был чокнутый». — Зачем тебе это знать? — Хочу знать, кому обязан жизнью. Я назвал свою фамилию. Немец вроде бы удивился. Даже шаг замедлил. — А имя? Я сказал. — Не может быть! — воскликнул он. — Вот странно! — Чего же странного? Ну, а тебя как зовут? — Хотите знать имя своего последнего пленного? — усмехнулся он. — Экк, Бруно. Мимо проходил Витя Ковалев. Бросил: — О чем это вы так мило с фрицем беседуете? Родственника что ли встретил? Комбата Усова похоронили в центре Шарнсдорфа. В городе это была единственная могила русского. Через две недели под Дрезденом меня демобилизовали. Семь бесконечных ночей и дней добирался я до Москвы. Под вечер я был в своей коммунальной квартире. Мама словно ждала меня — встретила у подъезда, растерянная, счастливая. Я высыпал на стол остатки сухого пайка, которые, по московским меркам, оказались неслыханным богатством. Потом мама ушла на кухню, а я сидел за столом и единственно о чем мечтал, быстрее заснуть. Мама, вернувшись с кухни, угадала мое желание: — Ты совсем клюешь носом. Ложись-ка на боковую. «На боковую» было ее любимое выражение, которое я помнил с детства. Спал я долго и, когда утром проснулся, ничего не понял. Мама сидела в ночной рубашке на своей постели, спустив ноги, и как-то неестественно смотрела на меня воспаленными глазами. — Ты что, не спала? — удивился я. — Ни минуты, — она горестно покачала головой. — А что случилось? — Ты всю ночь так ругался… Я никогда в жизни не слышала подобного. Я покраснел и подошел к ней, обнял: — Не сердись, пожалуйста, это пройдет. Что поделаешь, издержки войны… Мы говорили, кажется, весь день обо всем и в общем-то ни о чем. — Ты хоть немецкий-то в Германии подучил? — Что ты, мама! Только хенде хох… Она засмеялась. Тут я вспомнил своего последнего немецкого пленного и рассказал о нем: — …Вот кто хорошо знал русский… Правда, сначала он показался мне чокнутым, но потом вроде ничего… — Как? Как, ты говоришь, его звали? — Экк, Бруно. Мама явно растерялась: — Так это ж Верин сын! Я знал, что у мамы есть старшая сестра Вера, но где она, что делает, с кем живет — кажется, не знал ничего. — А почему ты никогда мне ничего о ней не рассказывала? — Не хотела биографию тебе портить. Все-таки родственница за границей. Ведь Вера жила в Латвии до сорокового года. Замужем была за немцем. А сын ее Бруно учился в Берлинском университете… Выходит, что двоюродный брат… — А совсем недавно, в феврале, я получила письмо от Веры из Ковеля, где она работала переводчицей в штабе Красной Армии. Следующую ночь уже я не спал. Вернее, старался не уснуть, боясь, что повторится вчерашнее. Зато мама спала хорошо и, как мне казалось, всю ночь чему-то улыбалась. …Вскоре я уехал на строительство Волго-Донского канала. А в пятьдесят втором получил печальную телеграмму из Москвы. После похорон мамы я пересматривал ее бумаги. И среди них нашел письмо из Лейпцига, совсем недавнее: «Дорогая тетя Лена! Сообщаю вам горькую весть. Умерла мама, ваша сестра — Вера. Я вернулся из России, из плена, три года назад… Сейчас у нас все хорошо. Месяц назад у меня родилась дочка, мы ее назвали Кэтрин, Катя…» И подпись: «Бруно Экк». Видимо, мама не успела сообщить мне об этом письме…ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
Мой год рождения двадцать шестой, и когда началась война, меня долго не брали в армию. Я работал слесарем в Центральной лаборатории автоматики, делал «петушки» для автоматов. В армию взяли только в сорок третьем, когда мне было семнадцать, да и то не на фронт, а в лагеря под Горький. В шестой учебный разведывательный артиллерийский полк. Там мы «загорали» почти год. И вот наконец в декабре сорок четвертого был сформирован десятый артиллерийский полк «прорыва РГК» (Резерва Главного Командования), и мы погрузились в эшелоны. Путь наш лежал через Гороховец и Владимир. Потом три дня крутили по окружной дороге возле Москвы. Я позвонил матери, и она примчалась ко мне. Ахала: — До чего же ты щуплый! И на фронт!.. — Ничего, мама. Все нормально, — повторял я. И вот раздалась команда: — По вагонам! В теплушке было холодно, хотя мы старательно грели печку. Постоянно толпились у открытой двери вагона. Интересно смотреть, какие места мы проезжаем. Сухиничи, Брянск, Зерново, Конотоп, Бахмач, Нежин, Киев, Казатин, Винница, Львов, Перемышль. Многие станции и вокзалы разрушены до основания. Сохранились только таблички с названиями. От последней станции часа два ехали до границы. И вот Лежайск — первый польский город. — Разгружайтесь! Мы скинули шинели. Несмотря на декабрь, было довольно тепло. Плюсовая температура. Моросил мелкий зимний дождик. Город оказался небольшим, но чистым и зеленым. Самым высоким зданием был огромный костел. Рассказывали, что в нем большой орган, по известности, после Вильнюса и Вены, третий в Европе. Как только разгрузились, снова на машины — и в путь. Миновали деревню Сажину, городок Тарнобжег, переправились по понтонному мосту через Вислу. Река тихая, неширокая, всего метров двести. Наши форсировали ее еще в августе. За Вислой начались плохие дороги, и мы долго тряслись по ним. Подлесье, Низины, Гура — деревни, в которых мы останавливались на день-два, и снова двигались вперед. В пути встретили и новый, сорок четвертый год. Двенадцатого января после мощной артподготовки наш фронт перешел в наступление. В его подготовке была и наша доля: мы привязывали артиллерийские позиции, засекали вражеские цели. Наш маршрут вслед за наступающими лежал через Карчув, Халупки, Скажув. В почти безмолвнолм городе Хмельник мы остановились, наш взвод занял два пустующих дома. По соседству находилось заведение вроде буфета. Как-то я заглянул туда. За прилавком стояли два здоровых мужика с физиономиями спекулянтов и молодая женщина. — Что изволите? — спросил один из них на чистом русском, как только я вошел. — Так, посмотреть, — я немного смутился. — Не беспокойтесь. — Прошу, пан, прошу, — второй мужик вышел мне навстречу. На полке красиво расставлены разнокалиберные бутылки с какими-то разноцветными напитками — красными, зелеными, малиновыми, желтыми. На прилавке аппетитные булочки по двенадцать злотых и колбаса по двести пятьдесят. «Интересно, дорого это или нет?» — подумал я. Но тут с улицы меня окликнули, и я выбежал из буфета. — Срочно к старшине! Разыскал старшину Балуева. — Пойди поищи воду для кухни, — приказал он. — Вот ведро. Взял ведро и неудобный свой карабин. Другого оружия нам пока еще не положено. Прошел одну улицу, другую в поисках колодца или колонки. В дома не захожу. Вокруг никого. Вдруг впереди кто-то мелькнул, вроде с автоматом на груди. Кажется, немец. Я за ним. Он за угол дома. Дал по мне очередь, но промахнулся. Только ведро вздрогнуло. Я бросил ведро, снял с плеча карабин. Где этот человек? Сделал несколько шагов вперед, еще несколько. «Откуда этот немец взялся? Ведь Хмельник утром освободили». И тут я вновь увидел его. Он метнулся вдоль соседнего дома, выстрелил в меня и скрылся за дверью неказистого строения, напоминавшего сарай. Я выпустил три пули в сарай и остановился в нерешительности. Выждав несколько минут, стал осторожно подбираться к двери. Тихонько тронул ее ногой, она тоскливо скрипнула. Заглянул внутрь — темно, но видно сено. Выстрелил наобум в сено. Оно зашевелилось, и оттуда опять грянула очередь. Слава богу, снова мимо. Прижавшись к стенке, я выпустил три пули в то место, откуда стреляли. Глаза уже понемногу привыкали к темноте. Стоял, не шевелясь, минуту-другую. Все тихо. Подождал еще. По-прежнему тихо. Подошел к сену, осторожно разгреб его ногой. Вижу, лежит он. Кажется, не дышит. Во всяком случае не шевелится. Попробовал: еще теплый. Немец оказался очень тяжелым, и я с трудом подтащил его к двери, а затем волоком — на улицу. Тут хотел приподнять немца, но не осилил. Пришлось тащить за ноги. Грузен, черт! Потом сообразил: так неудобно, голова волочится по мостовой. Взял под мышки. Так-то приличнее! Все же человек! Сколько я его тащил — не помню. Только знаю, что совсем запарился. Когда подтащил к своим, все ребята высыпали на улицу. — Смотрите, — крикнул кто-то. — Глядите! Ну и умора! Вышли командир взвода младший лейтенант Гусев и старшина Балуев. — Ты что это? — спрашивает Гусев. — Вот, убил, — отвечаю. — Да это все понятно, но зачем ты его приволок? — говорит Гусев. — Взял бы документы, как положено, и все. — Тогда бы могли мне не поверить, — отвечаю я, все еще тяжело дыша. — Мало ли откуда документы? Может, нашел или отнял, а он живым удрал? А тут доказательство. — И то верно, — согласился младший лейтенант. — Ну, давай тогда посмотрим, что за гуся ты приволок. Он залез в карман немецкого кителя, достал документы. — Так, Ганс Штюмм, унтер… А он старше тебя знаешь на сколько? Посчитай! Девятого года рождения. Ну, как и что делать будем? Я молчал. — Он приволок, пусть и хоронит, — подсказал старшина. — Пожалуй, верно. Давай бери лопату, оттащи его куда-нибудь подальше и закопай, — приказал командир взвода. — Опять тащить? — А ты как хотел бы? — Оркестра не будет? — уже начиная понимать комичность ситуации, я попробовал шутить. — Не будет, — подтвердил младший лейтенант. Я принес лопату и взял было уже немца под мышки, как Гусев сказал: — Подожди! Слушай, старшина, принеси-ка ему стакан спирта. Да быстро! Впрочем, стакан ему много, хватит три четверти стакана. Заслужил! — Служу Советскому Союзу! — рявкнул я. — Подожди, сейчас закусить тебе принесу, — пообещал младший лейтенант и скрылся в буфете. Он вынес булочку с куском колбасы, той самой, по двести пятьдесят злотых, сырокопченой, которой я никогда не ел, а старшина дал стакан со спиртом: — Разбавлять не будешь? — Не-е. Я выпил спирт, чуть не захлебнулся, и совершенно не ощущая вкуса колбасы, съел закуску. — Теперь пойду… — Иди, иди… Я взял немца под мышки и потащил в сторону ближнего скверика. Немец и впрямь был очень тяжел. Наверное, раза в два тяжелее меня.ТИШИНА НАД ПОЛЕМ
Нет, жизнь у Славы Куликова все-таки складывалась неудачно. Ему определенно не повезло с внешностью. Вроде парень как парень, а лицо девчоночье — нежное, волнистые русые волосы, длинные пушистые ресницы, которым откровенно завидовали все девчонки, мягкий овал лица с легким румянцем и застенчивая, чуть смущенная улыбка… В школе, начиная с пятого класса, его стали называть Василисой Прекрасной, а то еще хуже, потому что было сначала непонятно — «Дамой с камелиями». Что делать? — Ив кого я такой у вас? — не раз говорил он отцу с матерью. — Да, признаться, мама подкачала, — отшучивался отец. Мама молча улыбалась. Куликовы оказались в Кабардино-Балкарии в конце гражданской войны. Работали тут геологами. В двадцать четвертом в ауле Гирхожан у них появился на свет сын Вячеслав, Слава, или просто Славик. Слава рос хорошим парнем — честным и самостоятельным. Родители довольно часто уходили в ближние и дальние экспедиции, поручая сына соседям, а когда он стал постарше, вообще оставляли его одного. И не боясь за него, знали, что и в школе, и дома у сына все будет в порядке. А Слава, подрастая, начал увлекаться рисованием и гербариями. Он мог часами бродить по окрестным горам и склонам с акварельными красками и альбомами, а возвращаясь домой, приносил охапки весенних, пахнущих сыростью подснежников, а потом фиалок и тюльпанов, украшая ими свой уютный домик, и отбирал лучшие цветы для своего гербария. А про цветы он знал больше, чем его родители, и отец с матерью поражались, узнавая от него, что, оказывается, подснежников существует свыше десяти видов и каждый не похож на другой, и растут они в разных странах. Подснежники были особой, неодолимой страстью Славы Куликова. Они притягивали его к себе неведомой, таинственной силой, а в их еле уловимом аромате было словно что-то тревожащее Славу и напоминавшее о чем-то далеком и все время ускользающее из памяти… И с первыми весенними днями уходил он в горы и часами мог сидеть перед этими неброскими, нежными цветами, все пытаясь разгадать их тайну. Срывая белый, поникающий цветок с двумя линейными или плоскими листьями, Слава никогда не трогал луковицу. Цветы и листья у подснежников разнились и по размерам, и по внешнему виду, и, приходя домой, Слава обычно зарисовывал их. Таких рисунков подснежников у него накопилось более сотни. Года за два до окончания школы родители начали брать сына с собой в экспедиции. Сын не подводил их. Наравне со взрослыми таскал тяжелый вещевой мешок и, не жалуясь, переносил нелегкие переходы. И с готовностью выполнял любую физическую работу. Беда, как всегда, пришла неожиданно — в апреле сорок первого, за два месяца до окончания Славой школы. Родители ушли в очередную экспедицию и… не вернулись. Чуть позже Слава узнал: они погибли при обвале в двадцати километрах от Гирходжана. После похорон Слава первым делом взялся за ремонт дома. Родители давно собирались привести в порядок свое жилье — перестелить полы, обновить крышу, переклеить в комнатах обои, да не успели. И теперь Слава каждый день, возвращаясь из школы, принимался за ремонт. Работал он истово и даже с каким-то вдохновением. Словно старался вложить в свой труд память о родителях. Закончив ремонт, он устроился на шахту, на неполный рабочий день — после уроков. Смена его длилась до десяти вечера, и он успевал не только выполнить, но иногда и перевыполнить взрослую норму. А ночью урывал час-два на уроки. Ему хотелось во что бы то ни стало хорошо закончить десятилетку. Ведь родители столько надежд связывали со своим единственным сыном. Он совсем забыл о своей внешности, и все его прежние переживания по этому поводу казались теперь просто нелепыми и даже нереальными. Учителя говорили ему: — Смотри, Куликов, не надорвись! — Кончу школу, будет легче. Останется только работа. В июне сорок первого он сдал экзамены на отлично. Когда началась война, у Славы не было никаких сомнений: в Красную Армию, на фронт! Он уже совсем взрослый — семнадцать. Военкомат, куда он пришел, был забит до отказа. Там сказали: — Двадцать четвертый год не призываем. Слава написал новое заявление, взял свои значки — «БГТО» и «ПВХО» и пошел к военкому. Комиссариат гудел, как растревоженный улей. Но он все-таки сумел пробиться к начальству. Военком внимательно прочитал заявление, пробежал свидетельство о рождении, взял в ладонь значки, будто взвешивая их. — Все хорошо, товарищ Куликов, — сказал он. — Но ничего поделать не могу. Не приказано призывать сем-падцатилетних. Слава вернулся домой, достал лезвие от отцовской безопасной бритвы и стал гадать над свидетельством о рождении. Там, где написано словами «одна тысяча девятьсот двадцать четвертого года», пожалуй, ничего не сделаешь. А вот цифры. Вполне можно из «4» сделать «1». Надо попробовать. И он стал аккуратно подчищать четверку. Отполировал подчищенное ногтем. На следующий день написал новое заявление, собрал вещи, накрепко запер дверь на замок и отправился в Нальчик. Тут в военкомате было еще больше людей, чем в Тырпыаузе. Но он все же отстоял очередь и оказался у стола, за которым сидел пожилой человек в штатском. Поправив старомодное учительское пенсне, он удивился: — А зачем заявление? Двадцать первый год и так подлежит призыву. «Все в порядке!» — с радостью подумал Слава. — А почему не призвались по месту жительства? — поинтересовался штатский. — У меня родители погибли, и я оказался в Нальчике, — как можно спокойнее и безразличнее сказал Слава и почувствовал, что сейчас он, пожалуй, впервые не покраснел. Через час их команда — более двухсот призывников — уже шагала по улицам города на пересыльный пункт. Были среди них и совсем молодые ребята, выглядевшие моложе Куликова, были и люди солидные, пожилые, за тридцать. На пересыльном пункте Слава пробыл семь томительных суток. Кто-то уходил, появлялись новички, а до него вроде никому не было дела. И вот наконец он услышал свою фамилию: — Куликов! С вещами на выход! Во дворе собралось двенадцать человек. Их построил младший лейтенант. Сказал: — Ничего войско. Между прочим, такие нам и нужны. Слушайте, ребята! Отправляемся с вами через час в город Орджоникидзе. Слышали о таком? Бывший Владикавказ. Будете служить в учебном стрелковом полку. Все ясно? — А на фронт? — разочарованно выкрикнул кто-то. — Разговоры отставить! — жестко приказал младший лейтенант, но тут же смягчился: — Между прочим, на фронте нужны бойцы, а вы пока, как бы это сказать, чтобы не обидеть, делать-то ничего не умеете. Через час собраться на этом же месте. Будет машина, которая отвезет вас в Орджоникидзе. В начале декабря в полку разнесся слух: — Завтра едем! Уже эшелон на станцию пригнали. Знать бы только, куда? Куда, так никто и не знал, даже когда эшелон тронулся. Ехали сутки, другие, восьмые и десятые, а поезд медленно и натужно все пробивался и пробивался вперед. И только через две недели пути они начали догадываться: видимо, к Москве, на Западный фронт. В одну из ночей эшелон остановился на маленькой, безлюдной станции. Вокзал и притулившиеся к нему домишки были разрушены или сожжены, телеграфные столбы и голые деревья побиты осколками снарядов, зияли воронки от бомб и снарядов. Снег не успел припорошить гарь и копоть. Видимо, бои здесь шли совсем недавно. Командиром взвода, где оказался Куликов, стал приезжавший за новобранцами в Нальчик младший лейтенант Миансаров. Более двух часов ушло на разгрузку эшелона. Наконец машины, орудия, боеприпасы и продовольствие были выгружены. Колонна двинулась в путь. Шли несколько часов, без привала, пока совсем не посветлело. Утром рассредоточились в небольшом лесу, перерезанном окопами и глубокими землянками, в которых сохранились приметы пребывания и немцев, и наших. В одной из таких землянок оказался Слава с товарищами. Вскоре к ним пришел незнакомый командир, представился: — Политрук третьей роты Кузнецов Василий Семенович. Давайте побеседуем. Наступила пауза. — Отдых нам дан до вечера, — продолжал политрук. — О провале немецкого наступления на Москву вы знаете. Но обстановка продолжает оставаться серьезной. После панического отступления противник закрепился на новых рубежах. Недавно освобождены Боровск и Дорохово. На очереди Можайск и Вязьма. Но нас с вами интересует другой город. Город этот Верея. Наш полк вошел в состав сто тринадцатой стрелковой дивизии. Дивизия эта известная, но в боях за Москву понесла тяжелые потери. Сейчас она получила хорошее пополнение. Итак, в ночь мы выходим в населенный пункт Кресты, оттуда вдоль реки Протва с юга ударим по Верее. С востока город будут атаковать двести двадцать вторая и сто десятая стрелковые дивизии. Бои предстоят тяжелые, поэтому от вас требуется высокая организованность, дисциплина, мужество и отвага. Учтите, что враг очень силен и без боя своих позиций не сдаст. Вот такая обстановка. Вопросы есть? Красноармейцы молчали. — Ну, а сейчас завтракать, а потом — отдыхать! Набирайтесь сил! — сказал политрук. — Спасибо, — поблагодарил Миансаров. — Между прочим, товарищ политрук, мы, кажется, с вами знакомы. Вы не жили до войны в Ростове? — Как же, жил! Я же — ростовчанин! — Я помню ваше выступление на учительском совещании в декабре сорокового года… — Было дело, — признался Кузнецов. — Но я вас не помню. — А вы и не можете помнить. Я не выступал. — Но все равно, значит, земляки, — улыбнулся политрук и обнял Миансарова. Все были в возбужденном ожидании. Не хотелось ни спать, ни есть, несмотря на впервые выданные к обеду наркомовские сто грамм. Перепроверяли оружие. Тихо переговаривались. В девять вечера в землянку вошел Миансаров, приказал: — Пора! Выходи! В непроглядной тьме полк прошел несколько километров и вышел к берегу замерзшей речки Протвы. Какие-то роты перешли на противоположный берег, их, третья, осталась на этом. Еще километр с лишним Миансаров вел свой взвод в полный рост. Потом скомандовал: — Ложись! Ползком! И тут же над их головами ударили автоматные очереди, раздались взрывы снарядов и мин. — К бою! — выкрикнул младший лейтенант. — Приготовьтесь! Жди мою команду. Под шинелями глухо хрустел снег. Две желтые ракеты осветили впереди небо. И вот наконец голос Миансарова: — За мной! Вперед! За Родину! За Москву! Слава вскочил одним из первых и, держа винтовку наперевес, косолапо побежал по глубокому снегу вслед за командиром взвода. Впереди были четко видны вспышки минометной батареи, а за ней чуть дальше вырисовывались силуэты артиллерийских орудий. А совсем близко, казалось, всего в нескольких шагах, по-паучьи шевелились черные фигуры. В глубь немецкой обороны ударила наша артиллерия и минометы. Огонь немецких автоматчиков чуть поутих, и Миансаров, неловко споткнувшись, крикнул: — Бей их, ребята! Бей! Слава подбежал к первому окопу и увидел распластавшихся в нем трех немцев, перескочил через них и рванулся вперед. Его догнал Миансаров, бросил на ходу: «Молодец, Куликов, так держать», и теперь уже они мчались рядом. Вдруг Слава увидел перед собой немца — то ли бежавшего назад, то ли вперед, он в суматохе не понял — выстрелил в него и тут же почувствовал, как штык винтовки пружинисто задел тело падающего врага, и на мгновение ощутил всю его огромную тяжесть… «Мой первый», — радостно и мимолетно подумал он. И только тут он понял, что немцы бегут, отступают. Он уложил еще одного, а в третьего промахнулся, и решил во что бы то ни стало догнать его. Тот был всего в десяти — двенадцати шагах от него, когда Куликов присел на колено и выстрелил. Немец, нелепо пританцовывая, пригнулся к земле. С обоих берегов реки неслось многократное «ура», оно сливалось с другими неясными криками. И удивительное чувство силы своей и торжественного превосходства над немцами переполняло Славину душу, и он отчетливо понимал, все идет как надо и ему совсем не страшно в этом первом тяжелом бою. В горячке боя Слава не видел своих товарищей, только Миансаров был все время рядом, но чувствовал, что все бегут вперед. — Смотри, Куликов, впереди Верея! — крикнул младший лейтенант. — За мной, ребята! Даешь Верею! — Вижу Верею! — закричал Слава, хотя ничего не видел, кроме какой-то возвышенности и нескольких горящих домов. Поле перед возвышенностью все было усеяно разбитой немецкой техникой — два горящих танка, перевернутые мотоциклы, покореженные орудия, остовы автомашин. Вдруг Куликов скорее почувствовал, чем заметил, что рядом нет младшего лейтенанта, оглянулся и увидел сзади Миансарова, осторожно осевшего на землю. — Помогите мне встать, Куликов, — позвал командир взвода. — Вы ранены? — бросился к нему Слава. — Ерунда. Хорошо, что левая, — как-то виновато признался Миансаров. — Помоги-ка подняться. — Вас перевязать надо, товарищ младший лейтенант, — говорил Слава, помогая Миансарову встать на ноги. — Все, все, потом, — младший лейтенант встал во весь рост и опять крикнул: — Вперед, ребята, давай жми вперед! Они уже совсем приблизились к довольно крутой возвышенности, на которой Слава теперь четко различал черты города, освещенного не двумя-тремя, а десятками бьющих в глаза пожаров. Миансаров продолжал тяжело бежать, повторяя: «Вперед, ребята, вперед!», и Слава бежал рядом с ним. Возле какой-то канавы Слава, заметив впереди немца, споткнулся, но сумел удержаться на ногах. Этот немец присел за ствол поваленного дерева и целился в их сторону. Слава лег на снег и бросил в этого немца единственную свою гранату. Младший лейтенант оказался снова рядом с Куликовым. — Может, все же перевязать? — спросил Слава командира взвода, но ответа уже не услышал. Около него что-то тяжело ударило, потом разорвалось тысячами ослепляющих огней, и он вдруг ощутил необыкновенную тишину — ив этой тишине он стал неслышно куда-то падать… Части 113-й стрелковой дивизии вступали 19 января в Верею с юга. Части 222-й и 110-й стрелковых дивизий одновременно входили в город с востока.Впервые после суровой первой военной зимы пригрело мартовское солнце, и жители деревни, все, кто уцелел, вышли в поле. Деревня была разрушена и спалена, люди жили в землянках и траншеях, и лишь в единственном уцелевшем сарае старый учитель Леонид Сергеевич сразу же после освобождения открыл школу с одним классом для всех ребят и с единственным предметом, который он знал и очень любил: русским языком и литературой. Озимые в прошлом году посеять не успели, и сейчас, выйдя на поле, заваленное уже поржавевшими немецкими орудиями, люди гадали, что прежде всего делать, с чего начинать. Леонид Сергеевич вместе со всеми ходил по полю, пока не набрел на большой подтаявший сугроб. Рядом с сугробом, на покрытой прошлогодней темно-зеленой, неживой травой полянке размером с ладонь пробился бело-синий цветок с двумя свежими крошечными изумрудными листочками. Но не цветок подснежника занимал сейчас старого учителя. — Товарищи, скорее сюда, — крикнул он, а сам опустился на колени и стал руками разгребать сугроб. Под снегом лежал совсем молодой красноармеец с красивым и нежным, как у девушки, лицом. Русые, слипшиеся волосы вмерзли в снег, а открытые карие глаза, оттененные темными пушистыми ресницами, с удивлением, казалось, смотрели в весеннее мартовское солнце. — Помогите же, товарищи, — попросил Леонид Сергеевич, и люди бросились помогать ему. Они аккуратно приподняли тело солдата, кто-то пригладил его волосы, кто-то надел на его голову отлетевшую в сторону шапку, кто-то положил рядом винтовку с поржавевшим штыком. Старый учитель вынул из-под полы солдатской шинели документы — красноармейскую книжку и комсомольский билет, потом достал очки, вслух прочитал: — Куликов Вячеслав Николаевич. Год рождения 1924. Место рождения Гирхожан, Каб. Балк. АССР. — Молодой совсем, — охнул кто-то. Принесли лопату, дощечку, из школы чернильницу с ручкой. — Пока будем копать могилу, ты, Саша, напиши на дощечке покрасивее, — попросил учитель одного из своих учеников. — У тебя хороший почерк. Красноармейца положили в глубокую могилу, засыпали землей, сделали, как подобает, холмик. Саша подал учителю дощечку. Леонид Сергеевич посмотрел и увидел на ней, кроме фамилии, имени и даты рождения, еще одно слово, выведенное Сашей: «подснежник». — Это хорошо ты сделал, — сказал старый учитель. — Я бывал на Северном Кавказе и знаю, какие там растут чудесные цветы и люди любят их. Может, и этот солдат любил. И он осторожно сорвал цветок пролески, похожий на подснежник, и положил его на свежую могилу.
ДВАДЦАТЬ ВТОРОЕ ИЮНЯ
После встречи с американцами в Торгау, казалось, войне пришел конец. Мы уже мечтали о том, как вернемся домой, как… Но неожиданно последовал приказ — на Берлин. Там еще шли бои, последние. Берлин горел. Особенно мрачен и страшен он был по ночам — он тогда превращался в огромное, ухающее, полыхающее чудовище, нелепо и неуклюже распластавшееся по земле своим тяжелым, больным брюхом. Но по утрам, когда над городом осторожно, словно в разведку, поднималось солнце и его лучи мягко и нежно ласкали молодую зелень, это чудовище исчезало. И в коротких промежутках между постоянными боями мы со странным — смешанным из удивления, стылой горечи и какой-то хмельной радости — чувством рассматривали улицы, дома, камни мостовых — неужели это и есть тот самый Берлин? Двадцать пятого апреля мы переправились через Тельтов-канал. И тут неожиданно наступила передышка. В небольшом, уютном скверике похоронили четырех погибших. У меня была лупа. Я выжег на фанерке имена павших:к-ц Скворцов И. Г. рожд. 1921 г.
к-ц Ковалев В. С. рожд. 1920 г.
к-ц Табеев Ф. И. рожд. 1926 г.
к-ц Гобидзе И. И. рожд. 1924 г.
Потом пообедали. После обеда привезли почту. Я — к огромной радости — получил сразу три письма от мамы из Москвы.
«За нашу Советскую Родину! — начал читать я. — Памятка на марш. Гражданам и гражданкам СССР, отправляющимся на Родину. Вам предстоит длительный и трудный переход. Чтобы он прошел организованно, выполняйте следующие требования: 1. Перед отправкой в путь подгоните обувь по ноге, чтобы она не была тесной или слишком свободной. Обязательно надевайте чистые чулки, носки или портянки, следите, чтобы на них не было швов и складок, иначе будут потертости… 2. Обязательно возьмите с собой имеющиеся предметы туалета, а также все необходимое для варки пищи в пути. В то же время не перегружайте себя лишними вещами… 3. В пути соблюдайте питьевой режим. Не пейте сырой воды из колодцев, озер, рек без разрешения сопровождающих вас медицинских работников. Не ешьте фруктов, не обмытых водой. Обеспечьте себя флягой или бутылкой с кипяченой водой и употребляйте ее небольшими глотками… 4. На малых привалах снимайте с плеч вещевой мешок и отдыхайте лежа, чтобы ноги заняли положение выше туловища… 5. В движении и на отдыхе строжайше соблюдайте дисциплину и организованность… 6. Двигайтесь только по дорогам, придерживаясь правой стороны. Не отставайте от своей колонны, не садитесь самовольно на попутные автомашины… 7. Вы будете проходить через территорию дружественной вам Польши… Помните, что своим поведением в пути вы еще раз показываете высокое достоинство и честь граждан Советского Союза, представителей великого народа-победителя! Политпросветотдел Управления по репатриации».
Бухгалтер Елена Дмитриевна Баркова, недавно вернувшаяся с работы, вот уже несколько минут безуспешно пыталась разжечь примус — почему-то сегодня все валилось из рук. Кто-то несильно постучал в дверь. Елена Дмитриевна открыла. Почтальон протянул ей письмо. Не треугольник, какие она прежде получала от сына с фронта, а нормальное письмо в конверте. Она развернула конверт: «СССР Московский городской военкомат Часть — I 14 июня 1945 г. № 1317
Извещение Согласно присланного извещения войсковой части полевая почта 294076 от 29 апреля 1945 г. № 24. Ваш сын Барков Александр Степанович в бою за Социалистическую Родину, верный воинской присяге, проявив геройское мужество, был смертельно ранен в Берлине и умер 26 апреля в 6 час. 15 мин. Похоронен в Тиргартене (Берлин). Настоящее извещение является документом для возбуждения ходатайства о пенсии. Московский горвоенком… Начальник I части…»
Перечитав бумагу еще и еще, Елена Дмитриевна непонимающе посмотрела по сторонам, потом медленно и безучастно подошла к маленькому отрывному календарю, висевшему над ее кроватью. Провела по нему рукой — сегодня было двадцать второе июня сорок пятого года.
В тот же день в Брянске учительница Петранка Георгиевна Евтимова тоже получила извещение:
«Согласно присланного извещения войсковой части… ваш сын Евтимов Николай Михайлович в бою за Социалистическую Родину, верный воинской присяге, проявив геройское мужество, погиб в Берлине 25 апреля 1945 г….»
И в Рыбинск пришло извещение. Оно было адресовано швее Валентине Ивановне Коньковой:
«…Ваш сын мл. лейтенант Коньков Вадим Петрович в бою за Социалистическую Родину…»
«Я ВЕРЮ В ЖИЗНИ НАПРЯЖЕНЬЕ»
Сергею Баруздину было четырнадцать лет, когда фашистская Германия напала на Советский Союз. В этом возрасте мальчишек не берут на фронт. Но участвовать в битве за Родину можно не обязательно на передовой. Окончив семь классов, подросток оставил на время школу — экзамены на аттестат зрелости он сдаст экстерном лишь в 1953 году — и пошел подсобным рабочим в одну из московских типографий. А отработав смену, рыл траншеи на Чистопрудном бульваре, ночами дежурил на московских крышах, обезвреживая вражеские зажигалки. Семнадцати лет рядовым артиллерийской разведки Баруздин ушел в Красную Армию. К полученной им ранее медали «За оборону Москвы» вскоре добавились «За взятие Берлина» и «За освобождение Праги», другие боевые награды. На фронте его приняли в партию. В восемнадцать лет он вернулся домой бывалым, обстрелянным солдатом. Много лет спустя он напишет в «Автобиографии»: «Если говорить о войне, то, конечно, она сформировала меня как человека и как литератора. И она остается и всегда останется моей главной темой и в книжках для самых маленьких, и для взрослых — вчерашних мальчишек и девчонок…» О том же читаем в его стихах: «Воспоминанья о войне. Нет, это вовсе не по мне. Я этим временем живу, Живу во сне и наяву»; «Пока я жив, пока дышу, Я ту войну в душе ношу…»; «Война была и будет с нами, И нет той памяти сильней». Пережитому на войне посвящено самое крупное произведение Баруздина-прозаика — роман «Повторение пройденного». О войне повести и рассказы «Верить и помнить», «Ее зовут Елкой», «Речка Воря», «Тася», «Тоня из Семеновки», «Пожарная дружина», «Дуб стоеросовый», «Елизавета Павловна», «Последняя пуля» и другие. О войне и одна из поздних вещей писателя — повесть «Само собой…» Читая ее, невольно думаешь, как прозорлив был К. Симонов, в свое время сказавший, что «Баруздин как личность, как человек, избравший впоследствии для себя тот вид служения обществу, который называется писательским трудом, начинался в войну, и почти все, а может быть даже и дальнейшее в его писательском пути, определялось этой точкой отсчета, уходило своими корнями туда, в кровь и пот войны, в ее дороги, лишения, утраты, поражения и победы». Герой повести художник Алексей Горсков почти на десятилетие старше Баруздина. Ровесник и «земляк» Октября (он родился в 1917 году в Петрограде), Горсков прошел всю войну — от первого ее часа. Но образ этот, несомненно, автобиографичен в том смысле, что и судьба Горскова-художника, подобно писательской судьбе автора повести, «уходит своими корнями… в кровь и пот войны, в ее дороги, лишения, утраты, поражения и победы». Чем был Горсков до армии? Способным рисовальщиком, успевающим студентом Академии художеств, удачливым дебютантом (его картину «Каторжный труд лесорубов в царской России» купил какой-то клуб, он легко получал заказы на рекламу, плакаты, лозунги). Но все это было тем, что делалось как бы «само собой» — независимо от внутреннего бытия, от исканий, душевных устремлений юного живописца. По счастью, Горсков уже в свои 23 года понял, что путь, складывающийся у человека «сам собой», ведет в тупик. Уметь писать картины — еще далеко не все. Больше того, не самое главное. В конце концов, не обязательно быть художником. А вот для того, чтобы стать художником, надо непременно приблизиться к пониманию человека и создающей его эпохи. Надо приблизиться душой к существу жизни. И Алексей идет служить в Красную Армию. Сороковой год. Только что смолкли выстрелы на Карельском перешейке, где в декабре 1939 года погиб отец Алексея Горскова, пожилой хозяйственник. Алексей запомнил дату его гибели потому, что газеты и радио в эти дни торжественно отмечали 60-летие И. В. Сталина. Младший Горсков горячо, со всем максимализмом юношеской убежденности оспаривает мнение своей матери, бухгалтера, о финской войне: «Мамочка! Война не бессмысленна. А если будет другая, сложнее?.. От Ленинграда мы отодвинули границы? Отодвинули. Западная Украина и Западная Белоруссия, Латвия, Литва, Эстония…» Судьба забросит его на службу в Западную Украину, в Закарпатье, — будто специально затем, чтобы рассудить его спор с матерью. Алексей служит рядовым в артиллерийском полку горнострелковой дивизии, дислоцированной в идиллически тихих, утопающих в зелени городках и селах, освобожденных Красной Армией в 1939 году. Здесь, у границы, предгрозовая атмосфера весны 41-го года ощущается особенно явственно. Вопрос: «А как война, будет?» — буквально висит в воздухе. Его задают красноармейцы младшим командирам, младшие командиры — старшим. И к удивлению Гор-скова, не всех спрашивающих успокаивает бодрая ссылка на мирный договор с Германией и на авторитет наркома иностранных дел, которому, дескать, видно то, что обычному труженику, воспринимающему Гитлера и его фашистскую свору только как заклятых и смертельных врагов, постичь не дано. Но фашисты — это фашисты. Еще со времени «суда» над Георгием Димитровым каждому было ясно: ради достижения своих расистско-империалистических целей, которых они, кстати, и не скрывали, они не остановятся ни перед чем. Показательно, что в полку, где служит Горсков, нападение немцев ни для кого не было неожиданным. Внутренне все были готовы к этому, встретили врага без удивления, растерянности и паники. Удивление началось потом. Когда выдали всего по пятнадцати патронов на бойца: больше не оказалось. Когда армады немецких штурмовиков и бомбардировщиков беспрепятственно летели на восток через наши позиции и не было ни зенитных батарей, ни самолетов, которые повернули бы их вспять. Когда, будто по команде, в закарпатских селах исчезли в одночасье красные флаги с домов, где размещались органы советской власти, и на их месте заколыхались белые простыни капитуляции, а кое-где и нацистские полотнища со свастикой. Когда в тех же селах отступающие красные бойцы видели свежеспаленные хаты и трупы расстрелянных активистов, еще совсем недавно радостно приветствовавших своих освободителей… Не в бою с захватчиками — от предательски посланной в спину пули местного националиста — погибает один из ближайших товарищей Горскова инженер-гидравлик Проля Кривицкий. Мобилизованного в Красную Армию юного Ивася убьет его родной брат Грицько. «Отодвинутые» к Западу границы в условиях войны стали западней для наших войск. Словно по вражьей территории, неся непредвиденный урон от бандитских вылазок буржуазно-националистического отребья, отходят остатки обескровленной в боях с наступающими немцами горнострелковой дивизии, пока не придут на прежнюю советскую землю. «Теперь они поняли, что такое новая и старая граница, — комментирует автор тогдашнее состояние Горскова и его товарищей. — Там люди — Ивась и активисты. Но там и брат Ивася — Грицько… Хорошо, что они вышли оттуда, хотя и потеряли многих!» Не убережет «отодвинутая» дорогой ценой граница и родной Горскову Ленинград от блокады, в которой у Алексея погибнут мать и старая бабушка. Без осознания исторической реальности художник ничего не поймет в судьбах людей. А реальность сложна. К ней не применимы однозначные мерки, односторонний подход. Писатель ушел бы от исторической правды, если бы не показал того психологического воздействия, которое произвела на защитников Родины третьеиюльская речь И. В. Сталина — ее уверенный и доверительный тон, выраженное в ней понимание трагизма ситуации и необходимости исключительного по тесноте и единодушию общенародного сплочения перед лицом смертельной опасности. Писатель ушел бы от исторической правды, если бы не показал, что призыв «За Родину! За Сталина!», с которым поднимает в бой свой орудийный расчет лейтенант Дудин, воспринимался в те дни как естественное выражение патриотического чувства. По мере того, как перестраиваются в сознании бойцов и командиров наивные представления о стратегической мудрости предвоенной политики, ширится понимание, «что война долгая, трудная, какой никто и не предвидел. И воевать, даже отступая, надо с умом…» «С умом…» — вот чего так остро не хватало Алексею Горскову в торжественно-холодноватых стенах Академии художеств, где, как он сознает теперь, «учили писать, но… не учили мыслить». И, похоже, это не была сугубо академическая черта. Ведь общее настроение, какая-то неудовлетворенность сущим свели в одной добровольческой команде перед отправкой в армию в 1940 году художника Горскова с «очкариком» Пролей Кривицким, с преподавателем текстильного института Сережей Шумовым, с инженером Кировского завода Славой Холоповым, с историком Костей Петровым и двадцативосьмилетним кандидатом наук Ваней Дурнусовым… Далеко не всем им доведется дожить до Победы. И сам Горсков не раз чудом выйдет живым из огненной купели. Одно ранение будет столь тяжелым, что он пробудет в госпитале год 8 месяцев и 12 дней — чуть ли не половину войны. Из-за контузии у него пропадет и не сразу восстановится память. Вернется он в действующую армию уже на гребне нашего наступления. Сначала — в походную автохлебопекарню, затем — писарем и секретарем в военный трибунал дивизии. Он станет участником Курской битвы и Корсунь-Шевченковской операции, получит звание лейтенанта и заслужит многие боевые награды, испытает любовь и неверность, увидит геройство и трусость, великий патриотизм и жалкое, подлое предательство, дойдет с наступающими частями до венгерского города Дебрецена, где с новым тяжелым ранением, едва не стоившим ему правой руки, кончится для него эта великая и страшная война. Со снисходительной и горькой жалостью вспомнит он себя прежнего, довоенного — свой «пустой снобизм… никчемный и неумеренный нигилизм, за которым… не стояло ничего, кроме обманчивого всемогущества молодости, отсутствия настоящей образованности, а главное, знания жизни». Если в первые месяцы службы Горсков еще как бы по инерции выполнял разные оформительские работы в армейском клубе, для чего ему было вполне достаточно технического умения, а с начала войны на многие месяцы и вовсе забывает о своем мирном увлечении, то с течением времени война все более настойчиво формирует в нем художника. При форсировании Днепра наступающими советскими войсками у Горскова возникают замыслы не только боевого плаката «Пьем воду из родного Днепра, будем пить из Днестра, Прута, Немана и Буга…», но и эпического полотна «Отступление»: тот же Днепр, только солдат пьет из каски воду, прощаясь, мысленно давая клятву вернуться к этим берегам. Осмысление трагизма войны находит зримое воплощение в задуманной тогда же картине «Предатель». Любовь к медсестре Кате вдохновляет Горскова на фронтовой лирический портрет «Спящая девушка». Его и теперь не покидают сомнения — на верном ли он пути. Но разве сомнение — не спутник истинного творчества? Высоко оценивает эскиз картины «Отступление» старший товарищ Горскова художник Александр Владимирович Федотов: «Ты знаешь, Алеша… Пожалуй, только сейчас я понял, что без трагедии нет настоящего искусства. Хлебнешь ты горя с этой картиной. Но не верь никому, не сдавайся! Это — настоящее!» Горсков вспоминает свою юность накануне шестидесятилетнего юбилея. Он лауреат Сталинской (ныне — Государственной) премии, действительный член Академии художеств. Его картины — в Русском музее и Третьяковке. О нем написана монография. Счастливая судьба? Но было время (в начале 50-х годов), когда его картины держали в запасниках, а самого «ругали за пессимизм и минор многие из тех, кто прежде его превозносил». Уже в мирное время тяжело заболела его шестнадцатилетняя приемная дочь Катя, психически нездоровым оказался общий их с Верой сын Костя. К 1977 году, когда мы встречаемся с Горсковым в повести, Вера, выходившая замуж, пока он был на фронте, и вернувшаяся к Алексею после войны, уже умерла, оставив постаревшему супругу тяжкий крест: двух взрослых детей-инвалидов. Так вырисовывается авторская концепция состоявшейся судьбы, счастья, творчества — как квинтэссенция жизни в диалектике добра и зла, рождения и смерти. Для поколения Горскова война была и трагедией, и проклятьем, и суровой школой, вполне оправдавшей стародавнюю истину, что величина обретений равна, в конечном счете, мере утрат. Сколь ни благодарен Горсков своим учителям по Академии художеств, Московскому художественному училищу имени 1905 года, студии военных художников имени Грекова, где он доучивался после войны, — «война дала ему несравненно больше. Видимо, без потрясений, без трагедий, — заключает автор, — нет настоящего искусства». Но ведь — и Баруздин это неизменно подчеркивает — без потрясений, без трагедий нет и настоящей жизни. Разве кто-либо из живущих избавлен от неизбежной потери близких, от болезней и смерти, напрочь гарантирован от стихийных бедствий, несчастных случаев, семейного несогласия, неразделенной любви, от разочарований и крушения надежд, вызванных то ли неблагоприятным стечением обстоятельств, то ли собственными ошибками, духовными или физическими недостатками? Война лишь небывало концентрирует драму бытия во времени и пространстве, обрушивая враз на одно поколение столько лишений, сколько в обычных условиях достало бы на десятилетия или даже столетия. Вот почему война в книгах С. Баруздина не только конкретное социально-историческое явление, изображаемое во всей его неповторимой и жестокой реальности. Не случайно в подавляющем большинстве произведений писателя, как и в повести «Само собой…», военное прошлое героя видится уже из наших дней, сопоставляется с действительностью 70-х или даже 80-х годов, в которой застает героя читатель. Это не просто сопоставление прошлого с настоящим. Настоящее поверяется великой мерой всенародного подвига — предельным рубежом, до которого когда-либо доходило испытание человека на крепость его физических и душевных сил. С этой точки зрения, война в «контексте» интересующих писателя судеб еще и синоним всеобщей житейской драмы, тех (подчас чрезмерно суровых) испытаний, какие вообще выпадают на долю человека и в каких он или сникает, самоустраняется, вверяя себя якобы неотвратимому року, либо сопротивляется до конца. В войне у С. Баруздина как бы слита воедино концентрация мирового зла и страдания с гуманистической энергией личности, направленной на их преодоление. Среди «Индийских стихов» Баруздина есть примечательное для его отношения к этой проблеме стихотворение «Комлешь». Ком-лешь — имя тридцатилетней индийской женщины. Она учительница. Но родившаяся после войны и получившая солидное образование Комлешь, оказывается, ничего не знает о Великой Отечественной войне советского народа, о той роли, которую сыграл Советский Союз в разгроме гитлеровского фашизма. Поэт не просто удивлен и обижен. Он не может признать эту юную женщину своей современницей. Больше того — он отказывает ей в реальности ее бытия: «О чем с тобой нам говорить? Ты — сон, ты — плод ошибки». Человек, не имеющий понятия о минувшей войне, по абсолютному убеждению поэта, не имеет права считаться живущим; его существование иллюзорно, он пребывает как бы в ином измерении, вне той действительности, весь облик которой предопределен победой, ковавшейся на бескрайних просторах России в 1941–1945 годах. Пишущий «войной» Алексей Горсков размышляет на четвертом десятке мирных лет: «Что главное в военной теме? Может быть… милосердие в самом широком смысле…» Чем вызван подобный ход мысли? Думаю, желанием постичь глубинную основу нашей правоты и победы. На нас напали, и мы защищались. Защищали свой дом, семью, Родину — поэтому наша война была справедливой. С самого начала мы не жалели жизни для победы, были храбры, самоотверженны, мужественны, а потом и опытны, умелы в ратном деле, с каждым месяцем войны все лучше и лучше вооружены. И это помогло добиться победы. Всё так. Но ведь и буржуазное государство, ставшее жертвой агрессии, могло бы победить другую капиталистическую страну: превосходством патриотических чувств, мужества, военного опыта, оружия. За нами же было нечто большее: превосходство коммунистической идеологии и морали, советского образа жизни. Впервые в истории выстраданные в тысячелетнем опыте труда и борьбы нравственные принципы из идеала, благопожелания личного достояния немногих, исключительных по своим достоинствам людей, стали кодексом жизни целого общества, государственной политикой, вошли в плоть и кровь миллионов. Война с ее непреложным законом непримиримости и беспощадности к врагу (вспомним хотя бы литые, словно из бронебойного металла, симоновские строки: «Сколько раз увидишь его, столько раз его и убей») с особой силой выявила органичность, а потому и неистребимость в советском человеке высших гуманистических качеств: милосердия, благородства, великодушия, жалости, — даже по отношению к врагу (не в праведном гневе битвы, разумеется, а тогда, когда враг обезоружен, повержен или слаб). В повести «Речка Воря» едущая на фронт двадцатидвухлетняя москвичка Варя встречает группу пленных немцев. Март 1942 года. Кровопролитные бои идут за освобождение каждой деревни, каждого малого клочка родной земли в недалекой от Москвы Калужской области. И вот какие чувства вызывает в девушке вид плененного врага: «Было что-то жалкое и несчастное в этих, в общем-то, немолодых, обросших щетиной людях, и даже какое-то чувство жалости к ним: мол, нам каково, а им, не привыкшим к нашей зиме, так легко одетым?» Один немец, проходя мимо грузовичка с девушками-новобранцами, крикнул: «Рот Фронт, геноссе! Тельман! Геноссе, Рот Фронт!» Кто-то из девчат выразил сомнение в искренности пленного. «А Варе, — замечает автор, — хотелось верить». И это, несомненно, советская нравственная черта: вера в человека, готовность разглядеть лучшее и доброе в нем, надежда, что подлинно человечное может восторжествовать, как бы глубоко оно ни было загнано, обескровлено бесчеловечными обстоятельствами. Казалось бы, что тут идеологического, гражданского: увидеть, что «расцвел цветок на бруствере окопа, И тут на фронте буйствует весна»; услышать:Игорь МОТЯШОВ.
В 1986 году издается 15 книг библиотеки
«ДРУЖБЫ НАРОДОВ»
Ч. Айтматов. И дольше века длится день… Роман. Повести. М. Алексеев. Карюха. Драчуны. Дилогия. С. Баруздин. Два измерения… Повести. Рассказы. А. Борщаговский. Три тополя. Повести. Рассказы. A. Битов. Книга путешествий. B. Быков. Знак беды. Роман. Повести. В. Еременко. Дожить до утра. Повести. Рассказы. B. Кочетов. Журбины. Роман. Рассказы. Б. Окуджава. Путешествие дилетантов. Роман. Р. Сейсенбаев. Дни декабря. Повести. Рассказы. Перевод с казахского. М. Слуцкие. Поездка в горы и обратно. Роман. Перевод с литовского. А. Сулакаури. Белый конь. Повести. Рассказы. Перевод с грузинского. З. Тулуб. В степи бескрайней за Уралом. Роман. Перевод с украинского. Б. Укачин. Горные духи. Повести. Рассказы. Перевод с алтайского. C. Ханзадян. Повести и рассказы. Перевод с армянского.
INFO
Сергей Алексеевич БАРУЗДИН ДВА ИЗМЕРЕНИЯ…
Приложение к журналу «Дружба народов»
Оформление «Библиотеки» Г. Метченко
Редактор Е. Бережная Художественный редактор И. Суслов Технический редактор Н. Карнаушкина Корректор Г. Страхова
ИБ № 1020
Сдано в набор 21.01.86. Подписано в печать 29.04.86. А 09188. Формат 84X108732. Бумага тип. № 1. Гарнитура «Литературная». Печать высокая. Печ. л. 19. Усл. печ. л. 31,92. Усл. кр. отт. 32, 1. Уч. изд. л, 33,03. Тираж 270 000 экз. Заказ 1526,
Цена 2 руб. 40 коп.
Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР», 103798. Москва, К-6, Пушкинская пл., 5.
Отпечатано с готовых матриц ордена Ленина типографии «Красный пролетарий». 103473, Москва, И-473, Краснопролетарская, 16, в типографии издательства «Звезда», 614600, Пермь, ГСП-131, ул Дружбы, 34, Зак. 5352,
Баруздин С. А. Б26 Два измерения… Повести и рассказы. — М.: Известия, 1986. — 608 с., ил.
Б 4702010200-051/074(02) —86*61–86 подписное
ББК84Р7
…………………..
Scan Kreyder — 31.07.2019 — STERLITAMAK FB2 — mefysto, 2023
Последние комментарии
8 часов 27 минут назад
13 часов 31 минут назад
21 часов 20 минут назад
23 часов 50 минут назад
23 часов 58 минут назад
2 дней 11 часов назад