Покров над Троицей [Сергей Александрович Васильев seva_riga] (fb2) читать онлайн
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]
Сергей Васильев Покров над Троицей Часть Первая С нами Бог!
«Во время осады Константинополя его жителям явилась Богоматерь и стала молиться за спасение. Потом сняла с головы омофор и распростёрла над городом. Вскоре осада была снята. С тех пор мы верим, что Покров Богородицы защищает всех православных».1608 год выдался високосным. Европейский котёл бурлил и переливался через край колониальными потоками искателей лучшей жизни. Французский лейтенант Шамплен высадился на каменистых берегах залива Святого Лаврентия и основал город Квебек. Одновременно с приобретением Францией новых заокеанских территорий, отцы знаменитых впоследствии мушкетеров де Тревиля и д’Артаньяна купили замки Труавиль и Кастельмор. В Париже в это время распространялись активные слухи о предстоящей войне, в которой Генрих IV намеревался принять участие на стороне протестантских князей Священной Римской империи против австрийских и испанских Габсбургов. Узнав про перспективы встать под ружьё, дворянство, обуянное пацифизмом, шустро разбегалось по провинциям. Перед глазами стоял пример Англии, ведущей две неудачные войны с Испанией и Ирландией. Положение англичан в Старом Свете было таким же отчаянным, как и дела английских колонистов на территории будущих США в Джеймстауне. Едва сойдя на американский берег, они занялись тем, что у них получалось лучше всех — грабежом местного населения, положив начало долгому и кровопролитному конфликту с туземцами. Несмотря на покровительство и посредничество Покахонтас, известной моим современникам по одноименному мультфильму, индейцы загнали англичан в болото, осадили и со злорадством наблюдали их жуткие лишения с поеданием крыс, ремней, сапог и друг друга. Не обращая внимания на горькие катаклизмы в военной сфере, своей обособленной, размеренной жизнью жил чопорный Лондон. В 1608 году там царствовал Уильям Шекспир. Только что увидел свет «Коро́ль Лир», а труппа Шекспира приобрела закрытый театр «Блэкфрайерс». Остальная Европа Шекспиром интересовалась мало. Континенту было не до театральных трагедий — Старый Свет переживал их не на сцене, а в жизни. Вовсю полыхала революция в Нидерландах. На Балтике по-взрослому рубились Речь Посполитая и Швеция. В 1608 году гетман Ходкевич взял крепость Динамюнде, прикрывающую Ригу. До его похода на Москву оставалось 3 года. В Ансбахе протестанты провозгласили евангелическую унию. Возглавил её курфюрст Пфальца Фридрих IV — ярый фанатик-кальвинист. Учение Жана Кальвина о «всеобщем предопределении», согласно которому Бог предначертал одним вечное проклятие и скорбь, другим, избранным, — вечное спасение и блаженство, как нельзя лучше пришлось ко двору европейским феодалам, ломающим голову над тем, какую бы свежую идею присвоить для оправдания насилия и грабежа ближнего своего. Кальвинизм прекрасно обосновал эту возможность, заложив основу для будущей 30-летней религиозной войны и последующей 400-летней уверенности европейцев в собственной богоизбранности. Несмотря на противоречия, рвущие континент на кровавые ошмётки, Европа совместно собирала силы для завоеваний на Востоке. Османская империя на юге и Московия на севере Евразии манили европейских «цивилизованных» любителей «честного грабежа» не меньше полусказочной Индии. В этом «благородном и богоугодном деле» непримиримые враги — гугеноты и католики — были едины, как троцкисты и сталинисты в октябре 1917-го. Каждый вносил свой посильный вклад в покорение Руси, принимая деятельное участие как на поле боя, так и за письменным столом. В 1602 году Европа начала согласованную информационную кампанию против Московского царства, заложив основу русской смуты. Книга, провозглашающая царствующего Бориса Годунова незаконным узурпатором, а всю его власть — ничтожной, заботливо написанная в Ватикане, издавалась небывалыми для того времени тысячными тиражами и молниеносно распространилась по континенту. Одновременно с началом рекламной кампании на территории Литвы самонарисовался Дмитрий, самопровозгласившись как единственный законный престолонаследник, «сын» Ивана Грозного. Настоящая биография лжецаря-проходимца заслуживает отдельной солидной книги. С этого момента русская Смута, превратившись из теории в практику, пышно расцвела и тучно заколосилась. Лютеране радостно поддержали инициативу заклятых врагов-католиков. В 1607 году в Париже, в книжной лавке известного издателя-гугенота Матье Гийемо, появилась небольшая брошюра с длинным и претенциозным названием:
«Состояние Российской империи и великого княжества Московии с описанием того, что произошло там наиболее памятного и трагического при правлении четырех императоров, а именно, с 1590 года по сентябрь 1606».Её автор, капитан Мapжeрет, несколько лет проживший в России, очевидец и участник московских событий, моментально стал звездой средневековой блогосферы. Его читали при дворе и в научных кругах. Маржерет был принят известным гуманистом и историком де Ту, главным хранителем королевской библиотеки. Совершенно безвестный офицер в мгновение ока обрёл бесподобную популярность. Это был полный и оглушительный личный успех, если отринуть мысль, что авторами литературного творения были совсем другие люди, а капитан просто оказался в нужном месте в нужное время, как биографически подходящий «зиц-председатель Фунт». Наконец, в 1608 году в Кёльне появилось изделие Герардуса Гревенбрюка:
«Gerardum Grevenbruc. Tragoedia Moscovitica siue de vita de morte Demetrii. qvi nvper apvd Rvthenos imperivm tenuit, narratio, ex fide dignis scriptis et litteris excerpta (Московская трагедия, или Жизнь и смерть Димитрия. Повествование, извлеченное из заслуживающих доверия сочинений и писем)».Получился соответствующий всем канонам литературного жанра того времени драматический эпос со множеством ссылок на «достоверные источники», завершенный по форме, превратившийся в продукт, готовый для употребления в геополитических интригах. Не отставали от застрельщиков пишущие всякие гадости о России англичане Дж. Горсей, Дж. Уилкинсон и Г. Бреретон, итальянец А. Поссевино, голландец И. Масса, немцы К. Буссов, Г. Паерле и М. Шаум, швед П. Петрей. По конфессиям — кого только не встретишь, а по содержанию — поразительное единомыслие! Десяти полновесных агиток в лучших традициях информационных войн за шесть лет достаточно, чтобы узреть слаженную общеевропейскую пропагандистскую кампанию с целью подготовки к завоевательным походам и подавлению у туземцев воли к сопротивлению. Параллельно под видом своих коллегиумов иезуиты в форсированном темпе создавали разведывательные и диверсионные центры в Несвиже, Орше, Новогрудке, Гродно, Витебске, Пинске, Минске, Слуцке, Юровичах, Могилеве, Мстиславле и других русских городах. Лихо действуя кнутом и пряником, обращали в католицизм и превращали в своих агентов Льва Сапегу, Ивана Чарторыйского, сыновей Радзивилла Черного. Сигизмунд III, чтобы убедить шляхту в легкости предстоящей войны, прибег к услугам Павла Пальчовского (Paweł Palczowski), своего придворного «специалиста по России», написавшего сочинение с призывом завоевания Московии. Пальчовский сравнивал шляхтичей с конкистадорами, а Россию — с империями Мексики и Перу. «Несколько сот испанцев победили несколько сот тысяч индейцев. Московиты, может быть, лучше вооружены, но вряд ли храбрее индейцев», — писал неистовый шляхтич, призывая соотечественников покорять Московию огнем и мечом, не стесняя себя в средствах и не мучаясь вопросами нравственности и морали. В конце 1604 года на территорию России с небольшим отрядом наёмников вступил успешно принявший католичество Лжедмитрий I. Началась самая кровопролитная и трагическая часть русской Смуты. Нацелившись на колонизацию Руси, Европа уделяла пристальное внимание не только дискредитации действующей власти, но и легитимизации своих представителей на русском троне. Назвав Лжедмитрия ни много ни мало императором, патриарх грек Игнатий венчал его в Успенском соборе «венцом, диадемою западноевропейской короны Габсбургов, присланною „от кесаря, великого царя Алемании“». Воюющие в Европе католики и протестанты, оказавшись в России, бились в одном строю против «русских варваров». Те, кто полагал, что московитов нужно душить как можно больше, и считающие, что их нужно душить только слегка, едины были в одном — московитов нужно душить! Разведку иезуитов и католические польские хоругви успешно дополняла на поле боя лютеранская пехота. Первой сотней копейщиков Лжедмитрия командовал уже упомянутый француз-гугенот Яков (Жак) Маржерет. Вторую сотню алебардщиков возглавил лютеранин из Курляндии Матвей Кнутсон, третью — англиканский адепт Альберт Вандтман. Информационная кампания удалась на славу. Туземная элита дрогнула и поплыла, променяв собственное первородство на европейскую чечевичную похлебку. Эффект от обработки боярских мозгов оказался стойким и долгоиграющим. Обжегшись на Лжедмитрии Первом, московские элитарии плакали, кололись, но продолжили упорно карабкаться с голым задом на ту же колючую ёлку. Большая часть царской элиты, пригретая Рюриковичами-Годуновыми-Шуйскими, откормленная, одаренная местами и чинами, обалдевшая от чувства собственной значимости, по первому свистку «отъехала» в Тушинский лагерь ко второму самозванцу. Первыми к «цивилизованным европейцам» перебежали стольник последнего царя князь Алексей Юрьевич Сицкий и обласканный Годуновым Дмитрий Мамстрюкович Черкасский, за ними последовали боярин и воевода Ивана Грозного — Дмитрий Тимофеевич и Юрий Никитич Трубецкие. Бежали в Тушино и Рюриковичи — двое князей Засекиных. Компанию им составил князь Василий Рубец-Мосальский — уникальный человек, предавший всех, кому присягал. За неполные пять лет — восемь присяг и столько же предательств. Однако ж он при этом умудрился умереть не на плахе, а в собственной постели, получив от современников титул «окаянный». Поразительная ловкость сравнима лишь с потрясающими способностями Романовых, присягнувших во время Смуты всем претендентам на русский престол — и двум Лжедмитриям, и Василию Шуйскому, и даже польскому королевичу. Эти люди не имели права отговариваться словами «нас обманули, глаза отвели!», потому что именно они знали Отрепьева как облупленного, как как свою карьеру молодой Юрий Отрепьев, «Юшка», начинал как раз у них, у бояр Романовых. Среди сбежавших только Михаил Глебович Салтыков после разгрома Лжедмитрия эмигрировал на Запад. Остальные вполне прилично устроились при новой, романовской власти. Непотопляемые, пронзающие века, неистребимые «испуганные патриоты»… В результате «гибкой» семейной политики в 1613 году состоится торжественное воцарение дома Романовых. Но это будет через пять лет. А 22 сентября 1608 года польско-литовские интервенты во главе с усвятским старостой Яном Петром Сапегой стремительным маршем двинулись к Троице-Сергиеву монастырю, невзирая на поджидающее их у села Рахманцево царское войско под командованием брата царя Дмитрия Шуйского.
Глава 1 Полет шмеля

Теплым сентябрьским вечером мохнатый шмель деловито облетел несколько цветков, по известным ему одному приметам выбрал подходящий, погудел над ним и, приземлившись на край лепестка, заполз вглубь, шумя всё тише и тише… С середины лета молодые шмели живут отдельно, не возвращаясь в свою семью. Они ждут юных шмелих, чтобы после встречи с этими прекрасными воздушными дамами покинуть шумный и весёлый мир, оставив потомство. Для них встреча со шмелихой — главное и последнее событие в жизни. Так задумано природой, что шмели после выведения потомства погибают, если сказать правильнее, освобождают место под Солнцем следующему молодому поколению. Они готовятся к свиданию ответственно, тщательно, выглядят нарядно и франтовато — на голове черный беретик, ярко-желтый воротничок, посередине брюшка золотистый поясок над пушистыми оранжевыми кюлотами с чёрной выточкой и ослепительно белой оторочкой. Ранним утром, когда Солнце только взошло и заиграло лучиками в росе, шмеля разбудил конский топот. Сотни откормленных, ухоженных четвероногих неслись по лугу сплошной, хрипящей, тяжело дышащей массой, расплываясь разноцветным гнедым, вороным, каурым, игреневым облаком по желто-зеленым волнам ковыля. Вокруг разносилось ржание, крики всадников и лязг оружия. Почва содрогалась, как от землетрясения, затягивая дымкой влажный от росы горизонт. Шмель торопливо выполз из бутона, расправил крылья, загудел, недовольный вторжением в свою приватность, взмыл в небо, пропуская под собой возмутителей утреннего спокойствия. Поток воздуха от сотен разгоряченных скачкой коней и наездников подхватил насекомое, закрутил, потащил за собой, приглашая участвовать в путешествии. Поднявшись ещё выше над земной суетой, шмель обогнал облака пыли, поднятые многочисленными копытами, и оказался в другом мире, где никто никуда не спешил. Люди в багрецовых[1] кафтанах с золотыми разговорами на груди застыли, словно деревья, и только глубокое дыхание выдавало их тщательно скрываемое волнение. — Ждать! — зычно, низким грудным голосом прогудел самый старший из них в шапке с собольей оторочкой и добавил тише, по-отечески, — спокойно, чадь[2]. Успеется. Успокоенный шмель изловчился и приземлился на чёрный, невообразимо горячий, идеальный металлический стержень с чёрным дуплом на конце, развёрнутым в сторону скачущего во весь опор войска. Железо покоилось на деревянном ложе, и к нему крепко прижался щекой совсем молоденький, безбородый стрелец. — Подыми правую руку и приведи её дугой к левому плечу, — шептал он на память наставление по огненному бою, отдавая себе команды и сразу же выполняя их, боясь перепутать последовательность, ошибиться, подвести товарищей и выглядеть в их глазах неумехой. — Ступи левой ногой неспешно… А как левую руку с подсошком наперёд от себя протянешь, ты ея вверх подвигай, чтобы подсошек вилками посреди первого сустава переднего перста пришёл… И держи мушкет левою рукой крепко… А как то учинил — понеси правую руку дугой к левой руке и возьми один конец горящего фитиля… И розодми фитиль, а как то учинено будет — открой полку двумя перстами… И нагни левое колено, а правою ногой стой прямо…[3] Ствол пищали качнулся. Шмель, лишенный твердой опоры, недовольно загудел и взлетел. В то же мгновение старший вскинул руку и бросил её вниз, будто стряхивая невидимую влагу. — Пали! Грохот заглушил все звуки вокруг. Дым сгоревшего пороха плотной ватной пеленой заволок стрельцов. Сотни рукотворных шмелей, отчаянно визжа, устремились к кавалеристам, жаля, сбрасывая всадников, заставляя коней спотыкаться, падать на передние ноги. Конный строй дрогнул, как боец в кулачном поединке, пропустивший удар, но над кавалерией, перекрывая топот и лязг, разнеслось строгое громовое: — Ściśnijcie kolano z kolanem! — Сомкнуть ряды! Скачущие во второй шеренге тут же заняли место выбывших. — Złóżcie kopie! — Копья к бою! Стальная лавина опустила перед собой длинные трёхсаженные пики, всадники уплотнили ряды, и две роты крылатых гусар, последний резерв Сапеги, с ходу врубились в передовой полк воеводы Григория Ромодановского, проламывая строй и ставя жирную точку в битве под Рахманцево. Нарядный, благодушный шмель взвился над разверзшейся преисподней, не желая участвовать в пляске смерти на зелёном лугу перед еловым бором, за непроходимой стеной которого укрывались золотые маковки церквей Троице-Сергиевой Лавры.

Глава 2 Гроза над Троицей

Послушник Ивашка тайком сбежал со своего насеста в монастырской скриптории к слободским парубкам, когда его учитель казанный дьячок Митяй Малой отлучился по личной надобности и возвращаться обратно не спешил. Иван может и не стал бы рисковать, ибо наставник был зело охоч и лют на расправу, но звать на прогулку прибежал не кто-нибудь, а сама Дуняша, первая красавица среди посадских отроковиц, услада очей юного трудника. Заглянула в окошко, рядом с которым стоял ивашкин стол, распахнула свои синие глаза-озёра, прошелестела чуть слышно — «мы с братьями в гай по грибы собрались, если хочешь пойти купно с нами — догоняй!» — и пустилась бегом к городнице, смеясь озорно, как звон колокольчика. Не глядя по сторонам, чувствуя, как предательски горят уши и потеют ладошки под смешливыми взглядами писцов, Ваня степенно сложил в коробец свои принадлежности, поставил аккуратно на полку и мышкой проскользнул в сени, стараясь не скрипнуть половицами да дверью. Проскочив переулком на одном дыхании до Южной пузатой башни и чуть не попав под конские копыта монастырской стражи, Ивашка перемахнул через мостик у водяной мельницы и первый раз перевел дух у Терентьевской рощи, огляделся вокруг и застыл, невольно залюбовавшись осенним великолепием. С Волкушиной горы к монастырю живыми ткаными коврами стекали кошенные луга, залитые последними осенними цветами. Один перевит розовым с белой душицей, на второй набросаны кокетливые фиолетовые шарики мордовника, третий ощетинился жёлтыми стрелами коровяка. А над травами-цветами исполнял симфонию осенних красок молодой лиственный лес. Вишнёво-красные, золотисто-жёлтые и желтовато-зелёные клёны. Рябина, рдеющая гроздьями ягод. Светло-жёлтые берёзы, бледно-оливковый ясень и орешник. Дубы в пестрой одежде, как у дятла, с коричневыми и густо-нефритовыми листьями. Лишь чёрная ольха, растущая по берегам монастырских прудов, ещё осталась зеленой. Она и тёмные ели изумрудными пятнами выделяются на жёлтом фоне. Ивашка всматривался в буйство природных красок, и ему казалось, что в ушах звучат еле слышные, неуловимо мелодичные отзвуки свирели и неторопливый гусельный перебор, а сам он наполняется, пропитывается дивным сладким шелестом, вьётся по склонам гирляндами золотистых полутонов, стремясь всей своей сущностью, трепетом души включиться в ритм вечной гармонии природы. — Боженьки мои, лепо-то как! — прошептал Иван, касаясь ладонями венчика лугового колокольчика. Цветок зашевелился в пальцах, как живой. Мальчик аж присел от испуга, выпустив его из рук и уставившись на плотное головчатое соцветие, откуда появились беспокойные усы, а потом и сам хозяин — грузный мохнатый шмель, неестественно яркий в своей полосатой раскраске на увядающем цветке. Насекомое, не торопясь, выползло из фиолетового ложа, недовольно поглядело на нарушителя спокойствия и вскарабкалось на короткий красноватый стебель, медленно перебирая лапками. Только тут Ивашка заметил, что со шмелём что-то не то — он припадал, заваливался на одну сторону, а желтые и черные ворсинки на боку свалялись, выгорели и превратились в коричневое неприглядное месиво. — Эко ж тебе, брат, не свезло, — придвигаясь ближе к шмелю, прошептал заинтересованный мальчик, протянул пальцы и сразу отдёрнул, но не потому, что шмель покусился на них. На руку, на насекомое и на весь луг неожиданно упала настолько плотная и вязкая тень, что казалось, светило погасло, и на земле за два удара сердца воцарились вечерние сумерки. Огромная, тяжелая, свинцово-серая туча разом заволокла небо, вылетев из-за макушек деревьев, качнувшихся под порывом холодного ветра, как от поглаживания исполинской руки. Сразу стало неуютно и хмуро. На мгновение всё притихло, и Ивашка успел оглянуться на монастырь, увидев, как по нему бежит, торопится солнечный зайчик, а его догоняет, подминая под себя, промозглая серая мгла. Секунда мрака, и ослепительная молния кривой татарской саблей вспорола горизонт. Резко и пугающе, как выстрел, прогремел гром, обрушилась с неба стена дождя. Ливень хлестал по траве толстыми плетьми, а среди них метались, непрерывно вспыхивали ослепительно белые молнии, ощупывая землю своими тонкими, длинными пальцами. Не утихая, гремела в тучах небесная канонада. От этого пронизывающего света и гулкого грохота трепетно сжималось сердце… — Дуняша-а-а-а-а! — набрав в лёгкие воздух, заорал изо всех сил Ивашка. — А-ю-у-у-у! — отозвался тонкий голос. Мальчик тотчас увидел хрупкую фигурку, спрятавшуюся под сводом столетнего дуба в сотне шагов от него. — Дуняша! Беги ко мне! — закричал он, бросаясь к дереву. Добежал, полностью промокший, отцепил белые от напряжения пальцы девочки от засохшей ветки, заглянул в испуганные глаза, шепча что-то успокаивающее, потянул под косые струи воды и блестящие сполохи. — Дуняша, не бойся, это только на вид страшно. До мельницы — рукой подать. А под дубом нельзя стоять — убьёт! Ливень хлестал по спине, словно розгами. Промокшая Дуняша визжала от страха, пугая Ивашку больше, чем громовые раскаты, а он бежал, держа в своей руке ее узкую ладошку, и был счастлив, как может быть счастлив тот, кому выпадает удача — схватить за хвост птицу счастья и держать ее что есть мочи даже при таких пугающих обстоятельствах. Гроза оборвалась разом, как и началась, когда подросткам оставалось до крепостных стен рукой подать. Они оба отдышались, Дуняша выдернула руку из ваниной пятерни, откинула со лба мокрую прядь и рассмеялась так же весело, как у монастырского скриптория. — Боженьки, как же я напугалась, — охнула она и, посмотрев снизу вверх игриво, добавила чуть слышно, — спасибо тебе, я бы одна ни в жисть не решилась из под дуба выбежать… — А братья? — Они первыми удрали. Я с корзинками завозилась, бросать не хотела. А потом как вдарит, ажно земля из под ног ушла… Ивашка стоял, глупо улыбался, а она наклонила голову набок, разглядывая его, как в первый раз, потом потянулась, неожиданно привстав на цыпочки, чмокнула в щёку и шепнула: «А ты смелый! Поможешь мне корзинки найти, как обсохнем?» У парня перехватило дыхание, а Дуняша, дразня ямочками на щеках, ткнула острым кулачком в бок: «Ну что встал колом? Замерзнем же!» и припустила к воротам, не оглядываясь… Крепость монастырская встретила подростков тревожной, непонятной беготнёй. Все вели себя, как на пожаре, однако нигде ничего не горело, поэтому вид суетящихся, сосредоточенных людей настораживал. Прямо у ворот стоял наставник Ивашки — Митяй Малой. Сердце сжалось, но учитель, всегда строгий и безжалостный при нарушении дисциплины, ни слова не сказал послушнику, лишь слегка скользнув по нему потухшими глазами, и продолжил напряженно вглядываться вдаль — туда, где тёрся о монастырскую слободу переяславский тракт. — Отец Димитрий, — не выдержал Ивашка, решив обратить на себя внимание, — что-то случилось? — Случилось, — эхом ответил наставник, не поворачивая голову, — гонец прибыл из под Рахманцево. Царские полки разбиты. Войско Антихриста скоро будет здесь. Мальчик увидел, что за спиной у дьячка, среди столпившихся людей лежит на земле неподвижное тело в дорожном жёлтом плаще и чернёных доспехах. Скинутый шлем опростал русые волосы воина, и легкий ветер лениво их перебирал. Белый широкий пояс и вся одежда на левом боку были окрашены чем-то коричневым… — Совсем как у шмеля! — прошептал он, пораженный внешним сходством ран обоих посланников. — Что же теперь будет, отец Димитрий? — Тяжко будет, Иван, — вздохнул дьяк, последний раз бросив взгляд на дорогу. — Дом Иакова будет огнем, дом Иосифа — пламенем, а дом Исава будет соломою, которую они подожгут и уничтожат; и никто из того дома не выживет[4]… Но не бойся, Ванюшка, не надо бояться. Так как наши легкие и временные страдания — ничто по сравнению с весомой и вечной славой, которую они нам приносят. Мы смотрим не на видимое, а на невидимое, потому что видимое временно, а невидимое вечно…[5] Митяй Малой сделал несколько шагов от ворот, потом, словно вспомнив важное, повернулся к послушнику и сказал привычно строго: — Пойдём, Иван, нечего глаза горем кормить. От беды есть два лекарства — время и молчание. Хочешь, чтобы от тебя была польза — не путайся под ногами! У нас своих дел невпроворот. А на смерть ещё насмотришься…
Глава 3 Сокровенное

— И всего у города двенадцать башен, а стен 547 саженей с полусаженью. Во всех башнях по три бои: подошевной, середней, верхней, — быстро диктовал осадный воевода князь Долгоруков-Роща, неторопливо шагая вдоль монастырской стены и внимательно заглядывая в каждую нишу. — Стена монастыря невысока, двух с половиной сажен до зубцов. С восточной стороны — лес, с юга и с запада — несколько прудов. На западной стороне, супротив Погребной башни — Пивной двор, на северной — Конюшенный… Еле поспевая за князем, Ивашка торопливо царапал вощёную дощечку и тихо бубнил про отсутствие необходимости тратиться на то, что можно всегда увидеть своими глазами. — На Красной башне против Святых ворот в верхнем бое — пищаль полуторная медяная двунадцати пядей, в станку на колёсех, — продолжал между тем Долгоруков, поглаживая оружие, словно проверяя, не чудится ли оно ему. — Ядро шесть гривенок. Пушкарь у той пищали… Как зовут? — обратился он к стрельцу. — Захарко Ондреев, сын Стрельник, — вытянулся перед начальством пушкарь, пожирая князя преданными глазами. — Пороху три заряда, ядер тож. — Добро, Захарко, — кивнул Долгоруков, переходя к следующей бойнице. — Пиши! Другая пищаль — полковая медяная, полонянка, трехнадцати пядей, в станку на колёсех… У Ивашки от быстрой ходьбы, волнения и обилия информации кружилась голова. Он присел, прислонился к белёной стенке, наклонился, чтобы прикоснуться виском к холодному камню, но продолжал орудовать писалом, боясь пропустить что-то важное. — А ну, покажи! — князь навис над писцом, как вековой дуб над бузиной, опершись рукой о стену и почему-то шумно дыша, хотя минуту назад выглядел совсем бодрым. Был он широк в плечах и велик ростом. Узкие, прищуренные голубые глаза с нависшими кустистыми бровями, выдающаяся вперед челюсть, украшенная рыжеватой бородой, делали лицо Долгорукова грозным и даже свирепым. На ивашкином лбу появилась испарина, а противные мурашки, пробежав по всему телу, собрались в кучку внизу живота. Покорно отдав табличку, писец затравленно посмотрел снизу вверх и попытался встать, но плечо уперлось в княжеские наручи. — Сиди, отдыхай, успеется, — проворчал воевода, изучая записанное. — Что ж, изрядно… А теперь беги и переложи это всё на бумагу. Не суетись, ни с кем не разговаривай, никому не показывай, ничего нигде не оставляй. Закончишь — сразу ко мне. Кивнув, Ивашка опрометью бросился в скрипторию и, только добежав до дверей, обнаружил, что табличка так и осталась в руках князя. Вернуться? От одной мысли об этом онемели руки. Он не сможет признаться, глядя в ледяные глаза князя под сведенными бровями, что такой растяпа… Умрёт от стыда и страха. Паренёк присел на лавку и сосредоточился. В голове сквозь волны растерянности проступили смутные очертания таблички. Послушник глубоко вдохнул, затаил дыхание, зажмурил крепче глаза и закрыл руками уши. Содержимое проступило резче, отчетливее, можно было уже разобрать отдельные слова и цифры… — А под казёнными кельями в погребе 300 пуд свинцу, — повторил писарь на память, — да пушечных ядер — 4 ядра по 30 гривенок, 2 ядра по полупуда, 36 ядер по 14 гривенок, 13 ядер по 8 гривенок, 650 ядер по 6 гривенок… Боясь расплескать мысли в собственной голове, подросток забежал в скрипторию, выхватил с полки коробец и десть[6] бумаги ручного отлива с монастырской филигранью, торопливо разложил писчие принадлежности, радуясь, что загодя заточил достаточно перьев, и приступил к бережному переносу информации из недр памяти на серые, шершавые листы.
* * *
Ивашка никогда бы не поверил, что грозный воевода в эти минуты испытывает такие же чувства, как и он. Головокружение, сухость во рту, дрожь в руках появились при виде женской стройной фигурки в строгом монашеском облачении, стоящей на крепостной стене и неподвижно глядящей вдаль. Просторный апостольник скрывал голову, ниспадал на плечи и грудь, пряча руки с чётками. Монашеская мантия о сорока складках, символизирующих сорок дней поста Спасителя на горе Искушения, делала фигуру незримой, но Долгоруков даже в таком виде узнал внучку Малюты Скуратова и дочь Бориса Годунова — Ксению. Её присутствие уже пять лет заставляло сердце воина трепетать от восхищения, обливаться кровью из сострадания и слезами — от фатальной недоступности предмета своего обожания. За простой и кроткий нрав Годунову любили простые люди, красотой Ксении дивились иностранцы, мастерству её рукоделия могли бы позавидовать ювелиры. Ей посчастливилось сочетать красоту с умом, получить прекрасное образование и знать несколько языков. Однако дочери царя Бориса не повезло жить в эпоху Смуты — злоключения наваливались на царевну так же, как интервенты наступали на её Отечество. Ксении было 16 лет, когда её отец был помазан на царство, и всего 23, когда Лжедмитрий I, удавив мать и брата, заточил молодую царевну в доме князя Масальского, сделав своей наложницей… Проводив писца Ивашку долгим взглядом, воевода сделал несколько шагов на слабеющих ногах и встал в сажени от Годуновой, боясь подойти ближе, шумно вдыхая осенний воздух. — Ну что, пёс, — не оборачиваясь, тихо произнесла Ксения, — пришёл полюбоваться на дело рук твоего хозяина и на моё бесчестие? Её слова, словно ледяные глыбы, скатываясь с губ, с размаху били под дых, вымораживали, сбивали с мысли, заполняли всё естество воеводы обжигающим холодом. — Ты несправедлива ко мне, царевна, — прохрипел натужно Долгоруков. Он сделал ещё один шаг. В ту же секунду Годунова стремительно развернулась, и в доспехи воеводы упёрся трехгранный узкий клинок. — Мизерикорд, кинжал милосердия, — скосив глаза вниз, узнал «осиное жало» князь. Упирающееся в грудь оружие в руках Годуновой, как ни странно, успокоило его. Перестали предательски дрожать руки, прошел спазм в горле. Только шум в голове и частое уханье сердца оставались немыми свидетелями душевного смятения. Князь медленно опустился на колени. Сталь с визгом скользнула по доспехам и уперлась в незащищенное горло. По коже побежала тонкая рубиновая струйка. — Так будет проще и быстрее, — шумно сглотнув, сказал воевода. — Но знай, царевна, что я ни в чем не виноват ни перед тобой, ни перед твоей семьёй… — Ты присягнул самозванцу, моему насильнику, убийце моей матери и законного наследника — моего брата… — у Годуновой задрожали руки и губы. — Только ради того, чтобы спасти хорошего человека, — перебил князь ее взволнованную речь… — Ты был среди тех, кто насильно постриг меня и увёз в монастырь… — выкрикнула царевна, и ноздри её затрепетали. — Выбор был невелик, — смиренно возразил Долгоруков. — Тебя должны были удавить в тот же вечер. Келья всё же лучше веревки убийцы. Жизнь лучше смерти… — Лучше?!! — черные глаза Годуновой метнули молнии, — чем лучше? Тем, что теперь я умираю каждую ночь, вспоминая свой позор? — Лучше тем, — твёрдо произнёс князь, — что живым под силу что-то исправить, и ежели тебе кажется, что можно что-то изменить, убив меня, делай это, не задумываясь…
Рука царевны повисла плетью, кинжал выпал из ослабевших пальцев, шумно ударившись о настил. Годунова резко отвернулась, чтобы Долгоруков не увидел предательски хлынувшие из глаз слёзы, и неожиданно, совсем по-детски всхлипнула. Князь тяжело поднялся с колен, вплотную подошёл к молодой женщине, изо всех сил сдерживая непреодолимое желание обнять её, спрятать у себя на груди, закрыть обеими руками от окружающего злого мира, но странная немощь снова парализовала всё его тело. Воевода сконфузился от собственной непривычной робости, не в силах побороть нерешительность, и крепко сжал рукоятку меча, словно тот пытался сбежать из ножен, куда глаза глядят… — Я докажу тебе, моя ненаглядная государыня, что токмо волей твоей существую на этом свете, — произнёс Долгоруков, склонив голову, — понеже являюсь рабом твоим с того дня, как увидал на Пасху пять годков назад, и нет мне с тех пор ни сна, ни покоя. И в Москву примчался, и самозванцу присягнул, как узнал про твоё пленение, и всё токмо ради того, чтобы иметь возможность приблизиться к твоей темнице, увидеть, а паче чаяния — выкрасть тебя. Но не успел… Долгоруков, переживая события трехлетней давности, скрипнул зубами так громко, что Годунова вздрогнула и обернулась. — Марина Мнишек, воеводы Георгия Сандомирского дочь, повелела извести тебя, и не было времени на другое, — выдохнул Долгоруков, — только через монастырь, через постриг. И сюда, в Троицу прискакал тотчас же, упросив Шуйского поставить воеводой осадным, как только узнал, что смогу находиться рядом с тобой, дышать одним воздухом, иметь счастье лицезреть тебя, государыня моя… — Нет больше никакой государыни, князь, — опустив глаза долу и кусая губы, прошелестела Ксения. — Есть раба господня инокиня Ольга… — Неправда, — тихо возразил воевода, — никогда не быть тебе рабою, царевна. В Псалтире написано: «Я сказал: все вы — боги, все вы — дети Всевышнего»[7] Ты всегда будешь для меня ангелом во плоти, и я смогу доказать… — Докажи, князь, — перебила его Ксения, и слёзы ярости брызнули из глаз, — непременно докажи! Сотри позор с лица земли отцов наших — отправь обратно в преисподнюю этих распоясавшихся папистов, посланцев лукавого, возомнивших себя богами. Годунова повернулась к стрельнице и упёрлась ненавидящим взглядом в разворачивающиеся на виду монастыря польские войска гетмана Сапеги.
* * *
Ян Пётр Павел Сапега, староста Усвятский и Керепецкий, Каштеллянович Киевский подошёл к Троице-Сергиевой Лавре со своими полками со стороны Александровской слободы. Как только расступился лес, показались маковки монастырских церквей, он неторопливо слез с коня, трижды размашисто перекрестился, поклонился поясно, сотворив молитву «Отче наш». В этом ритуале не было ничего необычного и глумливого. Ян Сапега, как и большая часть его войска, приступившего к Троице, были православными. Вместе с гетманом встав на колени, истово крестились и молились уроженцы восточной части Речи Посполитой — нынешней Белоруссии, юго-восточных земель Королевства Польского — будущей Украины. У большинства «поляков» — шляхтичей и простых солдат — деды, а нередко и отцы считали себя «русскими» или «руськими», исповедуя православие. Иными словами, «поляками», разорявшими Россию, были люди Западной Руси, сменившие этнос. В глазах западной, исконно польской шляхты местная православная культура была мужицкой, а культура московитов — варварской. Стремление западно-русского дворянства стать польским объяснялось не только привилегиями и «свободами» польской шляхты, выбором по расчёту, но и желанием прислониться к европейской культуре, жить по-западному «красиво», эстетично. Не менее важным было то, что за Польшей незримо возвышался папский престол, непоколебимый и неприступный, жестоко карающий неверных и милостиво снисходительный к покорным. Совсем недавно — сорок пять лет назад — состоялся Тридентский собор, определивший тактику и стратегию католической церкви на века вперёд, превративший Ватикан в политическую организацию, утвердивший безграничную власть Папы и учредивший в качестве его карателей специальный военно-монашеский орден иезуитов. Вот и сейчас представитель этой таинственной, сумрачной организации неотлучно находится по правую руку от Сапеги. Он не слез с лошади, глядит свысока на молящихся воинов с ироничной, лёгкой улыбкой. Временно разрешает неофитам Ватикана маленькую обрядовую вольность. Они ещё числятся в православии, но уже признали главенство католицизма. С репрессиями за неправильную веру можно и повременить. На просторах непокорной Руси от Балтики и до Чёрного моря реализуется идеально продуманный, скрупулёзно воплощаемый план Ватикана — православные режут православных. Русские убивают русских, приближая главную цель, обозначенную Тридентским собором — безраздельное мировое господство.
Сапега косо посмотрел на иезуита, сел на коня, махнул рукой, и войско дисциплинированно продолжило движение. Шагая легко и бодро, будто не было тяжелого дневного перехода, прошли литовский и московский семитысячные полки. Фыркая, упираясь, тяжеловозы протащили шесть пушек с полукартечью. Под королевскими хоругвями прошествовал пятитысячный полк Стравинского, копейщики Марка Веламовского и, наконец, собственный полк гетмана — главная ударная сила его войска… Сапега разбил свой лагерь на Красной горе в 3-х верстах к юго-западу от Троицы, Лисовский — в Терентьевой роще, в версте к югу от монастыря. Все восемь батарей разместили здесь же. Солдаты живо строили острожки и заставы, копали рвы, вынутой землей отсыпали валы, вожделенно поглядывая на возможную богатую добычу. Троицкий монастырь казался им копями царя Соломона, средневековым Эльдорадо, разграбив который можно было обеспечить безбедное существование себе и своему потомству![8]
* * *
Обойдя лагерь, осмотрев строительство, Сапега успел войти в наскоро натянутый шатер, снять с помощью слуги надоевшие доспехи, с надеждой глядя на походную кровать, как за пологом послышался топот копыт. Адъютант, влетев внутрь и поклонившись, отбарабанил скороговоркой: — Пан полковник изволил уведомить, что пришёл наш человек из крепости. Просит принять его как можно скорее…Глава 4 Шок и трепет

Долгим тяжелым взглядом Сапега проводил силуэт в черной рясе и куколе, сливающийся с темным лесом. Слова святого апостола Павла «вменяю вся уметы быти, да Христа приобрящу»[9] упорно лезли в голову, и вся эта история с православным монахом-лазутчиком, доносящим сведения о монастырских сидельцах, показалась нелепой, ненастоящей, выдуманной в хмельном кабацком угаре врагами божьими. Гетман поднёс два пальца ко лбу, бросил короткий взгляд на стоящего рядом птенца гнезда Игнатия Лойолы[10], застыл и медленно опустил руку, передумав осенять себя крестным знамением. Сосредоточенное лицо иезуита напоминало каменное изваяние, тонкие губы сжались в идеальную нитку, и лишь огромные глаза на худом, мраморно-белом лице жили полноценной жизнью, отражая свет заходящего солнца, отчего казались кроваво-красными. Они внушали уверенность, придавали силы и снимали многие вопросы, хаотично роящиеся в голове. Вот только креститься под этим взглядом рука не поднималась… — Если это все, кто может поддержать нас внутри крепости, то я сомневаюсь в их способности быть хоть чем-то полезными, — произнес Сапега, испытывая неловкость в затянувшейся паузе. — Это не все, — ответил иезуит одними губами, не поворачивая головы, — и перед ними не стоит задача резать в ночи стражу и открывать ворота. Их цель — сделать так, чтобы сидящие в осаде возненавидели друг друга. Краешки губ иезуита дёрнулись вверх, обозначая улыбку. Кинув на Сапегу короткий, пронзительный взгляд, папский легат повернулся и, не оглядываясь на монастырь, пошёл к лагерю, сбивая снятой с руки перчаткой лиловые кисточки чертополоха.
* * *
Ивашка, увлеченный возможностью выполнить распоряжение воеводы, несмотря на забытый черновик, заткнул уши паклей, забился в угол скриптории и торопливо записывал всплывающие в памяти результаты дневной ревизии артиллерийского наряда. Писал, замирая на мгновение, вспоминая количество ядер и «зелья огненного», заковыристые наименования орудий, а когда сомневался — закрывал глаза, представляя, как стоял рядом с князем перед бойницами, выглядывая из-за его спины, мысленно пересчитывал ядра и бочки, попадавшиеся на глаза. Натренированная память писаря помогала восстановить и фиксировать неприметные мелочи, обязывала держать в уме единожды увиденные филигранные узоры и сложные тексты, иногда непонятные и нечитаемые, дабы аккуратно, аутентично их копировать. Ивашка честно и добросовестно всё заносил в реестр, опасаясь выговора за неточные сведения. Он закончил авральную работу, когда солнце клонилось к закату, свернул листочки в трубочку, вложил в берестяной туесок, потянулся довольно и вышел на крыльцо, выковыривая надоевшую паклю из ушей. Новая действительность обрушилась на него, окатив, как холодной водой из ушата. Разноцветная суета перед глазами и непривычная какофония вернули писаря обратно в сени, и только подростковое любопытство не позволило судорожно захлопнуть за собой дверь. Всё пространство между монастырскими стенами было плотно забито людьми, повозками, пожитками и домашними животными. Аккуратные дорожки, посыпанные мелкой галькой, превратились в грязное месиво, заботливо выкошенные лужайки оказались безжалостно вытоптаны, штакетники повалены. На завалинках, на телегах, на бревнах и кучах песка, оставшихся от строительства, стояли и сидели слободские крестьяне с ремесленниками. Рябило в глазах от цветастых женских летников, телогрей и однорядок.[11] Всевозможные фасоны и цвета — гвоздичный, лазоревый, червленый, багряный, голубой смешивались в один пестрый ковер. На нем неказистыми пятнами серели мужские армяки и суконные, крашенинные, сермяжные сарафанцы.[12] Плач, крики, ругань висели над копошащимся, ворочающимся многоголовым человейником. Между людьми испуганно билась, ревела домашняя скотина, заполошно орали куры, брехали ошалевшие собаки, плакали дети, и поверх всего этого безумия оглушительно, густо стекал с монастырских колоколен тревожный набат, неторопливо переплёскивался через стены, разливаясь полноводной рекой по посаду и слободе. Прижимая к груди драгоценный туесок и дико озираясь по сторонам, Ивашка торопливо пробирался между пробками и водоворотами, мучительно размышляя, что за напасть обрушилась на его умиротворённую, размеренную жизнь, как к этому относиться и где искать воеводу?* * *
Долгоруков устало, безнадёжно смотрел на упрямого архимандрита и вкоторый раз повторял азбучные истины, понятные любому воину, но никак не доходящие до разума строптивого попа. — Ворота надо срочно закрывать! Скопление людей внутри монастыря делает его оборону невозможной. Резервные сотни завязнут в толпе. Нагромождение телег и домашнего скарба, женщины, дети, скот превратили крепость в неуправляемый табор… Почнут поляки стрелять ядрами калёными — случится паника… Побегут людишки в разные стороны — не удержишь. А скольких свои же покалечат, затопчут?… — Наказуя убо Господь нас, не перестаёт он прибегающих к нему приемлеть, — тихим, грудным голосом отвечал архимандрит. — Негоже и нам, рабам господним, сим благочестивым делом пренебрегать. Heмало же способствовали приходящие люди граду Троицы живоначальной Сергиева монастыря. «Яже он надежда наша и упование,» — говорят они, — «ибо стена это, заступление и покров наш…» А мы перед ними ворота закрывать будем?! Иоасаф поднял голову, и в глазах его сверкнули молнии. Посох архимандрита гулко ударил по деревянному настилу. — Не бывать тому! Убежище преподобного примет всех страждущих! Воевода посмотрел на священника, поднял глаза к небу, словно ища у него поддержки, вздохнул всей грудью и хотел что-то сказать, но взгляд его зацепился за Ивашку, сиротливо застывшего при входе, ни живого, ни мёртвого. — А-а-а, потеряшка! — с явным удовольствием сменил тему Долгоруков. — Небось, за ревизией пришел? Ивашка мотнул головой, сделал шаг и с поклоном протянул князю туесок с драгоценными листками. — Что это? — Сделал, как было велено… Воевода освободил от бересты ивашкину работу, разложил листы на широкой столешнице, обернулся, недоверчиво глядя на писаря. — Это что, всё по памяти начертал? Ивашка кивнул и потупился, хотя в душе возликовал — не озлобился князь, не прогнал взашей, а стало быть не серчает на его нерадивость. Долгоруков долго водил толстым пальцем по ивашкиным цифрам, изредка поднимая глаза на писаря, словно сверяя содержимое его головы с записями, наконец, довольно крякнул, сграбастал в кучу листки, свернул в тугой рулон и одним движением вогнал обратно в туесок. — Ишь, удалец какой! — произнес воевода удивленно, неслышно ступая сафьяновыми сапогами и разглядывая Ивашку, будто видел в первый раз, — по памяти, значит… Хорошая голова у тебя, светлая… При мне будешь! Последние слова прозвучали жёстко и громко, как приказ. Ивашка хотел поясно поклониться, но успел лишь нагнуться, как был сбит влетевшим в палаты молодцом в ярко-красной чуге[13] и такой же шапке-мурмолке, отороченной соболем. Невысокий, русый, широкоплечий, с ярким румянцем на щеках — кровь с молоком, он плеснул на присутствующих голубизной глаз и, не обращая внимания на барахтающегося Ивашку, стараясь не встретиться взглядом с Долгоруковым, обратился к архимандриту Иоасафу: — Отче! Посадские дома хотят пожечь, чтобы ворогу не достались, а монастырская стража их не пущает. Распорядись, сделай милость, а я со стрельцами блюсти буду, чтобы их поляки не побили, да в полон не забрали. Выпалив просьбу, молодой военачальник тотчас развернулся и загрохотал ножнами сабли по высоким ступенькам. — Алексей! — крикнул ему вслед Долгоруков, — Алексей Иванович! Поняв, что ответа не дождётся, воевода недовольно хмыкнул, покачал головой, взял со стола и надел на голову шлем. — Убьют дурака, — процедил он сквозь зубы, торопливо накидывая на плечо перевязь и обращаясь к архимандриту, добавил, — посад сжечь придется, а то неприятель от нас задарма зимние квартиры получит и, прячась за них, под самые стены подбёрется. Игумен Иоасаф, проводив князя слезящимися глазами, пожевал губы и проговорил про себя, будто вздохнул: — Не любят воеводы друг друга. Ржа между ними. Разлад великий в войске грядёт… Нехорошо это…А ну-ка, Ивашка, черкни пару слов десятнику надвратной башни и бегом туда. Я руку приложу. Посадских пустить, препятствий не чинить. Пусть с Божьей помощью они управятся и, дай Бог, соблюдут людишек божьих воеводы наши Долгоруков и Голохвастов.* * *
Скатившись по ступенькам, Ивашка пулей помчался к надвратной башне, поспев, увы, к шапочному разбору. Записка архимандрита не понадобилась. Десятник, загодя узрев княжеский конвой, сам открыл ворота, и мятущаяся толпа, размахивая топорами и дрекольем, полилась в их открытый зев, как вода в половодье устремляется на свободу, найдя брешь. Серый поток армяков, разбавленный красными стрелецкими кафтанами, растекся по посаду, и скоро то тут, то там начало потрескивать и гудеть. К небу потянулись жидкие белесые струйки дыма. В польском лагере, стоящем совсем недалеко от посада, заметили это безобразие. Не прошло и пяти минут, как из леса выехала полусотня и направилась бодрой рысью к разгорающимся пожарам. Всадники были прекрасно различимы от ворот, но выдающаяся вперед башня закрывала обзор, и находящиеся среди посадских строений люди их не видели. У Ивашки, праздно наблюдавшего за разгорающимся пожаром, ёкнуло сердце. Он тотчас вспомнил слова Долгорукова «При мне будешь!». Князь приказал, приблизил, а он, выходит, опять оплошал! «Воевода уже в посаде, а я ещё у ворот болтаюсь и предупредить его не могу! Растяпа!» Парень свистнул по-разбойничьи и что есть мочи припустил к посаду, стараясь опередить всадников и предупредить княжеских стрельцов о приближающейся опасности. Лисовчики заметили его. От полусотни отделились двое казаков и намётом поскакали к пареньку, забирая чуть в сторону от монастырских стен, очевидно, опасаясь огненного боя. Ивашка бежал изо всех сил, пот заливал лицо, скуфейка слетела с головы и упала куда-то в придорожную пыль. До серых бревенчатых срубов осталось рукой подать, когда писарь понял — не успевает. Топот копыт и конское сопение раздавались уже совсем рядом. Он обернулся через плечо, и дорога мгновенно ушла из под ног, перевернулась. Мальчишка со всей дури грохнулся об утоптанный дёрн, прикусил язык, кубарем покатился в кусты, приложившись затылком обо что-то твёрдое. В глазах вспыхнули искры и в тот же миг от околицы гулко жахнуло. Над головой запели, засвистели незнакомые птахи, тоскливо заржал конь одного из преследователей и на всём ходу грянулся оземь, придавив собой седока. От страха Ивашка попытался вскочить на ноги, но кто-то крепко схватил его сзади за одежду. Он елозил на спине, царапая до крови кожу, барахтался, но не мог вырваться из цепких объятий. Завизжав, мальчик напряг все свои силы, вскочил, чувствуя, как расползаются по швам новые порты и трещит сорочица. Над головой еще раз грохнуло, засвистело, и со стороны посада на дорогу выскочила хорошо знакомая писарю княжеская сотня. С улюлюканьем и свистом, пригнувшись к гривам, сабли на отлёт, на полном скаку атаковали изменников дети боярские, настигали, выскакивая из засады и безжалостно рубили. Над всем посадом, отражаясь от занимающихся огнем крыш, разносился лязг оружия, ржание коней, сливающиеся воедино воинственные кличи и предсмертные крики. Оглянувшись назад, Ивашка рассмотрел злодея, поймавшего его за портки. Им оказался развесистый ивовый сук, зацепившийся за лямку и не желавший отпускать добротное сукно. Дёрнувшись сильнее, писарь окончательно распорол штаны, выскочил на дорогу, поддерживая их руками, и сразу попал в окружение стрельцов, с любопытством наблюдавших за борьбой пацана с деревом. — Ты посмотри, Игнат, твой заяц нашелся. — Как есть — заяц! Кричу ему «ложись-ложись», а он прёт, как оглашенный, а потом порскнул в кусты, я даже глазом моргнуть не успел… — Ты откуда явился такой красивый и без порток? Окружившие писаря краснокафтанники взорвались неудержимым хохотом. Звонче и заразительнее всех смеялся тот самый Игнат — совсем молодой паренек с пушком вместо усов над верхней губой. Опёршись на свой мушкет, он выгибался назад всем телом и запрокидывал голову так, что стрелецкая шапка норовила свалиться с вихрастой головы. Стрелец подхватывал её рукой, прижимал к макушке, тряс русой шевелюрой, и в такт смеху на его худой груди подрагивала берендейка — перевязь с подвешенными к ней деревянными, оклеенными кожею трубочками для пороха и пули, потребными на один заряд. — Ты, малец, Игнату в ноги должен кланяться, — покручивая ус, произнес седовласый десятник, когда смех стих. — Это он срезал твоего обидчика. Это ж надо что удумал, басурманин — мальца саблей рубить! Ивашка смотрел растерянно на десятника, на Игната, на ивовый сук, спасший его, не дав выскочить на дорогу под пули и копыта идущей в атаку кавалерии. Губы против его воли растянулись в глупой улыбке. В голове радостно пульсировала единственная мысль: «Жив! Господи всемогущий, жив! Хорошо-то как, Господи!» Испуг и напряжение сменились странной истомой, обволакивающей всё тело теплой, мягкой ватой, пространство вокруг него закружилось в стремительной карусели. Писарь не заметил, как улетает в осеннее темное небо, а пелена сгущается и накрывает с головой. — Эй-эй, малец, что с тобой? — слышал он, словно из бочки, голос десятника. — Ранен! Вон смотри, дядька Гордей, всю спину окровавило, — раздался тревожный голос Игната… — Да нет, царапины, о кусты ободрался, когда сигал. Сомлел малой от страха… Давай-ка, подхвати его, робята. Парень-то геройский, нас предупредить бежал, не испужался…
* * *
Очнулся Ивашка на твердой, неудобной лавке, в подвале под царскими чертогами среди коробов и полок с фолиантами да грамотами. На огромном двухсаженном столе громоздились древние пергаменты, рядом со свечой сидел его наставник Митяй, близоруко щурясь на рукопись, аккуратно держа её двумя пальцами. — Ну что, очухался, Аника-воин? — непривычно добродушно пробормотал он, не отрываясь от дела, — эко тебя разморило! Ивашка вскочил и сел на скамейке. Чуть затянувшиеся царапины на спине и причинном месте полыхнули огнем, заставили ойкнуть и тихо сползти со скамьи, опуститься на корточки. — Вот так и будешь теперь стоя читать-писать, — продолжил беззлобно ворчать Митяй, — воевода хотел было повелеть тебя выпороть, чтобы не лез, куда не след, а потом посмотрел, как ты себя изгваздал и сменил гнев на милость, дескать, сам себя уже достаточно наказал. Велел запереть здесь, чтобы от усердия не убился, и ждать его повеления. Когда надо — сам позовет… Охохоюшки… Митяй отложил пергамент, отодвинул свечу, потянулся… — Скриптория наша под нужды войсковые занята. Все книжицы и грамотки сюда сносили. Как очухаешься, новое твоё послушание — по приказам всё разобрать, аккуратно разложить и набело мои каракули записать. Поручено нам с тобой, Ивашка, составить летопись нашего Троицкого сидения. Прихрамывая и ойкая, мальчик подошёл к столу, заглянул в только что составленную грамотку, на которой еще не просохли чернила. Чётким, калиграфическим полууставом на желтой фряжской бумаге было выведено:Въ лѢто 7117 въ царство БлаговѢрнаго и Христолюбиваго Царя и великаго Князя Василія Ивановича всея Русіи, и при святейшемъ ПатріархѢ ЕрмогенѢ Московскомъ и всея Русіи, пресвятыя же и пребезначальныя Троицы обители Сергіева монастыря, при АрхимандритѢ ІоасафѢ, и при келарѢ старцѢ Авраміи ПалицынѢ, Богу попустившу за грехи наша, Сентября въ 23 день, въ зачатіе честнаго и славнаго пророка и предпіечи крестителя Господня Іоанна, пріиде подъ Троицкой Сергіевъ монастырь Литовской гетманъ Петръ Сапега…
Глава 5 К войне нельзя привыкнуть

Из подвала под царскими чертогами обстрел крепости еле слышен и кажется совсем не страшным. Но стоит открыть наружную дверь, как война бесцеремонно вламывается в уютный библиотечный полумрак громовыми орудийными раскатами, стоном содрогающихся от попаданий прясел[14], пороховым дымом, кусками штукатурки и пылью, летящей в разные стороны от зубцов крепостных стен, многоголосым визгом испуганных женщин, коротающих осаду под открытым небом, резкими командами десятников, управляющих орудийными нарядами, и зловонием — непередаваемым, особым запахом осажденного города, замешанным на поте, крови, сгоревшем порохе, смраде отхожих мест, гниющих отходов и страхе. Он тоже имеет свой запах, заползающий в любую щелочку, во все уголки естества, когда кажется — каждый снаряд или пуля летит именно в тебя. Хочется немедленно отвернуться и зажмуриться, заткнуть уши, зарыться поглубже в сырую землю, чтобы не видеть и не слышать завывания смерти, вольготно разгуливающей под стенами монастыря, зловеще хохочущей над жалкими попытками людей спрятаться от неё, швыряющей в податливые тела свинцовые, чугунные и каменные ядра, осколки камней, стрелы и весь остальной сатанинский набор, предназначенный для умерщвления плоти. Ивашка слышал от бывалых ратников, что со временем ко всем ужасам войны приноравливаешься. После недели непрерывной бомбардировки монастыря шестью десятками польских орудий писарь точно знал — врут, успокаивают. Можно собрать всю волю в кулак, встать в полный рост и сделать вид, что тебе всё равно. Можно улыбаться через силу, шутить, презрительно поглядывая на пригибающихся и перемещающихся перебежками вдоль стен, но привыкнуть к смерти невозможно. Человеческая натура создана так, чтобы сопротивляться ей до последней возможности, а страх — один из инструментов отодвинуть неминуемое. Сегодня он поднялся по ступенькам, распахнул дверь, щурясь на дневной свет. Надеялся вдохнуть свежий воздух, но утонул во взвеси пыли и порохового дыма. Очередное попадание вражеского ядра совсем рядом, в основание Конюшенной башни, вынудило вздрогнуть всем телом, пригнуться, воровато оглянуться по сторонам и юркнуть, как мышка в норку, под спасительную сень белокаменных чертогов. Польские батареи били со стороны Терентьевской рощи и горы Волкуши, встав на обрыве высокого берега крохотной речки Кончуры, охватывающей крепость с юга ломаной дугой. Монастырская артиллерия в первый же день «причесала» нахальных панов, нагло выкативших свои пушки на прямую наводку в чистое поле. Урок пошёл впрок. Всего за одну ночь на польских позициях вырос земляной вал с бойницами из дубовых брёвен. Князь Долгоруков повелел прекратить бессмысленно расходовать огненный припас в попытках попасть в их узкие зевы. С тех пор поляки расстреливали монастырь беспрепятственно. Оставалось надеяться на крепость стен и недостаточно мощный калибр шляхетской артиллерии. Осажденные молились истово и всенощно. Архимандрит Иоасаф с освященным собором и множеством народа служил литургию в церкви Святой Троицы, не прервав службу ни на мгновение, когда польское ядро, влетев в церковное окно, разрушило оклад иконы архистратига Михаила и ранило священника, а второе пробило образ Николы Чудотворца. 25 сентября, после всенощных молебнов памяти Сергия-чудотворца, состоялось крестное целование, чтобы сидеть в осаде без измены. Воеводы Долгоруков и Голохвастов подали пример, за ними потянулось остальное войско и мирный люд, так и не поверив до конца, что их жизнь никогда не будет прежней. Наутро, сговорившись полюбовно с воротной стражей, посадские бабы по привычке пошли стираться на берег Вондюги, а мужики — собирать капусту, уродившуюся в этом году на славу и радующую крестьянский глаз зеленовато-белёсыми, сытными кочанами посреди поля, седеющего от ранних заморозков. Вышли затемно, как принято на селе, особо не таясь, с шутками-прибаутками, не спеша приступили к делу, поглядывая на сонный польский лагерь с поднимающимися над ним жидкими струйками потухших костров. Стража на стенах не сразу поняла, с чего вдруг поднялся такой дикий визг, почему вспенилась и закипела вода. Когда в утренней тиши разнеслись истошные крики о помощи, смекнули — дело плохо. Ивашка, уступивший свою келью семье Дуняши и устроившийся на ночь в печуре[15] между пузатой медной пушкой двенадцати пядей и корзиной с тяжёлыми шестигривенными[16] ядрами, вскочил, как ужаленный. Вспомнил, что его Дуняша собиралась идти с матушкой к реке. Взлетел по сходням на стену, и чуть не уткнулся носом в широкую княжескую спину. Долгоруков со сна, в одной богато вышитой сорочке, подслеповато щурился на занимающийся рассвет, выговаривая насупившемуся десятнику. — Я когда тебе сказывал будить меня, дурья твоя башка? Когда поляки на приступ пойдут! А ты зачем меня поднял? Посмотреть, как литовцы баб глупых гоняют? Бурчание воеводы перебил женский крик, переходящий в вой, и из быстро редеющего, стелющегося над землей тумана к стенам монастыря выскочила простоволосая, босая селянка. Белое исподнее до щиколоток мешало бежать, путалось между ног, руки, протянутые к монастырю, словно пытались уцепиться за зубцы стен, чёрные впадины глаз на белом лице казались неживыми, а изо рта на одной и той же ноте доносился тоскливый, отчаянный крик. Темная тень всадника маячила в предрассветной мгле, нагоняла беглянку, а она, не обращая внимания на преследователя, увидев стрельцов на стенах, с удвоенной скоростью бежала к крепости, продолжая издавать душераздирающие звуки. Стоящие у стрельниц невольно прекратили разговаривать и даже дышать, завороженно глядя на безнадежную гонку со смертью. Летящий галопом конь преследователя через мгновение поравнялся с ней, над головой всадника сверкнул клинок и женский крик, словно подчиняясь блеску стали, мгновенно иссяк, выпитый до дна польским холодным оружием. Всадник свистнул, пригнулся к гриве, и конь, повинуясь его руке, послушно развернулся, оставив за собой белое пятно на примятой траве, словно снежный холмик, напитывающийся красным. — Ах ты, шпынь бисовый, — глаза Долгорукова налились кровью. Князю не было никакого дела до какой-то крестьянки. Но этих холопов он принял под свою руку, приобретя исключительное право миловать и казнить. Демонстративное насилие над его простолюдинами каким-то самозванцем означало унижение его княжеского достоинства. Терпеть таковое, не ответить означало — соглашаться с самоуправством, ставить себя в подчиненное положение. По всем законам, писаным и неписаным, князь обязан показательно и жестоко проучить наглецов, убивающих его смердов… Однако… Не является ли эта демонстративная расправа над чернью ловушкой с целью выманить его из-за стен? Вывести войско за ворота легко, а попробуй, верни его обратно, если за твой хвост уцепятся вдесятеро превосходящие полки Сапеги… Верное самоубийство! И ещё вопрос — когда он сможет поднять по тревоге хотя бы сторожевую сотню? Сколько пройдет времени? А тут всё решают секунды. Мысли вихрем пронеслись в голове воеводы, он замер на несколько мгновений, пытаясь сконструировать правильное решение. В это время на стену стаей воронов взлетели несколько человек в монашеском облачении. Их черный остроконечный куколь из-за наклонённых голов напоминал клюв вещих птиц, а развевающиеся на ветру мантии — черные крылья. Проскользнув возле воеводы, как мимо каменного изваяния, монахи подошли к стене, взглянули на поле, застилаемое снежными холмиками, на немногочисленные женские фигурки, мечущиеся между серыми всадниками, коротко переглянулись, выпростали руки из-под мантий, освободив мотки конопляной веревки с крюком-кошкой. Воевода понял, что его так удивило во внешнем виде схимников — через плечо у ближайшего к нему монаха был переброшен колчан со стрелами и огромный, почти в человеческий рост, добротный, дорогой боевой лук[17] с шелковой тетивой, стоящей дороже княжеского меча, составной кибитью из молодой берёзы и можжевельника, роговыми, отполированными до блеска накладками с тончайшим затейливым узором. Это был царь-лук. Воевода знал толк в оружии, изящном и беспощадном, требующем недюжинной силы и постоянных усердных тренировок. Словно повинуясь неслышной команде, монахи одновременно закрепили крюки у стрельниц, перемахнули через зубцы и в два удара сердца оказались у подножия стены. Развернувшись цепью в полной тишине, они коротким броском сблизились с резвящимися лисовчиками, синхронно присели на одно колено и… Увлеченные погоней за беззащитными женщинами, разгоряченные безнаказанностью, озверевшие от запаха крови, птенцы полковника Лисовского мгновенно превратились из охотников в дичь. Первый же залп свалил пятерых, второй, последовавший почти сразу[18] — ещё троих. Встал на дыбы и заржал раненый конь. Лисовчики, почуяв неладное, в замешательстве остановились, пытаясь обнаружить источник угрозы. Это стоило жизни ещё десятку всадников. Оставшиеся, поняв, что только скорость отступления может спасти им жизни, дали шенкелей и попытались разорвать дистанцию. Теперь, взывая о помощи, орали сами разбойники, в голосах их звучал неподдельный ужас. Но непреодолимой преградой для интервентов оказалась крохотная Вондюга. Форсировать галопом речушку бандиты не смогли. Вода хватала коней за копыта, заставляла их перейти на тяжелый шаг, и это стало приговором для всей остальной шайки. Короткая перебежка лучников, еле слышный свист стрел… И тела врагов поплыли вниз по течению, дополнив неряшливую картину разбросанного по всему берегу, так и не постиранного белья. Воевода шумно выдохнул, осознав, что инстинктивно затаил дыхание, пока длилась короткая, беспощадная схватка. — Покличь охотников, пошли стрельцов с мужиками. Надо найти выживших, собрать тела погибших, — тяжело сглотнув, обратился Долгоруков к десятнику. — Негоже христиан православных оставлять на поругание папистам. — Я пойду с ними, — пискнул Ивашка и моментом спрыгнул по сходням к Надвратной башне, боясь остаться забытым в поднявшейся суете.
* * *
Дуняшу они нашли не сразу. Её прикрывала плакучая ива, и только острый глаз Игната, к которому прикомандировали Ивашку, смог различить за желтеющей листвой цветастую девичью поняву. Она лежала на спине, удивлённо глядя в светлеющее небо, черты лица заострились, брови-стрелочки изогнулись и приподнялись, длинные ресницы дрожали, и в такт им что-то беззвучно шептали побелевшие губы. Казалось, Дуняша утомилась и прилегла отдохнуть. Лишь потемневшая трава под льняной вышитой сорочицей заставляла сердце сжиматься от дурного предчувствия. — Дуня! Дуняша! — кинулся Ивашка к подружке. — Охолонись, — хмуро отстранил его Игнат, — давай аккуратно на бок перевернем, осмотреть надоть… Вся ткань на спине была красна, от лопатки до пояса шёл ровный, как по ниточке, разрез, откуда сочилась густая темно-кровавая масса. Ивашка не выдержал и отвернулся. Игнат скрипнул зубами, сорвал с себя кафтан, снял рубаху, сложил вчетверо и приложил к кровоточащей ране. — Держи так! Не отпускай! — скомандовал он сомлевшему товарищу, а сам подхватил бердыш, принявшись выбирать и рубить прямые ветки лещины. Сложив несколько сучьев на бердыш и мушкет, аккуратно подсунув это подобие носилок под лёгонькое, почти невесомое тельце, они торопливо несли его к монастырю, опасливо поглядывая на вражеские сотни, собирающиеся на противоположном берегу Вондюги. — Отчего она молчит, Игнат? Почему ничего не говорит? — глотая слёзы, бубнил Ивашка, спотыкаясь о кочки и камни. — Осторожней, сиволап, — хмуро отвечал Игнат, — не капусту несёшь. Одной ногой со мной ступай, растрясём же. К лекарю её надо. Только плохо всё… Видишь, не стонет даже. Ох, беда-беда… Монастырь встретил юношей набатом и плачем. Убитых было много. Тела уложили у ворот Троицкого собора и отпевали сразу несколько священников. Женщины выли и причитали. Мужики стояли, ломая шапки и пряча друг от друга глаза. — Ну что, михрютки сиволапые, пятигузы суемудрые, — кричал им в лицо Голохвастов, осаживая гарцующего под ним коня, — ослушались повеления? Говорил же вам, окаянным, за ворота ни ногой! Испробовали польской милости? Все эти смертушки — на вашей совести! Как искупать будете? Селяне бычились, клонили головы к земле, ничего не отвечая на обидные, но справедливые слова младшего воеводы. — Да что там думать, мужики! — возвысил голос один из них, зажиточный, в добротном сермяжном армяке и мягких сапогах с короткими голенищами. — Ополчаться нам сам Бог велит. Бить челом перед воеводами о даровании оружия с обещанием держать его крепко, а латинян лупить так, чтобы из них пух и перья летели. — Кто таков? — обратил внимание Голохвастов на оратора. — Клементьевские мы, воевода! Никон Шилов, — в пояс поклонился мужик. — Хорошо сказал, Никон. Поручаю тебе подворье монастырское обойти, с народом поговорить, сделать роспись селян, охочих до драки с латинянами. Сегодня к полудню повелеваю собраться у Конюшенной башни — там посмотрим, что вы за вояки….* * *
Внимательно выслушав речь Голохвастова, архимандрит отошел от окна княжьих покоев, выходящих на площадь, и чинно присел за стол напротив хмурого Долгорукова. — Вот и слава Богу, — перекрестился Иоасаф. — Не было бы счастья, да несчастье помогло. Озлился мужик, затаил обиду на ворога, теперь не отступится. Будет твоему войску пополнение… — Ты, отче, мне так и не ответил, — пропустил воевода мимо ушей слова архимандрита, — что за воев видал я сегодня на стенах. Кто они, и пошто такие гордые, что ни единым словом меня, осадного воеводу, не удостоили? — Чашник это наш монастырский, Нифонт Змиев, с братией, — нехотя ответил архимандрит, — а не говорит, потому что принял обет молчания. Хватает тех, кто языком, как помелом, чешет… — Ты мне, отче, зубы не заговаривай, — вспылил, вскочив на ноги, князь, — этот чашник со своей манипулой у меня на глазах казачью полусотню к праотцам отправил. Луки у них княжеские. Владеют ими мастерски. Каждый на сотню шагов белку в глаз бьёт. Мы, вроде, заодно тут сидим, а ты от меня охабишься[19]. Негоже так… Архимандрит подошел к воеводе вплотную. Долго изучающе смотрел ему в глаза. — Нифонт Змиев — чашник наш. Тут я, княже, тебя не обаживаю…[20] Он же — голова полка нашего чернецкого. — Что за полк? Почему его нет в росписи? — Великий князь Василий, именуемый Тёмным, повелел распустить полки монастырские, созданные трудами преподобного Сергия. Убоялся заговора великий князь. Уступил сладкоголосым латинянам италийским, вот и порушил созданное предками его — великим князем Дмитрием Донским да игуменом Радонежским… — И что ж, не распустили? — хмыкнул воевода. — Так нет полка, — одними глазами улыбнулся архимандрит, — есть стража монастырская и отставные стрельцы, по их увечью и старости царём на содержание в монастыри отправляемые, с денежным жалованием по 1 рублю 30 алтын, да хлебное, по четверику толокна и гороху… — Хорошо, — кивнул воевода, — не время нынче сказки[21] разбирать. Главное — крепость оборонить, а кто и когда опалу учинил — то не моё, а царское дело. Но обещай, отче, не далее как завтра, покажешь мне все свои военные секреты, что по уголкам монастыря попрятаны. Чувствую, удивишь меня и не раз…* * *
— Посторонись, — зычно прокричал возница, и тяжело нагруженная телега с капустными кочанами вплыла на монастырское подворье. Ивашка с Игнатом еле успели отскочить в сторону, едва не уронив свои импровизированные носилки и чуть не сбив двух монашек, в которых Ивашка сразу узнал государыню Ксению и её наперсницу — инокиню Марфу, в миру — княжну Старицкую, королеву ливонскую. — Куды прёшь, остолбень! — замахнулся на обомлевшего Ивашку следовавший перед монахинями слуга. — Силантий, угомонись, — властно приказала ему Ксения, отпрянув. — Кто это? — потянулась она к лежащей на носилках Дуняше. — Из посадских, государыня, — тяжело вздохнул Ивашка, — матушку её совсем посекли, а девица вот выжила… — Господи, совсем ребенок! — всплеснула руками Мария Владимировна. — Куда несете? — требовательно спросила Годунова. — Ей бы к лекарю, — вставил слово Игнат, — кровь остановили, но что делать дальше — ума не приложу. — Поворачивайте ко мне, — повелела царевна, — я о ней позабочусь, а ты, Силантий, силушку свою могутную пользуй с толком — найди и приведи мне лекаря, принеси чистой воды. Богатырь будто испарился. Спорить с Годуновой было не принято. — Благодарствую, матушка, — попытался Ивашка поклониться, не отпуская носилки, — век твою доброту помнить буду. — Это хорошо, — благосклонно кивнула Ксения, — помнить добро — благостно. Немногие способны на такой подвиг. Но хватит любезностей, покуда надо дело делать…* * *
В тот же день количество защитников крепости из ополчившихся посадских увеличилось на пятнадцать сотен, а уязвленные поляки принялись круглосуточно обстреливать монастырь. Но даже в самые опасные дни Ивашка с Игнатом находили время навестить Дуняшу, угостить её, чем Бог послал, скоротать время и просто развести тоску руками. Вот и сегодня писарь, закончив дела, собрался бежать в гости к Ксении, а тут, как назло — обстрел. Ну ничего, он сильный, он соберется и сможет! Паренек еще раз вздохнул, набрал в грудь воздуха, собираясь распахнуть подвальную дверь, как вдруг кто-то с улицы привалился к ней всем телом, ругнулся, кашлянул и произнес хрипло: — Однако, жарко сегодня… Глядишь — ненароком свои зашибут… Суму не обронил? В ответ донеслось невразумительное мычание… — Смотри у меня! Отдашь в руки брату Флориану. А этот перстенёк — лично гетману. На палец не надевай — не налезет. Поймают — молчи, целее будешь! Воротишься обратно по условленному знаку. Пока его не увидишь — даже не пытайся! Ну всё, пора! Дай, я тебя обниму, брат! С Богом!..Глава 6 Оружейная палата Троицы

Обойдя оружейную палату Троицкого монастыря, оглядев арсенал, где в кожаных чехлах хранились шлемы, кольчуги, боевые топоры, сабли, луки и стрелы, пересчитав на дубовых полках готовые к употреблению пищали и переговорив с архимандритом, князь Долгоруков остро почувствовал, что не хочет покидать пушкарский двор. Выглядел он надёжным и основательным, внушающим уверенность, что обитель выстоит и победит. Кузничная башня и её пристройки отделялись от остального монастырского подворья невысоким, крепким тыном с хмурой многочисленной стражей, зорко следящей за шустрыми посадскими. Эта часть монастыря выделялась деревянной мостовой со снующими тачками, гружёными древесным углем и кричными брусками, кисловатым запахом горячего железа и сухой рабочей атмосферой, напрочь игнорирующей внешние раздражители. В левом крыле на разные голоса, и басом, и заливистым подголоском звенели молотки дон-дон-дилинь… дон-дон-дилинь. Из горна в дальний угол неуверенным красным светом мерцали угли в сторону единственного окошка, перед которым был устроен грубый верстак с лежащими на нем железными заготовками. Убранство кузницы, несмотря на пригожий день, тонуло в таинственных сумерках. На это была своя причина. Чтобы качественно выковать заготовку, кузнецу нужно определить, насколько она раскалилась. Готовность оценивали по цветам каления, и только спасительный полумрак позволял разглядеть необходимый оттенок свечения, понять степень накала, увидеть желто-красные переливы. Чтобы определить температуру металла, кузнецы использовали даже бороду, поднося нагретую деталь к щетине. Если волоски трещали и закручивались, приступали к ковке. Кузнец — человек, обладавший властью над металлом, широкоплечий и коренастый, мышцы которого бугрились от работы с молотом, неспешно прохаживался мимо шпераков[22], покрикивая на подмастерьев, ваяющих «чеснок»[23]. Длинные, чуть желтоватые волосы, перехваченные на лбу серебряным обручем, и окладистая борода делали его неотразимо похожим на древнерусского волхва, а внимательные глаза, отражающие свет горна — на медведя-оборотня из русских сказок. В правом крыле башни, как Змей Горыныч, огнём пыхтела горновница, украшенная огромными мехами, похожими на медвежьи уши. Она извергала из широкой трубы грязно-серый дым, и тот втыкался в низкие тучи указующим перстом, напоминая присутствующим о незримой связи горнего и земного. Горн, называемый чистильницей, подпитываемый воздухом от мехов, яростно дышал жаром. В струях горячего дуновения суетился обжигальщик, ворочая длинной кочергой красно-синие угли. От жаркого духа, льющегося из огненного зева, воздух делался нестерпимо кусачим, опаляя на вдохе и на выдохе. Под ногами хрустела металлическая «треска» — крупинки шлака и осыпавшееся с криц сорное железо. Все в саже, туда-сюда сновали молотобойцы и мальчики, раздувающие меха. Посреди суеты монументально и основательно стоял пушечных дел мастер в кожаном фартуке и льняной рубахе с подвернутыми рукавами, со взглядом исподлобья, украшенным кустистыми седыми бровями и такой же бородой. Одного легкого наклона головы и движения глаз великана хватало, чтобы присутствующие замерли, осознали, что надо делать и продолжили свою муравьиную суету. По мере готовности крицы, по приметам, известным только мастеру, плавильщик вынимал бесформенный кусок металла и с грохотом кидал на наковальню. Тяжелый пятипудовый молот поднимался колесом, обращаемым усилием унылых волов, разбрызгивая окалину, падал с двухсаженной высоты, придавая заготовке вид бруска или растягивал в длину, пока она не превратится в равномерные полосы. Дверей как таковых в горновнице не было, скорее всего для лучшего проветривания. Мастер, не покидая рабочее место, мог лицезреть через широкий проём происходящее за пределами башни, где его подручные ваяли формы для литья пушек — лёгкое и прямое бревно, называемое стержнем, обвивали льняной веревкой, перемежая её глинистой землей с лошадиным навозом, просушивали, обращая над горящим угольем. В это время другая бригада обкладывала железными полосами и стягивала обручами уже просушенную форму, ставила строго вертикально, засыпала землёй все пространство вокруг неё, аккуратно выкручивала стержень и уступала место литейщикам. Глухо громыхая по настилу, к форме ползла причудливая тележка с подвешенным чаном, где, как живая, шевелилась на стыках и неровностях расплавленная медь, особая, оружейная, в пропорции десять к одному смешанная с оловом, против одного к четверти в бронзах колокольных. Весело лился в земляную форму красно-жёлтый «кисель», а работники уже спешили к остывшей заготовке — устанавливали над ней треногу с коловоротом. Начинался длинный и муторный процесс высверливания канала ствола. Отливались привычные медные и неведомые даже рукастым голландцам чугунные орудия. Чугун, конечно, не медь — хрупкий и тяжелый, но зато в несколько раз дешевле, и его много! Для полевой артиллерии такие пушки будут громоздкими, а в крепости и на корабле — в самый раз[24]. Князь подошел к готовому стволу, провёл пальцем по свежему торговому клейму Троицкого монастыря, знакомому по участию в различных посольствах, бросил косой взгляд на архимандрита. — Давно сей оружейный двор держите, да иноземцам пищали продаёте?[25] — Со времен основателя обители преподобного Сергия, — кротко склонил голову священник, — когда понадобились числом великим луки да стрелы, мечи да байданы, где как не в обители оружницу ту деяти? Мужи премудрые, книжные, да мастера искусные всегда при монастыре трудились, тут и подмога от людей лихих, и рядовичи вельми зажиточные под боком, вот и сподобился заступник наш небесный с князем благоверным Димитрием Донским почтить монастыри особо житийные оружницами княжескими… Иоасаф подошёл к пушке, присел у станка, прошелся взглядом по гладкой, нетронутой зеленью блестящей «коже», и воевода заметил, насколько профессионально священник осматривает орудие, проверяя по игре теней и бликов правильность формы ствола. — Собрали по миру грамоты иноземные да отеческие, мастеров с подмастерьями, учебу затеяли по вервям крестьянским… Так и состатися на Маковце слобода оружейная, — продолжил архимандрит, разогнувшись и подперев поясницу руками, — а при ней школа воев, где каждый сечец знатный послушание имел — вырастить не меньше двух учеников достойных, для службы в княжеской дружине пригодных[26]. — И сколь долго длилось сие послушание? — заинтересовался охочий до всего военного Долгоруков. — Десять годков, почитай, — ответил архимандрит, — крепко учили, без продыха, кажин день от брезги до средонощия, а ежели княже особые умения затребует, навроде языков иноземных или навыков лекарских, то ещё три… Да вот господин наш Василий Темный волю свою изъявил, что сия забота не нужна больше царству русскому и покровительства своего высокородного лишил. С тех пор пришли школы монастырские воинские в худобу великую… — Десять лет… Изрядно, — покачал головой князь, думая о чем-то своем, — и что же, ваш Нифонт Змиев, он тоже…? — Тоже, — кивнул священник, — но таких всё меньше. Если б не царь Иоанн Васильевич, да оружничий его князь Вяземский, монастырские школы воскресившие да мастерские огненного наряда учредить изволившие, так и не было бы никого. Сейчас лишь пушкарское дело вельми братией знаемо, а саадачное да сечевое в забытьи… — Постой-постой, отче, — вскинул брови Долгоруков, — ты хочешь сказать что твои монахи — пушкари? — А как же по-другому? — удивился архимандрит. — Как можно самострел добрый смастерить, если сам с ним управиться не можешь? — И много таких? — Да почитай — все, — пожал плечами Иоасаф, — три сотни всего братии нашей в обители осталось. Работы много. Каждому приходится на пушкарском дворе управляться, вот и научились помалу… — Да что ж ты молчал, старче! — вскричал воевода. А я-то думал, как моих 100 стрельцов на сто десять орудий распределить! Людишек не хватает! — Не кручинься о пушкарском наряде, княже, — архимандрит, глядя снизу вверх, положил руку на плечо Долгорукову, — то будет нашей братии забота. И Нифонт со своим полком, хоть и осталось от него чуть более сотни, посильным помощником тебе будет. Соборные старцы урядили защиту. Назначили, кому биться на стенах или в вылазках. Никого не забыли. Коли стар человек али немощен — все ж силы у него хватит на ляшские головы камень сбросить, врага кипучим варом обдать. Кого поранят, за тем жены и дети ходить будут… Все в святой обители на свое дело пригодятся…
Глава 7 Преступление и наказание

Вечерело. Солнце катилось по зубцам монастырских стен и беспощадно слепило через стрельницы. Ивашка с трудом приоткрыл глаза и сразу зажмурился. От одного движения ресниц в затылке случился маленький взрыв, отдался в ушах, перебежал в виски и весело, но очень больно забарабанил молоточками. Писарь застонал, удивился охриплости собственного голоса и окончательно пришел в себя. Лежал он на высоких полатях монастырской лекарни, в ногах стоял наставник Митяй, а напротив, у окна, сидел на лавке Голохвастов и руками нетерпеливо перебирал шапку-мурмолку, ожидая, когда паренёк очнется. — Голова болит? — сочувственно осведомился младший воевода, — вот и у меня, брат-Иван, она тоже от всяких дум раскалывается, а твоей-то — сам Бог велел. Больно беспокойный ты для писаря. Надысь в посад впереди латинян бежал, сегодня в ход потайной у Водяной башни полез. Что ты там найти хотел? Помнишь, кто к твоему затылку приложился? Ивашка поднес руку ко лбу, ощупал тугую повязку, скривился болезненно… — А тот… битюг, за которым я гнался, так и убёг? — задал Ивашка вопрос и сразу же понял, как глупо выглядит мальчишка, бросающийся в погоню за здоровым мужиком. — Это ж каких битюгов ты гоняешь? — насмешливо произнес Голохвастов, переглянувшись с Митяем… — Да я и не разглядел его толком. Только издалека и со спины. Как услышал разговор у царских чертогов, так сразу хотел к отцу Иоасафу бежать, а потом увидел его в армячине… Меня как торкнуло, вот и пошел за ним… — торопливо, боясь, что ему не поверят, затараторил Ивашка, не обращая внимания на усиливающуюся боль в висках. — Что за разговор? — напрягся воевода. Ивашка честно рассказал, что слышал, посетовал, что из-за обстрела на дворе не видно было никого из знакомых взрослых, признался, что сам не знал, на что надеялся, крадясь за «этим битюгом», сиганувшим в тайный подземный ход, известный только монастырским служкам, да и то не всем. — Стало быть весточку ворогам нашим понёс? — задумался воевода. — Повезло тебе, парень, в рубашке родился. Ход там низкий, не было у сообщника возможности от души замахнуться, да и торопился он, видно, вот и ткнул тебя в затылок кое-как… А догнал бы где в другом месте — лежал бы ты сейчас холодный и рот нараспашку… Воевода вскочил на ноги, сделал несколько шагов взад-вперед по тесному помещению. — Ты вот что, Митяй, — продолжил он, обращаясь к наставнику, — ступай к архимандриту, да узнай, отпрашивался ли кто у него по какой-нибудь надобности из крепости выйти? А мы тут еще немного с Иваном потолкуем. Не успел Митяй выйти, а писарь возгордиться-порадоваться, что зовет его воевода полным именем, как следующий вопрос оглушил его пуще удара дубины. — Скажи-ка, друг мой ситный, — глаза воеводы сделались узкими и злыми, — та перечневая роспись, что вы с Долгоруковым затеяли, никому в чужие руки не попадала? Не велел ли князь лишний список с нее сделать да и передать кому тайно, али оставить в месте условленном? — Да что ты такое говоришь, господин наш воевода… — начал было Ивашка. — Пока ничего, — Голохвастов наклонился, навис над писцом, заставив его вжаться в полати, что есть силы, — я пока не говорю, только спрашиваю. И хорошо бы, брат Иван, тебе честно рассказать, ежели что знаешь, а то, неровен час, добьёт тебя тайный супостат, не желая, чтобы твои секреты кому-другому будут ведомы, или еще хуже — на дыбу попадешь… Сам посуди, как все выглядит нехорошо. В лицо никого не видал, кто за дверью говорил — не знаешь, нашли тебя в секретном лазе, грамотки ты составлял не для посторонних глаз, наряд пушкарский ведал… Ну, кто там еще? — Нашли супостата, — на пороге появился запыхавшийся стрелец из свиты воеводы, — троицкий служка Оська Селевин, забыв Господа Бога, к литвинам сбёг… — Вотоно как! — обрадовался Голохвастов, — Оська, стало быть. Знал такого, Иван? По глазам вижу, что знал! А в монастыре кто из его семьи остался? Как он там говорил — «дай обниму тебя, брат»… Вот братьев и пойдём искать, а заодно сестёр, кумовьёв да своячениц… А этого, — Голохвастов небрежно кивнул на Ивашку, — запереть в подвале, пусть отдохнёт пока, сил набёрется. Дойдет и до него очередь…
* * *
Ивашку заперли в том самом подвале, где хранилась монастырская библиотека, где они с Митяем жили и работали после выселения из скриптория. Самого наставника не было — наверно, нашли ему другое дело или просто запретили общаться с арестантом. Поговорить было не с кем, некому пожаловаться на свою горькую судьбинушку. Писарь помыкался от стены к стене, попенял на несправедливость холодным сводам, да и заснул на знакомой лавке, свернувшись калачиком. Проснулся от забытой и потому тревожной тишины. Впервые за последние две седмицы по крепости не стреляли. Подслеповатое окошко чернело под потолком, стало быть, на дворе стояла ночь. Спать не хотелось ни чуточки. На ощупь нашел кресало и огниво, запалил свечу, полюбовался на тени, пляшущие по стенам, как живые. Походив кругами по библиотеке, подвинул к окошку древний сундук, один из многих, хранящихся в подвале с незапамятных времен, залез на него, встал на цыпочки, пытаясь дотянуться и выглянуть во двор… Хрясь! Одна из ветхих досок треснула, и нога писаря по колено провалилась в черный зев. Охнув и замерев, он осторожно, стараясь не поцарапаться, освободился от обломков крышки, заглянул внутрь, чихнул от взвихрившейся пыли, пошарил рукой и достал свиток, столь древний, что края пергамента лохматились, словно давно не стриженная баранья шерсть, поросшая колтунами. Из-за постоянных поручений, сыплющихся ежедневно, как из рога изобилия, у них с Митяем никак не доходили руки до содержимого этих ларей. Может, хоть сейчас… Аккуратно, чтобы нечаянным движением руки не повредить хрупкий пергамент, Ивашка развернул его на столе, придавил края тяжелыми подсвечниками и погрузился в чтение. «Аше бо не писано будет старцево житие, но оставлено… без въспоминаниа, то се убо никако же повредит святого того старца… Но мы сами от сего не плъзуемся, оставляюще толикую и таковую полъзу. И того ради сиа вся собравше, начинаем писати»… — читал он вслух, а мысли витали вокруг последнего разговора с Голохвастовым, горло душила несправедливость, и злые слёзы падали на свиток одна за другой. — Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного, — послышался тихий голос. Иван вздрогнул от неожиданности — за его спиной, на деревянной, грубо обструганной лавке, прислонившись спиной к почерневшему от времени срубу, сидел седой, как лунь, монах. Штопаная-перештопаная ряса, подвязанная конопляной веревкой, висела на худых плечах бесформенным балахоном. Натруженные руки с узловатыми, покрытыми синими венами кистями, безвольно лежали на коленях. Чуть наклонённая голова закрывала от греха сердце и подчёркивала высокий лоб с глубокими, изломанными морщинами. Внешний вид старца выдавал крайнюю степень утомления, и только впалые глаза, прикрытые белесыми, дрожащими ресницами, не отдыхали, жили напряженной, загадочной жизнью, внимательно изучая писаря. Каждой клеточкой Ивашка чувствовал этот взгляд, аккуратный и сторожкий, настойчиво пронизывающий насквозь. Казалось, что одежда и тело внезапно стали прозрачными, как вода, через которую видны все камни на дне. Точно так же сквозь саму ивашкину сущность сделались заметными все его страсти и грехи, надежно спрятанные в сокровенных уголках души от посторонних. Мурашки побежали по спине. Губы привычно сотворили «Господи, помилуй…». Ивашка размашисто перекрестился, и крест рассёк воздушное марево, сделав видимым пейзаж за спиной старца. Бревенчатый сруб заканчивался высоким, массивным тыном в два роста, убегающим под горку к дорожной ниточке, петляющей среди возделанных полей, а далее распростерся густой, непроходимый лес, нахохлившийся и притихший, как перед грозой… — Ладная година нынче сподобилась, — перехватив ивашкин взгляд, промолвил монах, — вёдро[27]. — Чего? — неприлично шмыгнув носом, переспросил обалдевший писарь. — Четыре дни, как на Маковце вёдро и воздух благорастворенъ, и кротко, и тихо, и светлость вельна зъло, — пояснил старец, — лепота, а ты слёзы льёшь. Не услышав в голосе монаха ожидаемого сочувствия, писарь вспылил, и ему вдруг страстно захотелось во чтобы то ни стало доказать старику, что горюет он совсем не напрасно, а по самой, что ни на есть, уважительной причине. Отступило изумление от внезапного преображения обстановки на летнюю, солнечную деревенскую идиллию, сменившую темный холодный подвал. Испуг и растерянность заместило непреодолимое желание выговориться. Ивашка, торопясь и запинаясь, вывалил на старца свою обиду, не забыв наградить крепким словцом Голохвастова. — Значит, изобидел тебя воевода? — уточнил монах, не меняясь в лице, — это нехорошо. А ты? — И я его обижу! — запальчиво выкрикнул Ивашка, тут же прикусив язык, — хотя пока не знаю — как. — Отомстишь, стало быть? — уточнил старец. — Что ж, твоя воля, — и сразу поинтересовался, — а пошто ты, Иван, облачение монашеское носишь? — Как же? — удивился писарь такому непониманию, — послушник я, постриг принять хочу… — Хорошо, — одобрительно склонил голову старец. — А скажи мне, отрок, ты наперво отомстишь, а потом монашеский сан примешь али наоборот? Ивашка смутился, понимая всё лукавство заданного вопроса, бросил быстрый взгляд на монаха, снова намереваясь обидеться, но старец и не думал глумиться над писарем. Он прикрыл глаза и погрузился в свои мысли, не пытаясь продолжить диалог. — А как быть, отче? — потоптавшись на одном месте, не выдержал паузы писарь. — Тот, чьим именем названа наша церковь, — произнес монах, не открывая глаз, — дал нам волю делать то, что мы хотим, даже если это глубоко противно христианской вере, но своим примером показал, как можно поступать иначе. Ему ничего не стоило отомстить своим обидчикам, стереть их в пыль, но он даже пальцем не пошевелил для этого… Быть великодушным и благонравным легко, сидя на троне, а попробуй-ка, сделай то же самое, вися на кресте… — Голохвастов меня на дыбу хочет отправить, а я его должен… — Уберечь, — коротко ответил монах и опять затих. — Как уберечь? — переспросил мальчик, думая, что старец ошибается. — От чего? — Да хоть бы предупредить о латинянах, когда те на приступ пойдут. — Да когда ж они пойдут-то? — Так сегодня ночью и пойдут. На самом рассвете. Поторопись, Иван, времени у тебя мало. Не сомневайся и не бойся. Не спрашивай «почему я», привыкай к тому, что больше некому. И не жди благодарности, ибо жаждущие признания бросают семя среди терновника. Пустое это, предупреждает нас сын Божий в притче о сеятеле.[28] Помни о том и ступай. Пора тебе. Ивашка хотел поклониться в пояс, но больно ударился головой о притолоку и дернулся всем телом. Очнулся, сидя за столом, уткнувшись лбом в пергамент у потухшей свечи… «Приснится же такое,» — подумал писарь, пытаясь перекрестить рот, и вдруг ахнул, вспомнив про последние слова: «латиняне… приступ… на рассвете…»Глава 8 Приступ

Ивашка вскочил, заметался по тесной библиотеке, подбежал к выходу из подвала, замолотил кулаками. Тщетно. Дубовая дверь на кованых петлях не шелохнулась, надежно гася его попытки привлечь внимание. Писарь сбежал обратно, с надеждой посмотрел на окошко под потолком, еще раз забрался на сундук, попрыгал на нем, пытаясь зацепиться за подоконник, покричал в ночное небо. Без толку. Уцепился за стол, попробовал сдвинуть с места — тяжеловат. От бессилия и беспомощности к горлу подступил соленый комок, а на глаза навернулись слезы. Как же быть? Взгляд упал на лавку, служившую Ивашке постелью. Прикинув длину и расстояние до проёма, он подтащил её к окну, поставил на попа и осторожно опёр о стену. Подтягиваясь на руках и отчаянно елозя ногами по гладкому сиденью, писарь добрался до заветного окошка, просунул голову наружу, скребя носом по земле, и сильно оттолкнулся ногами. Лавка с грохотом упала, лишив мальчика опоры, но он уже выпростал из проёма руку, оперся о стену, кряхтя, вытащил себя из окна и обессиленный упал на землю. Сердце бешено колотилось. Мысли обрывками метались в голове, ища ответа на вопрос — куда бежать. К воеводе? К нему в такой час не пробиться. Прогонят взашей, да еще и выпорют за то, что сбежал из подвала, где велено было сидеть. Даже если князь милостиво его выслушает, что Ивашка ему скажет про неминуемый приступ? Приснилось? Привиделось? Смех, да и только! Писарь взглянул на окно подвала. А если тихо залезть обратно и сделать вид, что ничего не было? Ну что ему, больше других надо? У князя — казаки да стрельцы, это их дело — замыслы неприятельские угадывать и крепость от ворога уберегать. А он-то куда лезет со свиным рылом в калашный ряд? Ивашка прислонился спиной к стене, сполз по ней на землю и тихонько заплакал от отчаяния, посмотрел на светлеющее небо, ища совета и поддержки. Он закрыл глаза, и перед внутренним взором встало бледное лицо Дуняши, так и не оправившейся от жестокого сабельного удара, лежащей недвижимо. Сколько будет жертв, если латиняне ворвутся в монастырь, где коротают осаду сотни слободских да посадских баб… «Поторопись, Иван, времени у тебя мало. Не сомневайся и не бойся. Не спрашивай „почему я“, привыкай к тому, что больше некому», — вспомнились слова праведного старца. Писарь моментально поднялся. «Набат! Вот что надо!» — сказал он себе, с надеждой посмотрев на колокола и очепы[29] Духовской церкви.
* * *
Игнат широко зевнул и поёжился. Длиннополый суконный кафтан, казавшийся летом таким жарким и тяжелым, сделался маленьким, не способным прикрыть мёрзнущее тело. Стены крепости за ночь остыли, отдали накопленное тепло, и прильнуть к ним, опереться спиной совсем не хотелось. Слава Богу, что стражбище заканчивается, и скоро можно будет поставить в пирамиду надоевший мушкет, завалившись спать до обеда. Хвала Господу, ляхи перестали долбить монастырь, наверно, поняли, что мало чего добьются. А может и огненное зелье иссякло… Кто его знает. Внезапно в предрассветной тишине внушительно раскатился звук тяжелого басового колокола. Игната подбросило на месте, а мушкет сам собой лег в руки. Глаза вонзились в предрассветную мглу, не сумев разглядеть там ничего интересного, скользнули по монастырскому двору. Раздавшись, набат быстро затих, но крепость уже ожила. Как шумит лес от набегающего ветра — сначала вдалеке, а потом всё ближе, так и подворье постепенно наполнилось сначала робкими и редкими, а потом всё более громкими, суматошными голосами. То тут, то там вспыхивали факелы и метались над землёй безумными светлячками, сливаясь и превращаясь в поле огненных цветов. Защитники крепости бежали на стены, занимали места у орудий. Мимо Игната прошмыгнули монахи, заменившие свои скуфейки на непривычные мисюрки[30]. Идя в ногу, прошествовали стрельцы из соседского десятка с затинными пищалями, на ходу поправляя берендейки. Грохоча ножнами по лестничным ступеням, пробежали дети боярские. В окружении свиты появился и сам воевода. — Ну что? — нетерпеливо бросил он стрелецкому сотнику, напряженно всматриваясь туда, где тьма скрывала польский лагерь. — Кто бил в набат? Что случилось? — Так то мальчонка-писарь, кому голову ушибли и в холодную спровадили, — запинаясь, оправдывался сотник, боясь поднять глаза на князя, — вот ён сбёг и звонил в колокола, как скаженный. Воевода замер на мгновение, грохнул латной перчаткой по стене, выругался бранно. — А ну-ка тащите сюда паршивца! Ждать долго не пришлось, караульные казаки быстро привели помятого писаря к Долгорукову. — Ты что делаешь, бисов сын, — без вступления напустился на него воевода, — ты с чего это всех на ноги ни свет, ни заря поднял? Батогов захотел? — Поляки на приступ идут, — выпалил Ивашка в лицо князю, подавшись вперед и не опуская глаз, хотя ему в это время хотелось стать маленькой песчинкой и забиться в щель меж камней. — Кто сказывал? Откуда известия? — насторожился князь. — Монах один, — буркнул писарь, понимая, как сомнителен его источник информации. — Монах? — округлил глаза воевода, — а-а-а, ну ежели монах, тогда другое дело, тогда всё правильно, — и крикнул зычно, повернувшись к дружине, чтобы слышно было далече, — погасить фитили! Отбой! Гракхххх… В ответ на слова князя раскатился залп польских батарей. Словно испугавшись их грома, вздрогнули и задрожали крепостные стены, взметнулась вверх и медленно осыпалась на плечи защитников кирпичная пыль и мелкая, протёртая извёстка. Рядом застонал раненый. Почти сразу на польской стороне грохнул ещё один залп, а следом ещё… — А монах-то прав оказался! — пробормотал Долгоруков, оказавшись рядом с Игнатом около стрельницы. — Огня сюда, живо! Факел с просмоленной паклей, игрушечный в массивном кулаке князя, пролетел без малого сотню шагов и уткнулся в пожухлую траву. Будто отвечая на этот вызов, от крепостного рва сухо затрещали мушкетные выстрелы, и весь периметр монастыря опоясался короткими вспышками ружейной пальбы. — Латиняне под стенами! — заголосили дозорные на башнях. — Пали! — во всю глотку заорал Долгоруков, — из всех орудий пали! Не жалей супостатов!! Словно многоголовый Змей Горыныч, полуторные «медянки» подошвенного боя выплюнули двухсаженные снопы огня вперемешку с дробом. Зло, по-волчьи, огрызнулись с серединных бойниц тюфяки. В тон им залаяли в разнобой со стрельниц затинные пищали и мушкеты. Восемьдесят пудов свинца разом обрушилось на аккуратные штурмовые колонны Гетмана Сапеги, дисциплинированно и организованно идущие на приступ монастырских стен. В отличие от защитников Троицы, им нечем было укрыться и негде спрятаться. Монастырская артиллерия била в упор, проделывая страшные бреши в атакующих порядках, но ландскнехты-наёмники, не раз нюхавшие порох, прельщенные рассказами о несметных сокровищах монастыря, упорно лезли вперед, устилая трупами крутые склоны Маковецкой горы. — Отзывайте полки, гетман, — хмуро посматривая на поле боя, произнес иезуит, — схизматики перебьют ваших солдат всех до единого. Я никогда не видел такой плотности огненного боя. — Они обязательно зацепятся, — шептал Сапега, приподнимаясь в стременах и наклоняясь вперед, словно желая лично броситься в гущу баталии, туда, где ядра защитников монастыря превращали в алые фонтаны его людей, где кучей дров взлетали подброшенные могучим ударом, либо заваливались на бок наспех сколоченные турусы[31]. — Мартьяш! — нервно крикнул Сапега офицеру своей свиты, — скачи к батареям, прикажи усилить обстрел. Нужно заставить замолчать крепостные орудия во что-бы то ни стало! Польские пушкари и без понуканий старательно поддерживали атаку. С левой руки две батареи с обрыва Глиняного оврага доставали через Кончуру до Луковой, Водяной и Пивной башен. Центральная батарея, самая близкая к стене, била по Келарской и Плотничьей башням. Батарея правого фланга держала под обстрелом всю северо-западную стену от Житничной башни до Каличьей. Стреляли по вспышкам, едва заметным сквозь предрассветную мглу и густые облака дыма. В сторону Троицы роем летели чугунные ядра, некоторые из них попадали в цель, и тогда в орудийных печурах крепости бушевал шторм, сбрасывая со станков пушки, калеча пушкарей. К пострадавшей батарее сразу же бросались монастырские слуги. Новые орудия тут же занимали место уничтоженных и стреляли, стреляли так часто, как только их успевали заряжать. Палили «куда-то туда» в дым, в разрывах которого плыли побитые свинцовым градом гетманские полковые штандарты. Лютеранская пехота под градом свинца плотными колоннами шла на приступ православной тверди, хотя россыпью добежать можно было быстрее. Но что в одиночку делать на крепостной стене? Всеми забытый Ивашка во все глаза смотрел на разворачивающуюся на его глазах кровавую пляску смерти. Огонь, вылетавший из орудийного жерла, был похож на языки пламени геенны огненной, клубы порохового дымы — на горящую серу — верный признак присутствия дьявола. И среди всего этого адова буйства стояли в дыму специально назначенные архимандритом священники, сосредоточенно и громко декламируя 90-й псалом:«Живый в помощи Вышняго, в крове Бога Небеснаго водворится. Речет Господеви: Заступник мой еси и Прибежище мое, Бог мой, и уповаю на Него. Яко Той избавит тя от сети ловчи, и от словесе мятежна, плещма Своима осенит тя, и под криле Его надеешися: оружием обыдет тя истина Его. Не убоишися от страха нощнаго, от стрелы летящия во дни, от вещи во тме преходящия, от сряща, и беса полуденнаго. Падет от страны твоея тысяща, и тма одесную тебе, к тебе же не приближится, обаче очима твоима смотриши, и воздаяние грешников узриши. Яко Ты, Господи, упование мое, Вышняго положил еси прибежище твое. Не приидет к тебе зло, и рана не приближится телеси твоему, яко Ангелом Своим заповесть о тебе, сохранити тя во всех путех твоих. На руках возмут тя, да не когда преткнеши о камень ногу твою, на аспида и василиска наступиши, и попереши льва и змия. Яко на Мя упова, и избавлю и: покрыю и, яко позна имя Мое. Воззовет ко Мне, и услышу его: с ним есмь в скорби, изму его, и прославлю его, долготою дней исполню его, и явлю ему спасение Мое».Поскальзываясь на настиле, ставшем красным от крови, не обращая внимания на потери, сосредоточенно и хмуро сновали у пушек орудийные наряды. На место выбывших ратников сразу вставали новые. Их работа напоминала Ивашке толоку на постройке дома для погорельцев, только без смеха, песен и прибауток. Напряженно, мрачно, раз за разом повторяли пушкари магический артиллерийский ритуал, непонятный непосвященным в таинство орудийного мастерства. Как только продолговатое медное тело пушки выплёвывало вместе с огнём разящий металл, подскакивало, как живое, укутавшись дымом, и отпрыгивало от бойницы, словно ужаснувшись сделанного, пушкари брали банник — щётку из овечьей шкуры на длинной рукояти — и хорошенько очищали ствол от несгоревших частиц пороха и грязи, оставшихся после выстрела. Хватали шуфлу — совок на длинном древке, дабы зачерпнуть желобком порох из бочонка и потом аккуратно пересыпать в ствол орудия. Забойником — палкой потолще, да подлинней — как следует утрамбовывали порох. Чем заряд плотнее, тем выстрел сильнее, поэтому заряжающий прилежно, не жалея рук, с хэканьем прессовал черную массу, пока другие мастерили пыж из веревки или куска льняной пакли. Получившийся комок тоже плотно забивали в ствол, закатывали ядро, а за ним — еще один пыж, чтобы снаряд случайно не выкатился. Посменно орудовали забойником, уплотняя и поджимая. Чистили запальное отверстие, насыпали туда порох и только потом подкатывали пушку обратно к бойнице, прицеливались. На пальник — этакий большой подсвечник — наматывали фитиль, поджигали, подносили к запалу. Ивашка затыкал уши, закрывал глаза, и всё равно казалось, что в голове взрывается маленький пороховой заряд. В ушах звенело, нос щипало от всепроникающего дыма, а во рту появлялся противный металлический вкус. От взрыва земля под ногами в очередной раз дрогнула, пушка подпрыгнула и откатилась. Видя, что пушкарь замешкался, повинуясь общему сосредоточенному движению, Ивашка схватил банник, намереваясь принять участие в ратном подвиге, но был грубо и обидно отодвинут в сторону. — А ну не балуй! — рявкнул на него приставленный к орудию стрелец, выдёргивая из рук писаря древко, и добавил, грозно насупив брови, — иди, малец, отсюда, пока тебя не пришибли ненароком. Неча тебе тут делать, мал ишо! Третий раз за короткие сутки на Ивашку обрушилась противная, скользкая обида. «Да это же я! Я всех предупредил,» — захотел он крикнуть на всю печуру, но снова вспомнил напутствие старца — не ждать благодарности, развернулся, шмыгнул носом и покорно побрёл, а за его спиной кипела тяжелая и неблагодарная ратная работа, внешне совсем не героическая, изматывающая своей монотонностью, наливающая свинцом мышцы, превращающая голову в пустое ведро без мыслей и эмоций, с памятью незамысловатых механических движений, требуемых для продолжения сражения.
* * *
— Всё! Третий штандарт упал, — бесстрастно констатировал иезуит результаты утреннего приступа, — больше ничего хорошего не случится. Не глядя на гетмана, папский легат тронул поводья. Конь послушно развернулся и шагом отправился к полевому стану, оставив Сапегу в одиночестве наблюдать за избиением штурмовых колонн, в беспорядке откатывающихся от такой кусачей крепости.* * *
— Это что тебя, ядром, да? — Ивашка потрогал свежеперебинтованную голову Игната. — Дурья твоя башка! — выдал стрелец слабое подобие улыбки, — если ядром, так оторвало бы. Стену ляшским снарядом выщербило да меня куском штукатурки и приложило, когда из стрельницы высунулся. Обидно-то как! — проворчал он плаксиво, — бой уже заканчивался. Я так аккуратно мушкет зарядил, чтобы пальнуть подальше, и только выглянул… Ивашка понимающе кивнул, хотя в душе заворошилась зависть. Игнат стрелял, воевал, а его от пушки погнали. — Слушай, Иван! — перешел на шепот стрелец, — ты дюже грамотный, мог бы от меня письмо хорошее девице одной написать. Я лежал и думал, убьют меня дурака — она ничего и не узнает… А так весточка останется. — А сам чего? — Так не разумею я грамоты. Некогда учиться было. Сызмальства в мастерской отцу помогал и в деле ратном. Он ведь у меня десятник стрелецкий… Был… — Хорошо, — кивнул Ивашка, — кому писать-то собрался? — Так Дуняше, — удивился Игнат несообразительности писаря. — Ах вот оно что… Ивашка резко поднялся со скамейки. В ушах зашумел тёмный лес, ладошки вспотели и непроизвольно сжались в кулаки. — Ты чего? — удивился Игнат. «Так она же моя!» — захотелось Ивашке крикнуть в лицо стрельцу, но вместо этого вырвалось глупое и неуместное. — Так она ж неходячая теперь… — На руках носить буду! — огрызнулся Игнат. Ивашка, наконец, пришел в себя, унял дрожь в чреслах, уселся в ногах друга. — Я тоже… — Ах вот оно что, — стрелец понимающе кивнул и отвернулся, — ну, тогда не надо. Тогда извиняй, брат… Ивашке почему-то стало безумно неловко. Болящий воин, побывавший под огнем, смотревший в глаза смерти, просит его о такой малости — грамоту духовную составить, а он тут хвост петушиный распушил… — Ты вот что, брат, — осторожно произнёс писарь, потрогав стрельца за плечо, — ты не так всё понял. Не могу я за тебя письмо написать — знает Дуняша мой почерк… А давай я тебя грамоте обучу, и сам тогда сможешь любую запись составить, какую захочешь. — Ух ты! Точно? Не брешешь? — Вот те крест! — Да ты… Да я… Всё для тебя сделаю, что ни попросишь. — Всё? — строго переспросил Ивашка. — Вот те крест! — с готовностью ответил стрелец. — Научи меня из пищали твоей стрелять! — прошептал писарь, опустив голову и глядя исподлобья. — Я тоже хочу супостата бить! — Добре! — ответил Игнат без тени улыбки, — будет тебе наука стрелецкая. Всё покажу, что сам знаю. Но и ты меня, брат Иван, не подкачай. Хорошо учи! Я тогда еще одну грамотку составлю и отошлю Папе Римскому, поведаю, что творят его слуги в Отечестве нашем. Может проймёт… А не проймёт, так и сам со своей пищалью к нему наведаюсь. Тогда разговор совсем другой будет…* * *
Историческая справка: Первые русские пушки, называвшиеся «тюфяками» или «огнестрельными нарядами», изготавливались кустарным способом из листов кованого железа, которые при помощи кузнечной сварки соединялись на деревянной цилиндрической заготовке. Стволы укреплялись на передвижных деревянных станках. Пищаль затинная — это тяжелое крепостное дульнозарядное ружье. Свое название пищаль затинная получила от древнерусского слова «тын» — ограда, укрепление. Это оружие предназначалось для обороны крепостей, и позднее его стали называть крепостным ружьем.Глава 9 Знамение

Ивашку посадили в торце длинного стола в покоях архимандрита. Долгоруков сел по правую руку, Иоасаф — по левую. Ивашкину попытку вскочить и поясно поклониться мягко пресекли и долго разглядывали писаря, словно чудо заморское. Отрок под придирчивыми взглядами двух высокопоставленных особ бледнел, потел, в конце концов понял, что нестерпимо хочет справить малую нужду, но сообщить об этом не решился, собрал всю волю в кулак и широко улыбался, переводя взгляд со священника на князя и обратно. — Расскажи, сын мой, — речь Иоасафа обволакивала, звучала медленно и мягко, — где ты встретил монаха, что баял тебе про приступ. Как он выглядел и что сказал? Только Христа ради, не прибавляй ничего от себя, чтобы не заплутать в своих сказках. Ивашка с готовностью кивнул, закрыл глаза, чтобы лучше сосредоточиться, и подробно описал все обстоятельства встречи со старцем, его голос, выражение лица, одежду, стараясь быть точным и ничего не упустить. Раскрыв глаза, увидел непрерывно крестящегося архимандрита и удивленного воеводу. — Господи, помилуй, — промолвил Иоасаф, поднялся, прошелся в задумчивости вдоль стола, остановился в красном углу и сотворил еле слышно молитву, не отрывая взгляд от иконы с лампадкой. — Не знаю, Иван, за что благодать сия тебе дарована, — задумчиво произнёс архимандрит, возвращаясь к столу, — но по рассказу удостоился ты узреть самого преподобного Сергия, игумена Радонежского, обители нашей основателя и земли отеческой заступника. Знамение даровано нам, грешным, дабы узреть Божий промысел, в вере укрепить, от греха уныния уберечь. Вслед за архимандритом стал креститься Долгоруков. — Да не-е! — недоверчиво протянул Ивашка, — какой же это игумен, в такой худой рясе… Отощавший, как скелет… — Не суди по внешности, не познав сути, — нахмурил брови архимандрит… — Прости, отче, — воевода поднялся из-за стола. — Я — простой солдат и многое не понимаю, но мне ясно, что благодетеля нашего сегодня в крепости не найти и со всем нашим уважением не расспросить о замыслах латинских. — Увы, князь, — архимандрит тоже поднялся со своего места, — чудо явления не находится во власти человеческой и не может быть предсказано, каким образом и когда снизойдёт. Благодать сия есть тайна великая, грешному человеку недоступная… Долгоруков кивнул, подошёл к Ивашке и потрепал рукой по голове. — Знамо, что не поладил ты с Голохвастовым. Дабы не рядиться с ним в другой раз, будешь при мне неразлучно, как я обещал. Тогда и трогать тебя зазорно будет. Собирай днесь своё узорочье[32] и переселяйся к моей дворне, хватит тебе по подвалам мыкаться! Ивашка поклонился, не зная, кручиниться ему или радоваться, а Долгоруков повернулся к Иоасафу, моментально потеряв к писарю всякий интерес. — Погоди убегать, — остановил архимандрит вскочившего мальчишку, — грамотку учинити надобно. Бери бумагу и перья… Долгоруков с недовольным видом тоже сел обратно за стол. Составление грамот его не вдохновляло, но положение обязывало. — Что отвечать будем, отче, на предложение латинское признать законным царем Дмитрием вора тушинского, присягнуть ему и вручить ключи от обители патриарху Филарету? — спросил воевода буднично. Иоасаф, услышав последние слова, весь подобрался, как волкодав, почуявший дичь. Движения стали резче, черты лица заострились, голова наклонилась, и обычно участливый взгляд стал колючим, бородка вздёрнулась, и казалось, вот-вот превратится в наконечник копья. — Филарету?! Нет такого патриарха в богоспасаемом Отечестве. Есть Гермоген и только он имеет право требовать от обители смирения! Князь запрокинул голову, уперся взглядом в потолок, демонстрируя своим видом, как далёк он от церковной иерархии. — Ты, воевода, глаза-то не закатывай, — разгоряченный архимандрит не желал терпеть княжеское равнодушие, — Романовы — они не на патриаршью панагию претендуют. Они повыше метят! — На престол, что ли? — удивился Долгоруков. — Именно, — хлопнул архимандрит ладонью по столешнице. — С тех пор, как «кошкин род» обосновался у полатей государя нашего Ивана Васильевича, с тех пор, как Анастасия Романовна из рода Захарьиных-Юрьевых стала законной супружницей государя, плетут Романовы козни свои вокруг трона царского рамено и сечительно[33]. — Не навет ли, отче? — недоверчиво покачал головой Долгоруков. — А вот сам посуди, воевода, — Иоасаф понизил громкость голоса, но жесткость не умерил. — Духовнику-иезуиту, пришедшему исповедовать «умирающего», сказавшийся больным самозванец вытащил из-под подушки и подал чудной свиток. В грамотке значилось, что перед польским ксендзом лежит сам сын Ивана Васильевича. А ещё Гришка показал хозяину имения князю Вишневскому крест наперсный, золотой, драгоценными камнями осыпанный, подаренный царственному младенцу его крёстным отцом, боярином князем Иваном Мстиславским. А теперь скажи, воевода, кто в Москве мог грамотку такую сотворити да подарок сежде, подлинным признанный? — А Романовым что с того? Какой прибыток? — Не скажи. Самозванец отблагодарил их сполна. Мёртвых — с почестями перезахоронили, ссыльных — вернули, а монаха Филарета облачили в архиерейские одежды и повелели быть «нареченным» Патриархом Московским и всея Руси.[34] Но ему мало. Не того полета птица — при воре состоять… — Пустое, — махнул рукой Долгоруков, — худородны Романовы. Не поддержит их ни одна фамилия боярская. Мстиславские, Воротынские, Шереметевы, Трубецкие, Черкасские, Голицыны — любые из них родовитее да состоятельнее будут… Никто под руку Романовых не пойдёт — спесь не позволит. — Не поддержат бояре — поддержит посад, — вздохнул Иоасаф. — Филарет — змея, кошкой ласковой обернуться способная, на коленях пригреться, лагодити зело[35], а потом ужалить исподтишка. Архимандрит вздохнул коротко, плечи его опали и глаза погасли, словно исчерпали запас внутренней энергии. — Молиться буду, чтобы управил Господь наш головами боярскими и не допустил поругания Отечества, отдав под власть клятвопреступников и христопродавцев. Пиши, Иван!
«Гетману Сапеге, каштеляновичу киевскому и всем его латинским соглядатаям. Да будет известно вашему темному царству, что напрасно прельщаете вы Христово стадо; и десятилетнее отроча в Троицком монастыре смеется вашему безумному совету. Не изменим ни вере, ни Царю, хотя бы предлагали вы и всего мира сокровища»…
* * *
С Долгоруковым Ивашке работалось хлопотно, но интересно. Тягомотное сидение за переписыванием грамот и книг сменилось круглосуточной беготней по стенам и башням, где воевода наводил порядок, укреплял дисциплину, топал ногами, кричал, рукоприкладствовал, а потом требовал у Ивашки записать-запомнить потребности стрельцов и пушкарей, «дабы способствовать зело сторожкой службе». Ещё более яростные скандалы сопровождали князя при посещении ключника монастыря Иосифа Девочкина. Тот наотрез отказывался беспрекословно выполнять распоряжения воеводы, по первому требованию выдавать необходимое снаряжение и провиант во всё возрастающих количествах. — Я что, для себя прошу? — Долгоруков стучал по столу так, что сотрясался весь пол в казначействе, — мне войско надо одеть, накормить, обиходить, чтобы на стенах не мёрзло и не христарадничало. — Да им, аспидам, сколько не выдай — всё сожрут, — возражал сухонький коротышка Девочкин, пряча за спину связку ключей, — все припасы за неделю схрумкают. А что потом? Зубы на полку? Зима еще не пришла, а амбары монастырские уже наполовину пусты. В монастыре было тревожно не только с едой. Три тысячи человек из окрестных сел, набившиеся за стены обители, нуждались в крове, продовольствии, в теплой одежде, а на такое количество постояльцев монастырские запасы не рассчитаны. Быстрее всего таяли дрова, и не было никакой возможности сократить их расход. Люди грелись у спасительного огня и всё равно мёрзли и болели. Но без круглосуточно полыхающих костров октябрьские холодные ночи не пережил бы ни один сиделец. Гремя ножнами сабли и хлопнув от души дверью, воевода уходил от ключника в расстроенных чувствах, а Девочкин шёл к архимандриту, и старцы, помолясь, отпускали нужное количество кожи и сукна, свинца и пороха, круп, соленьев и другого припаса. Оружейные мастерские спешно меняли фитильные пищали стрельцов на собственные — кремниевые, удобные и дальнобойные. На две трети княжеские запросы монастырь удовлетворял. Все ждали помощи, обещанной из Кремля, с надеждой смотрели на московский тракт, но он был тих и пустынен.* * *
Долгоруков вскарабкался на пузатую Пятницкую башню, четвертую за вечерний обход. Тяжело дыша, опёрся о край стрельницы, наклонившись вперед и прищурившись. Ивашка выглядывал из-за его спины, забравшись на огромный медный котел в сто ведер, заполненный почти до краев застывшей черной смолой. — Ходят? — коротко спросил князь у сотника, провожая взглядом польский отряд, скрывающийся за мельницей. — Ходят, бисовы дети, — вздохнул Иван Ходырев, дворянин из Алексина, прибывший в монастырь со своим отрядом аккурат накануне осады. — Два раза в день — утром и вечером. Доходят до гумна, разворачиваются и обратно… Короткий строй польских жолнежей в синих кафтанах спускался от Терентьевской рощи к Кончуре и брёл неторопливо по берегу речки к запруде. — Плохо, что мельницу оставили, — вздохнул Долгоруков, — муки в обители — кот наплакал. Чем людей кормить? — Худо, — согласился сотник, — да где ж удержать её, когда латиняне так ломят? Постояли минуту молча, глядя на загадочный польский отряд, скрывшийся за мельницей. — Сейчас обратно пойдут, — зачем-то понизив голос, произнёс сотник. Словно откликаясь на его слова, из-за остроконечной крыши показалась голова отряда. — Это не они, — вырвалось у Ивашки, неподвижно замеревшего на чане со смолой. — Как не они? — удивился Долгоруков. — Да ты что, малец, кафтаны да шапки ляшские не различаешь? — усмехнулся сотник. — Кафтаны те же, — согласился Ивашка, опасливо косясь на князя — не заругает ли? — да только сюда шли в чистом, а уходят в грязи вымазанные, словно ночевали в луже, а на сапогах комья свежей земли, как с пашни… А ей там и взяться негде — бережок, песочек да камни. — Ишь ты, глазастый какой! — удивился сотник… — Дошли до мельницы чистые, развернулись и сразу же обратно — грязные… Даже специально тщитися — измазюкаться времени не хватит… Стало быть… — перечислял странности воевода. — Неужто подкоп? — присвистнул сотник. — Меняют копателей латиняне. Одни приходят, другие на отдых направляются… А со стороны кажется, что одни и те же… — Сколько сажен от стены до мельницы? — уточнил Долгоруков. — Меньше сотни. И бережок там крутой, от нас закрывает, копать удобно… — Вот и появилось у нас неотложное дело… — упершись взглядом в мельницу, словно пытаясь проникнуть сквозь твердь, произнес воевода. — Беги, Иван, к детям боярским, скажи, я распорядился — пусть выходят со своими сотнями Иван Есипов, Сила Марин, Юрий Редриков, Борис Зубов да Иван Внуков. Давно просили меня потешиться, пусть разомнутся… Молодец, Ивашка, не иначе ангел поцеловал тебя, дабы узреть нам коварство литовское.* * *
Ворота открыли, когда быстрый осенний день подходил к концу, вблизи крепости прекратили гарцевать разъезды лисовчиков, и со стороны польского лагеря потянуло ароматным варевом. — Ну, с Богом! — Иоасаф размашисто перекрестил всадников, построенных в колонну по два. Голохвастов поднял руку, кивнул, и переславские, владимирские, алексинские сотни лёгкой рысью, без лишнего шума минули Красные ворота, устремившись к мельнице и охватывая её с обеих сторон. Сверху, с высоты Пятницкой башни казалось, будто серые ручейки потекли по жухлой траве, и только изредка под епанчами, как рыбий бок в омуте, отсвечивали фамильные шамахейские шолома и бахтерцы, наручи и батарлыки, навоженные золотом и серебром. Вслед за кавалерией, переваливаясь на ухабах, покатились крестьянские телеги, тяжело груженые зерном. Монастырские служки торопились воспользоваться оказией и, пока дворяне ратятся, намолоть как можно больше муки. Последней из крепости вышла стрелецкая сотня Вологжанина с предписанием стать крепким тылом и опорой поместной кавалерии, занять позиции вдоль речки Кончуры, поддержать детей боярских на обратной переправе огнём своих мушкетов, не дать перерезать беззащитных мукомолов. Польский наряд, ковыряющийся в земле, умиротворенный спокойной жизнью, особо не потревоженной до сегодняшнего дня, вечернюю вылазку откровенно проспал. Когда речушка забурлила под сотнями конских копыт, со стороны мельницы раздались истошные вопли тревоги, затем под высоким берегом послышался лязг стали. После короткой схватки жалкие остатки жолнежей пустились наутёк, преследуемые радостно кричащими всадниками. — Куда! Стоять! Назад! — разорялся в башне Долгоруков, опасаясь засады. Но разгоряченные погоней ничего не видели и не слышали. Азарт легкой победы над застигнутыми врасплох копателями, не добравшимися до огнестрельного оружия, вскружил головы лихим, застоявшимся без дела дворянам, и они, настёгивая коней, спешили превратить бегство противника в его полное уничтожение. Польский лагерь, пребывавший в предвкушении плотного горячего ужина, быстро опомнился, зашумел, разорвал сумерки громкими отрывистыми командами, призывными звуками горна, намереваясь как можно быстрее отравить московитам радость победы. Та-дах! — впопыхах и не прицельно, больше, чтобы напугать, чем попасть, громыхнули пушки со сторон Терентьевской рощи. Над головами взвизгнул тяжелый дроб, вспенил воду, словно великан огромной ладошкой шлепнул по речной глади. Затарахтели вразнобой караульные мушкеты, слишком слабосильные, чтобы дотянуться свинцом до русской кавалерии. А из-за свежего частокола выметнулась дежурная сотня полковника Лисовского, устрашающе визжа и улюлюкая. Голохвастову на ходу пришлось принимать спешное решение. Лисовчики наверху, в идеальном положении для атаки, но их пока мало. Его сотни внизу и забираться в гору неудобно, рискованно. Но враг пока в меньшинстве, и есть шанс разбить литовское войско по частям. Навязать ближний бой означает не дать расстрелять себя из пушек. От артиллерии исходит самая большая опасность и до неё не больше сотни шагов! Стоит только смять вражеский заслон… — Гойда! — поднявшись на стременах, закричал Голохвастов, вскидывая над головой саблю. — Гойда! — взревели дворянские сотни, поворачивая головы в сторону командира. Взмахнув клинком и вытянув его в сторону неприятеля, воевода повернул коня и тронул шпорами его шелковистые бока.* * *
Ивашка вцепился в княжеский кафтан и прикусил губу, глядя на два стремительных потока, набегающих друг на друга в лучах малинового заката. Удивительно, но его обида и ненависть к Голохвастову пропала. Он уже не желал зла воеводе, а сжав кулаки, неотрывно глядя на лихого воина, шептал непрерывно «Господи, помилуй!», моля за того, кто доставил столько неприятных и горьких минут. Голохвастов шёл в атаку впереди дворянских сотен, и Ивашка понимал, как много зависит от этого человека в начавшемся сражении. Выстроившись пологим уступом и удобно разогнавшись под горку, лисовчики глубоко вклинились в русский строй, почти разрубили его, но увязнув во второй линии, закрутились, потеряли темп. Две волны, встретившись, закипели, взорвались конским ржанием и лязгом стали, превращаясь на глазах в несколько водоворотов из легкой польской конницы, проигрывающей русской в броне и численности. Связанные боем, лисовчики отчаянно рубились, но не могли помочь пушкарям, во фланг которых во весь опор летела резервная сотня Голохвастова. Дети боярские, разухарившись, скакали к беззащитным польским пушкам, не скрывая своего торжества, награждая обидными эпитетами разбегающихся в разные стороны пушкарей, не успевших нанести серьезный урон дерзким московитам. — Вот оно — знамение! Сбывается, — воевода сжал кулаки и резко повернулся к сотнику. — Всех, кто не на стенах — на вылазку! — зычно скомандовал он, увлеченный открывшейся перспективой ощипать надоевшую артиллерию противника. — Что можно — тащите в крепость, что нельзя — заклепать и пожечь! Снова открылись крепостные ворота и бесформенная ватага вчерашних крестьян, подбадривая друг друга громкими криками, размахивая топорами и дубинами, двинулась туда, где разгорелась сеча, рискующая превратиться в генеральное сражение.Глава 10 Схватка

Примерившись к бочонкам с порохом и поняв, что вряд ли поднимет их по ступенькам, Ивашка вцепился в кожаный мешок, закряхтел, потянул на себя, но в одиночку с такой тяжестью не справился. Он завистливо посмотрел на кряжистого клементьевского крестьянина Петра Солоту, c легкостью ворочавшего пузатые двухпудовики. — Быстрее! Быстрее, братцы!! — торопил монастырских слуг и селян стрелецкий десятник, — зелье огненное ещё довезти надоть, да в лаз уложить, да фитиль подвести — подпалить, а латиняне, слышь, как наседают! За стенами монастыря непрерывно грохотала артиллерия. Не достреливая до Терентьевской рощи, где сотни Голохвастова добивали лисовчиков, польские батареи с Красной горы засыпали ядрами монастырский двор и выезды из крепости, стараясь помешать подходу подкреплений к участвующим в вылазке. С Красной горы, не обращая внимания на огонь монастырских пушек, спускались по направлению к мельнице густые колонны гетманской пехоты. Идти было не близко, терпя по дороге пальбу из Водяной и Пятницкой башни, но намерения их были понятны, а действия решительны. Отдавать осажденным плоды двухнедельного труда — почти законченный подкоп — поляки не желали. Стрелецкий караул, составив в пирамидумушкеты и засучив рукава, включился в работу. К Ивашке подскочил Игнат. Вместе они понесли к возку неподъемный мешок, оставляя за собой тонкую черную струйку из пороховых зернышек, внешне совсем не опасных, дружно хэкнув, водрузили на телегу. — Ну всё, достатошно, более не сдюжит, — покачал головой старший над извозом Никон Шилов и тронул поводья, — все с зерном на мельницу поехали, одна эта горемыка осталась. Н-н-но, родимая! Крестьянская кляча напряглась, затанцевала в оглоблях. — Помогай, робята! — кликнул Игнат. Десятки рук вцепились в телегу и тронули с места. — Пойду-ка я с тобой, Никон, — почесав затылок, вымолвил Пётр Солота, — колесо в ямку попадет — встанет окаянная посреди поля. Что делать будешь? Придется на руках зелье в лаз носить! — Не ходил бы ты, Пётр! — прозвенел над ивашкиной головой тревожный женский голос. Писарь обернулся и увидел у сеней статную молодую крестьянку, держащую на руках грудничка. За подол её уцепилась девчоночка лет пяти со светлыми косами и почти черными миндалевидными глазами, поразительно похожая на мать, облаченная в одинаковую с мамой синюю однорядку[36], отличаясь от женщины лишь головным убором. На голове крошки красовалась шелковая лента, называемая челом или челкой, украшенная на лбу шитьём. Такие же ленты были вплетены в косицы. Материнскую голову покрывал крестьянский повойник — легкая мягкая шапочка из цветастой материи, сползшая чуть набок, отчего стали видны русые волосы. Привычный для крестьянского сословия убрус[37] отсутствовал, а вместо него красовался символ замужества — кика с мягкой тульей, окруженная жестким, расширяющимся кверху подзором. Указывая на зажиточность хозяйки, головной убор был крыт яркой шелковой тканью. Из-под него кокетливо выглядывало шитое жемчугом чело и спускающиеся к ушам серебряные рясны в виде колокольчиков. Они чуть подрагивали, соприкасались металлическими частями и тихо цвиркали, словно крошечные птички. — Шла бы ты, Злата, — нахмурился Пётр, — ишо детей притащила. Это что ж я Никона одного отправлю с энтой ледащей скотиной, — он презрительно посмотрел на клячу, — а сам за твой подол держаться буду? Да меня куры засмеют! — Нехорошо мне, Петя, муторно! — не отставала от силача жена, — на сердце с утра камень лежит, не к добру это… — Цыц, дурище! — повысил голос Солота, — камень у неё… Доведут ляхи подкоп до стен, рванут зелье огненное — точно будет не к добру. Кровью и слезьми умоемся. Нет уж, душа моя! Надо мне идти! Обязательно! — Всё, пойдем, — хмуро кивнул десятник, — пока без нас есть кому на стенах стоять. У подкопа мы нужнее, а гуртом и батьку бить легче. — Ну-ка, взяли! — басом прогудел Шилов. Телега, скрипя и рискуя развалиться, покатилась к Красным воротам, за которыми злобными мячиками скакали ядра польских орудий.
* * *
Уничтожив сторожевую сотню Лисовского и разорив ближние батареи в Терентьевской роще, Голохвастов не остановился, рванул на плечах убегающих поляков к Волкушиной горе, через которую проходил тракт на Москву. Дети боярские, нахлестывая лошадей, на одном дыхании проскочили редкий лес. Расстроив ряды и превратившись в бесформенную ораву, они выехали на открытое пространство, где нос к носу столкнулись с тяжёлой конницей Сапеги — знаменитыми крылатыми гусарами. После первых панических докладов гетман правильно оценил источник угрозы и без промедления направил к месту прорыва самые сильные резервы. Польская хоругвь стояла нерушимо, как вкопанная. Со стороны казалось, что это не люди, а замершие валуны, с навьюченными на них, начищенными до зеркального блеска, посеребрёными доспехами. За их спинами жались, словно шакалы за матерым волком, остатки растрепанных лисовчиков, чуть дальше — в трех верстах — спешили на поле боя алебардщики. — Братцы! Пока поляки не разогнались, бей их! — закричал Голохвастов, пришпоривая коня. — Гойда! — закричали сотники, и кавалерийская масса, пытаясь на ходу выровняться по фронту, бросилась в свою последнюю атаку. «Почему они стоят? Почему не опускают пики?» — удивленно подумал Голохвастов, и в тот же миг польский строй дрогнул, двинулся, начал раздаваться, расходиться вправо-влево, обнажая прячущиеся за их спинами хищные жала орудий и дымящиеся фитили в руках пушкарей. — Ах вы, бисовы отродья! — закричал воевода. Грохнул слаженный залп, плеснул в лицо поместной кавалерии свинцом, и всё поле перед батареей заволокло белым вонючим дымом.* * *
Чуть не столкнувшись в воротах с телегой, перевозившей намолотую муку в монастырь, повозка с порохом круто приняла вправо, и подскакивая на выбоинах, покатилась к берегу Кончуры, где работали лопатами монастырские служки, увеличивая проходы в лаз. На Красной горе в очередной раз грохнули пушки, и над головой пронесся хорошо знакомый шелест ядра. Но сейчас толстые крепостные стены не защищали мальчишку, и казалось, будто все польские пушки целятся в лицо и хотят убить именно его. Во рту пересохло, спина промокла, ноги налились свинцом и отказывались идти. Ивашка схватился за телегу, чтобы не отстать и не выдать свою робость. Украдкой взглянув на Игната, он заметил, с какой опаской стрелец поглядывает на шлепнувшиеся в осеннюю грязь ядра, хмурится, пригибается, и немного успокоился, убедившись, что не его одного дерет по коже и парализует ужас близкой смерти. — Не кручинься, хлопцы! — подбадривал обозников десятский, — с ентого расстояния он прицелиться не может. Лупит для острастки в белый свет, как в копеечку. Вполуха слушая командира, хлопцы хмуро поглядывали в сторону неприятеля и сильнее налегали на повозку, стараясь помочь выбивающейся из сил лошадёнке. Каждый понимал, залетит раскалённое шальное ядро в их поклажу — рванёт так, что не останется, кого отпевать. Оно вроде бы и неплохо, если не мучиться, но надёжи не добавляет. Навстречу крошечному обозу с десятком стрельцов непрерывным потоком брели ратники, толкали и тащили взятые в полон пушки, несли собранное на поле боя оружие, волокли разобранный тын и недостроенные турусы. Обгоняя пехоту, от мельницы в обитель спешили повозки с мукой. С завистью глядя на упитанных тяжеловозов, Шилов вздыхал и дергал за повод лошадиную морду: «Н-н-о-о, пошла, хупавая!» Лошаденка честно упиралась костлявыми ногами, тяжело водила боками, но безжалостное время и плохое питание работали против неё. Телега еле телепалась по бездорожью более за счёт человеческих, а не конских усилий. В это время польские пушкари на Красной горе разглядели групповую цель и стали класть ядра не абы куда, а конкретно в сторону еле ползущего по полю обоза. — Быстрее, хлопцы, быстрее! — понукал обозников десятский, орудуя бердышом, как рычагом и хмурясь каждый раз, когда пушечное ядро, шипя, шлёпалось особенно близко. — Ну, вроде добрались! — выдохнул Никон, разворачивая телегу боком к берегу. — Слава те, Господи… Пронзительный свист снова разорвал осенний воздух. Очередное ядро рухнуло на землю, упав на что-то твердое, раскололось, отрекошетило, ударив несчастную клячу снизу вверх с такой силой, что приподняло над землей, оборвало постромки и отбросило на несколько шагов, перевернув телегу и вывалив драгоценный груз в грязь. Ивашка, счастливо отскочивший от падающей поклажи и повозки, присел от неожиданности, но почти сразу вскочил, поднятый на ноги лошадиным воплем. Кляча кричала совсем по-человечески, заходилась, захлебывалась, делала булькающий вдох и снова исторгала из себя разрывающие душу звуки, а землю застилал сладковатый противный запах свежей крови и внутренностей, знакомый Ивашке по монастырской скотобойне. Взглянув на несчастное животное, разорванное почти пополам беспощадным снарядом, писарь неожиданно почувствовал, как невидимая сила бросает его на колени и выворачивает наизнанку. С Игнатом и парой стрельцов помоложе случилось то же самое. — А ну встать! — заревел десятник, зеленея лицом, — хватай мешки и бочки, волоки в лаз! Шевелитесь, курощупы, а то все здесь останемся. Ивашка, плохо соображая, повинуясь начальственному рыку, уцепился за ближайший бочонок с порохом, покатил по траве к брустверу из свежей земли, куда успели спрыгнуть Шилов с Солотой. — Давай-давай! Шибче! — кричали они снизу. Что-то говорили стрельцы сбоку и сзади, не переставая, орал десятник, плакала лошадь, и вся эта какофония действовала на писаря, как допинг, заставляя двигать бочонок быстрее, а докатив до траншеи, бегом бросаться обратно — за остальным огненным припасом. Лошадь перестала кричать. Она смотрела на Ивашку безумным лиловым глазом и, тихо хрипя, грызла беззубыми деснами сырую землю, изредка дергая головой и дрожа всем телом. Палые листья, пожухлая трава, чернозём, кровь и слюни смешались под её трясущимися губами в отвратительное коричнево-красное месиво. Оно пузырилось каждый раз, когда лошадь делала судорожный выдох. Снова почувствовав рвотный позыв, писарь отвернулся от несчастной животинки, зацепил пальцами знакомый мешок, потянул по траве, зажмурившись и отчаянно желая заткнуть уши. — Наших побили у Волкушино! — раздался тревожный крик от мельницы. — Тикать надо быстрее! Рать несметная сюда намётом скачет! Ополченцы, деловито обиравшие разгромленный польский лагерь и, как мураши, волокущие по тропинке в монастырь полезные вещи, побросали свою добычу и одной серой массой со всех ног повалили к переправе, не разбирая дороги. Среди этой толпы, то тут то там, малыми островками выделялись дети боярские, все как один изодранные, окровавленные, еле держащиеся в сёдлах от усталости и ран. В целом войско производило удручающее впечатление, если бы не стрелецкая сотня Вологжанина, охраняющая переправу и сохраняющая строй среди общей паники, излучающая спокойствие и уверенность. — Гордей! — повелительно крикнул десятнику стрелецкий голова, — бросай бочки, пусть чадь да слуги зелье носят и в лаз складывают. Вставай со своим десятком на правый фланг. Боюсь — не удержим мы латинян, тогда все труды и смерти наши напрасными будут.* * *
Взглянув с высоты Пятницкой башни на ошмётки поместной кавалерии, Долгоруков зарычал от досады «я же предупреждал!» Князь тряхнул головой, сбрасывая морок злорадства. Сам был отчаянным рубакой и понимал, будь на месте Голохвастова — поступил бы так же, повел бы сотни на удачу, а там — как Бог пошлёт. В этот раз Господь решил делить военный успех пополам между православными и католиками. Та самая гусарская хоругвь, выманившая на пушки конницу Голохвастова, строилась в боевые порядки у Келарева пруда, намереваясь одним ударом добить участвующих в вылазке и вернуть контроль над вожделенным подкопом. «Что ж они медлят, чего ждут?» — мучительно думал Долгоруков, втайне радуясь каждой секунде промедления поляков. — Тяжко, воевода? — раздался за спиной негромкий голос архимандрита. — Не то слово, отче, — выдохнул Долгоруков, не отрывая взгляд от польской тяжелой кавалерии. — Совсем скоро они построятся, двинутся единой стальной цепью. Сначала шагом, рысью, затем галопом. И тогда в чистом поле ничем не спасешь наших ратников и стрельцов от их таранного удара, за крепостными стенами не успеют скрыться. Всех насадят на пики, как куропаток на вертел. И заряд в подкоп не подведён. И задержать ляхов больше нечем, дворянские сулицы да сабельки супротив гусарских пик не сдюжат. — Значит надо звать тех, кто сдюжит, — Иоасаф встал рядом с воеводой, — «ищите, и обрящете: толцыте, и отверзется вам»[38]… — Отче, как не вовремя ты со своей проповедью, — раздраженно отозвался Долгоруков. Его глаза пробежали по ровной черной линии, пересекающей поле от Красных ворот до мельницы. Князь решил, что натрудил глаза, сморгнул, но черная линия не пропала, а стала отчетливым и понятным строем всадников в знакомых клобуках с блестевшими из под них доспехами и с полноценными рыцарскими лэнсами, конец которых доставал до среза крепостных стен. — Нифонт всё предусмотрел, — словно угадав мысли князя, кивнул архимандрит, — они почти на аршин длиннее польских пик. — Дай-то Бог… — начал было воевода, но не договорил. Пронзительный горн с польской стороны протрубил начало атаки. Белые крылья за спинами гусаров колыхнулись. Держа равнение, тяжелая конница начала неумолимый разбег. Навстречу ей неторопливо двинулся вдвое уступающий по численности чернецкий полк. Словно две птицы, распростёршие крылья над луковым полем, приближались друг к другу непримиримые силы. Сосредоточенно взрывая копытами влажную почву, несли боевые кони своих седоков к одному короткому мгновению сшибки. Это так несправедливо — годами отрабатывать атаку и защиту, выбирать и осваивать оружие, учиться взаимодействовать с боевыми товарищами, чтобы потом всего за мгновение победить или умереть. Годы тренировок и всего секунда на поле боя, где одна ошибка поставит крест на всей жизни. Что может быть сакральнее и страшнее? Гусарская хоругвь перешла на рысь, выровняла и теснее сомкнула ряды, сжалась, словно кулак, летящий в лицо врага. Чернецкий полк тоже прибавил скорость, на ходу перестроился клином и стал похож на стрелу, направленную ровно в центр гусарского построения. Долгоруков был раздосадован, глядя на сомкнутый строй врага. Его поместная кавалерия, набранная из детей боярских, не могла похвастаться ничем, хоть отдаленно напоминавшим такие слаженные действия. Представители знатных родов считали ниже своего достоинства оттачивать групповые перестроения, бесконечно повторять одно и то же движение, дабы довести до совершенства точность выполнения команд. Все были слишком независимы и себялюбивы, чтобы подчинять своё «я» коллективному разуму. Каждый хотел снискать личную воинскую славу, никто не желал делить победу с окружающими. Князь украдкой взглянул на архимандрита. Глаза Иоасафа были закрыты, губы неслышно шептали молитву. Воевода удивился бесстрастному и умиротворенному выражению лица священника, пожалел, что не может достичь такого же хладнокровия. Вздохнув, повернулся к стрельнице, закусил губу, чтобы не закричать от волнения, и вновь прилип взглядом к военному ристалищу. На поле боя кавалерия перешла на галоп и стремительно сближалась, поглощая в секунду несколько десятков шагов. Долгоруков понял, почему Нифонт Змиев выбрал именно такой тактический приём, известный еще со времен Александра Македонского. Существует расхожее мнение, что в клине вся мощь концентрируется на острие, на первом всаднике, и от его индивидуального мастерства зависит весь успех сшибки. Однако это совсем не так. Натиск клинообразного строя воздействует на врага прежде всего психологически. Когда кавалерия атакует, выстроившись в сплошную линию, противник осознает, что увернуться от удара не удастся, и остаётся только стойко его принять. В случае с ударом клином, воины, на которых направлено остриё, испытывают иллюзию, что есть возможность уклониться и начинают интуитивно смещаться в сторону, неосознанно образуя брешь в строю. В созданный разрыв врезается первый всадник, вскрывает неприятельский фронт, и начинается разгром. Польские гусары были отважными, обученными воинами из живой плоти с нормальными человеческими инстинктами. Встретив непривычную, забытую форму атаки, они поддались своим естественным чувствам. Гусарский строй дрогнул, раздался совсем чуть-чуть незаметно для окружающих, и в ту же секунду длиннющие рыцарские лэнсы вынесли из сёдел центр хоругви. Чёрная стрела чернецкого полка разрезала на две части прямую линию польской кавалерии, сбрасывая на землю и топча конями седоков с белоснежными крыльями из орлиных перьев — украшение и символ непобедимости войска польского.Глава 11 «И дольше века длится день…»

Воевода застыл у стрельницы, боясь моргнуть и пропустить хотя бы миг из происходящего на поле боя. С высоты десяти сажен Пятницкой башни весь ход сражения виделся, как на ладони, и маневры монашеского полка завораживали. Пробив брешь в центре польского строя, чернецкая стрела сложилась, схлопнулась в колонну по двое, превратилась в тонкое шило и как нитка сквозь игольное ушко проскочила через плотные порядки польской кавалерии. Бронированный кулак гетмана Сапеги ударил в пустоту. Гусары на всём ходу осаживали коней, разворачивались, пытаясь ухватить юркий хвост противника, просачивающийся сквозь рукотворную прореху, как песок сквозь пальцы. Строй хоругви окончательно сломался, превратившись в две кляксы неправильной, продолговатой формы, а в это время за их спиной чернецкая конница разделилась, разошлась налево-направо огромным раскрывшимся вороным цветком. Черные крылья монастырского полка развернулись, охватили потерявших скорость гусар, стиснули их в своих объятиях. Издали казалось, словно два смоляных потока омывают белые крылья польских всадников, и они тревожно колышутся под этим напором, неумолимо клонятся к земле и падают в осеннюю грязь, выбиваемые из седел неведомой силой. — Чёрная лилия, — прошептал Долгоруков, не отрывая глаз от поля боя. — Вот тебе и стропо́та[39]… До сего дня он считал красивой легендой рассказы своего учителя про удивительную тактику византийских катафрактов[40], доведенную до совершенства русскими витязями — дружинниками былинных князей Олега и Владимира, а сегодня узрел её воочию там, где не ожидал. Среди боярско-княжеской знати европейская военная школа считалась образцовой и непревзойденной. Польской тяжелой конницей — крылатыми гусарами — принято было восхищаться, снисходительно поглядывая на собственное войско. Но на глазах воеводы монастырские богомольцы в черных клобуках рвали, как ветошь, лучшую кавалерию Европы, попирая все представления современной отечественной знати об образцах воинского искусства и доблести. Князю больше всего на свете захотелось оказаться среди этих всадников в чёрном, рубиться бок о бок с ними там, в гуще сражения, а не пялиться на сечу, как римский патриций на бой гладиаторов. — Коня! — резко произнес Долгоруков, надевая шлем. — Сечу скончати скоротещи[41] надобно, пока польские алебардники да мушкетеры не подтянулись… — Коня воеводе! — побежал вестовой вдоль стены, сломя голову. Зашевелилась свита, заскучавшая у входа в Пятницкую башню. Развернулся и затрепетал на ветру штандарт воеводы, словно желая взлететь. Пушкари засуетились, стараясь прилежнее засыпать ядрами польскую инфантерию, приближающуюся к месту баталии.
* * *
В польском лагере на Красной горе царила деловая суета, граничащая с паникой. — Что это! — не сдерживаясь и размахивая руками, как ветряная мельница, орал в лицо собеседнику гетман Сапега, — я вас спрашиваю, отец Флориан? Вы божились, что кроме поместных сотен, в монастыре нет конных войск! Кто же тогда сейчас уничтожает мою гордость? Что вы молчите? Это, по-вашему, богомольцы? Ответьте что-нибудь! Лицо иезуита, холодное и неподвижное, как скала, озаряла непонятная, блуждающая улыбка. Хищные глаза смотрели сквозь Сапегу туда, где на луковом поле чернецкий полк добивал гусарскую хоругвь. Не пытаясь сблизиться для сабельной схватки, чернецы крутили карусель вокруг сбившихся в кучу поляков, и их длинные рыцарские лэнсы раз за разом выхватывали себе жертву из толпы, нанося беспощадные удары, выбивая из седла всадников или валя их вместе с лошадью. — «Te invēnī. Tandem inveni te»[42], — шёпотом произнёс иезуит, комкая замшевые перчатки, и добавил, обращаясь к Сапеге, — это действительно богомольцы, гетман, самые обычные монахи, такие же, какими были тамплиеры и тевтоны на службе Ватикана. Не думал я, что своими глазами снова смогу их увидеть. Да прекратите вы суетиться! Успокойтесь! Войско нервничает, глядя на вашу беготню! Сядьте! У короля ещё достаточно хоругвей, а эти русские схизматики скорее всего последние в своём роде, жалкие осколки былого могущества гнезда Радонежского. Обнаружив себя, они положили голову на плаху, и гибель ваших гусар — небольшая цена за полное искоренение этой ереси.* * *
Всего в сотне шагов от Ивашки скрежетала металлом о металл жестокая кавалерийская схватка, взрывала воздух криками и ржанием, копытила землю и обильно поливала её кровью. Он ничего не понимал в происходящем, но какое-то шестое чувство подсказывало — наши ломят. Всё чаще слышались панические крики на польском языке, и среди белых гусарских крыльев мелькало знакомое облачение чернецов. Сеча понемногу смещалась в сторону польского лагеря — командир хоругви пытался со своими соратниками пробиться к спешащей ему на выручку инфантерии. Повеселевшие ратники с удвоенной энергией тащили в крепость мешки с мукой, найденное в польском лагере продовольствие, гнали потрёпанных пленных, периодически награждая их пинками и подзатыльниками. Шилов с Солотой, сопя и кряхтя, таскали в подкоп бочки с порохом. — Охолонись, малец, — покачал Солота головой, пресекая слабосильные попытки Ивашки включиться в работу, — неча тут капитися. Лаз узкий — не покатишь, ривати али извлечи[43] надобно, а ты вон какой мухортый — не сдюжишь. Сами управимся. Ивашка обиделся, хотел сказать, что никакой он не хилый и слабосильный, но в это время у переправы грохнуло, повеяло пороховой гарью. Писарь, сам не понимая зачем, выпрыгнул из траншеи и опрометью бросился к стрельцам. Со стороны Волкушиной горы, растянувшись от мельницы до Келарского пруда, на помощь гусарам поспешали свежие сотни полковника Лисовского. Сам литовский шляхтич в заломанной на затылок шапке-магерке, украшенной орлиным пером, в желтых сапогах и красном кунтуше с галунными петлицами-нашивками, украшенными плетеными розетками с кистями, восседал на игреневом скакуне на возвышении у Терентьевской рощи под тем самым дубом, где пряталась от дождя Дуняша. Рядом с ним развевался штандарт Лисовских с фамильным гербом — чёрным ежом на багряном поле. За спиной полковника застыли горнист и вестовой. Сминая островки крестьянских ратников, ощетинившихся рогатинами и вилами, лисовчики рвались к переправе и неминуемо попадали под сосредоточенный огонь стрелецких пищалей. Вологжанин построил своих подчиненных в идеальный квадрат — десять на десять. Перекрывая от силы треть переправы, сотня в таком виде могла вести непрерывную стрельбу по фронту, выкашивая постоянным огнем легкую кавалерию. Первая линия давала залп и сразу отходила назад, на заряжание, освобождая фронт изготовившейся к бою второй шеренге. Моментально звучал следующий залп, и второй ряд бойко менял позицию, чистил стволы, опустошал берендейки с порохом и пулями. К тому времени, как заканчивала стрельбу последняя, десятая линия, первые, зарядив пищали, готовились снова открыть огонь. — Не стойте в дыму, остолопы! Не видно ж ни зги! — распалялся Вологжанин, досадуя на не сообразительных подчиненных. Десятники! Глаза пропили? Командуйте — десять шагов влево против ветра! Пали! Пятикилограммовые пищали на подставках дергались, как живые. 20-граммовые мушкетные пули пробивали стальные кирасы на расстоянии 300 шагов и могли наносить раны на расстоянии до 600. И опять же — река! Неширокая, неглубокая, она всё равно заставляла всадников замедлять ход. Задние налетали на передних, фланговые сокращали фронт, стремясь попасть на отмель, и этого было достаточно, чтобы создать на переправе кучу-малу, где каждый выстрел находил свою цель. Даже великому храбрецу идти в лоб на плюющийся огнем и обжигающий свинцом пехотный строй панически страшно. Лисовчики старались выйти из под обстрела, меняли направление атаки, но ширины брода — всего сто шагов — не хватало для обхода кусачей стрелецкой сотни. Когда переправа превратилась в завал из трупов лошадей и всадников, это, наконец, понял и Лисовский, повелев сыграть отбой. Он тронул поводья, и багряный штандарт медленно поплыл под сень вековых деревьев Терентьевской рощи. Столкновение завершилось так же неожиданно, как и началось. — Что будем делать, Михеич, — спросил десятник Вологжанина, провожая взглядом литовскую конницу, — стоять здесь будем, али делом займемся? Вон, смотри, как на луковом поле горячо нонче! — А что тут сделаешь, Гордей, — раздраженно бросил сотник, — на двух ногах за ними, четвероногими, не угнаться. Уйдем с переправы — они развернутся и снова тут как тут. — Пособить бы нашим, — вздохнул десятник, глядя с тоской, как медленно, но неумолимо редеет чернецкий полк, сцепившись с гусарской хоругвью, а к ним быстрым шагом с Красной горы уже подходит выбранецкая пехота, правой рукой придерживая длинные алебарды-дарды, а левую положив на эфес сабли-венгерки. Гремели походные барабаны, в такт им качались султаны на магерках, украшенных аграфами. Синие жупаны и делии сливались в одну сплошную массу, создавая иллюзию единого тысячеголового и тысячерукого существа. — Умеешь ты душу разбередить, Гордей! — выплеснул Вологжанин на десятника своё раздражение и тут же повернулся к сотне. — Слушай мою команду!..* * *
— А мы что? Хуже дерёмся? Огорчению Игната не было предела. Его с десятком юнцов оставили охранять пустой брод, а сотня уходила к луковому полю помогать чернецам Нифонта Змиева. — Ну-ка, придержи язык, негораздок, — сдвинул брови десятник, — дело твоё — телячье, обделался и стой, где сказали! — Я не обделался! Я лучше всех из пищали бью. Сегодня ни разу не промазал!! У Игната слёзы брызнули из глаз. Он отвернулся, но десятник схватил его своими лапищами, притянув к себе. — Ты это, племяш, не обижайся! — прошептал он горячо в самое ухо. — Конечно, ты — лучший, оттого здесь и оставлен. А за баталию не переживай, ишо навоюешься. — Распрямившись, он зычно произнес, — и не лезь поперёк батьки в пекло! — Останешься за старшего, — добавил Вологжанин. — Справишься — быть тебе десятником, как и твой батька. Игнат вздохнул, тяжелым взглядом исподлобья проводил удаляющихся стрельцов, окинул сгрудившихся вокруг него сверстников, задержавшись взглядом на Ивашке. — А ты что тут делаешь? — Пособить прибежал… — насупился писарь, чувствуя подвох. — Чем? У тебя даже рогатки нет, — насмешливо произнес Игнат, озорно глядя на друга, как в первую встречу. — Пищали нет, зато голова на месте, — вспылил писарь. — Не удержать нам этот берег десятиною, ежели литвины вернутся. Пушка нужна! — И где её взять? — вздернул брови стрелец, — что языком-то молоть без толку? — Пушки нет, — гнул своё писарь, — но ежели на крутом бережку бочонок с зельем огненным прикопать да каменюками с галькой поверх набросать, провод огненный подвести да подпалить, как литвины на приступ пойдут — громыхнёт изрядно аккурат в их сторону. Кого зельем не пожжет — того камнями побьёт. Игнат подбежал к берегу, глянул влево-вправо, почесал затылок. — Так и нам тогда несдобровать, — задумчиво произнес он. — На мельнице сховаемся, — кивнул головой Ивашка в сторону плотины. — А давай! — загорелся идеей Игнат, — говори, что делать надобно? — Выкопать нору зевом аккурат на брод так, чтобы в нее бочонок влезал, — засуетился писарь, радуясь, что его план одобрен, — шнур проложить, чтоб чужой глаз не узрел, набрать гальки речной мелкой, засыпать всё с лихвой, да ещё глиной замазать, чтоб непонятно было, и… — Ну, что застыл? — Игнат толкнул Ивашку в бок, — что ты уставился на мельницу, словно лешего увидел? — А вторую бочку покатим на мельницу, — закончил писарь мысль, неожиданно пришедшую в голову, — коль густо полезут — рванем запруду, смоем всех литвинов в пруд Келарский. — Ай да писарь, — Игнат цокнул языком, — вот бумажная душа! Такое придумать! — и обращаясь к своему десятку, прикрикнул строго, — по что уши развесили? Всё поняли? Тогда лопаты в руки и копать! Литвины ушли ненадолго, в любой момент пожалуют! Выбрали скрытое камышами место, чтобы неприятель не узрел. Разобрали шанцевый инструмент, и молодёжь дружно рванула исполнять план нового начальника. Работа закипела. — Игнат! Смотри что тут есть! — позвал начальника один из стрельцов. — Батюшки святы! — Ивашка присел, увидев основательный полукруглый лаз, полого уходящий в сторону монастыря, — да тут второй подкоп… Зови Шилова и Солоту. Сюда тоже зелья надобно натаскать, да завалить всё хозяйство литвинское. — Не хватит зелья для твоей пушечной придумки. — Не хватит — не беда, зато подкоп обвалим.* * *
Бочонки с порохом живо перекатили и затолкали в новый лаз. — Где фитиль взять? — беспомощно оглянулся Игнат, — огненный шнур весь потратили на первый подкоп. — Может, на две части разрезать? — Его там и так в обрез, еле успеешь поджечь и выскочить, — покачал головой Солота. — А если порох дорожкой насыпать? — подал идею Ивашка, вспомнив про ручеёк черных зернышек, сочившийся из порванного когда-то мешка. — Куда? В эту сырость? — Шилов посмотрел на ноги, утопающие по щиколотку во влажной, чавкающей глине. — Вот что, Иван! — принял решение Игнат, — ты у нас быстроногий, как заяц. Беги в обитель, падай в ноги, проси фитиль. Мы тут пока хоть один подкоп отщетим [44], а там видно будет. Когда Ивашка подбегал к Красным воротам, грохнул подземный взрыв, земля будто вздохнула. Обернувшись, он увидел неровную канавку, змейкой бежавшую от берега к монастырю, и Шилова с Солотой, поспешавших ко второму подкопу, а за их спинами — медленно двигающихся через переправу, спешившихся лисовчиков, прячущихся за наскоро изготовленными щитами из тонких бревен. Грохнули стрелецкие пищали, пули защелкали по рукотворному препятствию. Кто-то за щитами истошно заорал и отвалился, но импровизированный облегчённый гуляй-город не пострадал и неумолимо надвигался на куцый стрелецкий строй, оставшийся у брода. Игнат сообразил — переводить заряды, чтобы лохматить древесину — неразумно, а оставаться на месте — опасно, и сразу после залпа отдал команду бежать к мельнице, чтобы оттуда, с фланга, постараться срезать литвинов. Звук боевой княжеской трубы вывел Ивашку из созерцательного ступора. Он встрепенулся, сделал несколько шагов и лоб в лоб столкнулся с Долгоруковым, выезжающим во главе своей свиты и резервной сторожевой сотни. — Воевода-надёжа! Спасай! — опрометью кинулся писарь к кавалькаде, — фитиль нужен, нечем огненное зелье запалить! — Как же нечем? — удивился Долгоруков, — а что токмо грохнуло? — Два подкопа у них, княже! Не один, а два! Огненного зелья на оба хватило, а второй подпалить нечем… Шнур огненный ждут… Тараторя без продыха, Ивашка тыкал пальцем в сторону лаза в подкоп и не понимал, почему Долгоруков так хмурится. Обернувшись, узрел, что фитиль уже и не понадобится. Не убоявшись огня десятка стрельцов Игната, лисовчики, оставив на переправе убитых и раненых, форсировали речушку, рассыпались по берегу, а самые шустрые прыгали в траншею и лезли в подкоп с намерением разминировать столь дорого достающееся им сооружение. — Кто там остался? — спросил Долгоруков. — Крестьяне клементьевские, Шилов и Солота. В подкопе зелье огненное уложили. Только фитиля не хватило, чтобы зажечь и сховаться…. — Вологжанин, пёсий сын! Шкуру спущу! Сказал же — стоять, стеречь брод, как калиту свою! — взревел Долгоруков, пришпоривая скакуна. Бедный конь, не ожидая такого коварства от хозяина, взвился на дыбы, заржал возмущенно, взбрыкнул и, закусив удила, принял с места в карьер, едва не сбросив седока и увлекая за собой всю княжескую свиту. Догоняя воеводу и разворачиваясь пологим уступом, сторожевая сотня спешила включиться в драку, кинуть на весы удачи свои жизни, переломив ход сражения за этот проклятый подкоп, ставший более делом принципа и уязвлённого самолюбия, нежели хладнокровного расчёта. Навстречу княжеской сотне вымётывались из воды и разворачивались в лаву сотни полковника Лисовского. Не прекращая, с мельницы гремели выстрелы десятка игнатова, падали сраженные всадники и кони, но такие мелочи никого не останавливали. Все понимали — игра идёт по-крупному. «Ррр-а-а-ах!» — новый булькающий взрыв разорвал опускающиеся сумерки, в разные стороны полетели брызги, а мельница, просев у основания, освободила накопленную воду, и та пошла веселым весенним половодьем, смывая барахтающихся лисовчиков, разрезая своим стремительным течением их атакующие порядки пополам. Казалось, эта безумная битва не закончится никогда. Чернецы Змиева добивали отчаянно сопротивляющихся гусар. Сотня Вологжанина, используя преимущество кремневых мушкетов, более дальнобойных и быстрозарядных, чем фитильные, как злобный гусь, щипала выбранецкую пехоту гетмана Сапеги, не давая им обстреливать монастырский полк. Стрельцы били двадцатками, первая шеренга — с колена, вторая — с подставки, в четыре смены, а когда поляки приблизились вплотную, бросились в бердыши, наглядно демонстрируя в ближнем бою преимущество длинного лезвия и короткой ручки с металлическим копьецом перед неповоротливой алебардой. Увидев, как отчаянно храбро сражаются с поляками и литвинами профессиональные воины, многочисленные, плохо вооруженные ополченцы устыдились своей робости и азартно пустились на помощь Вологжанину. На всём пространстве перед Троицким монастырем от разрушенной мельницы до лукового поля резались, рубились конные и пешие, сжав зубы, почувствовав близость военной удачи, не желая уступать ни пяди и твёрдо намереваясь закопать в осеннюю землю супротивника, либо лечь в неё самим. Монастырская артиллерия пристрелялась и уверенно гвоздила фунтовыми ядрами новые подходящие резервы Сапеги, отгоняя их от баталии и не давая переломить исход битвы. Сабельным ударом раскроили добротный панцирь Долгорукова и убили под ним коня. Калёная стрела пробила обе щеки навылет и выбила зубы полковника Лисовского. У поляков пали три ротмистра, у русских — четыре сотника. Выбывших из строя офицеров рангом ниже никто не считал. Все ждали, каким будет последний козырь в противоборстве, и он оказался совершенно неожиданным. Земля в месте второго подкопа поднялась, и оттуда, словно из преисподней, вырвались языки пламени и густой пороховой дым. Комья грязи взлетели, как потревоженные птицы из гнезда и долго падали на вытоптанное поле. Это Никон Шилов и Пётр Солота, исчерпав возможности сопротивления в подземелье, взорвали подкоп, погибнув вместе с наседавшими на них литвинами. Удар пришелся на центр построения лисовчиков, часть из которых попадала, провалившись в рукотворную яму. Выжившие второй раз за день пустились наутёк, устрашившись разверзшейся перед ними бездны. Жертвенностью и мужеством обычных крестьян, ничего не смыслящих в военной тактике, дело было сделано. Враг надломился. Ни столько силы, сколь вера в свою удачу покинула поляков, и участники баталии начали поспешно откатываться, отступать в сторону укрепленного гетманского лагеря. Избитые, израненные, измазанные кровью и грязью, стрельцы, ратники, дети боярские и чернецы торжествующими криками, похожими издали на протяжный вой, провожали отходящего противника, потрясая оружием и плача от счастья. Им удалось выжить в этой лютой сече, спасти обитель от разрушения, победить и отогнать врага, пусть ненадолго и не полностью. Ивашка, перевёл дух, прислонившись к холодной крепостной стене, не в силах от пережитого волнения крикнуть и даже прошептать молитву. Паренёк закрыл глаза, успокаивая сердцебиение, и в этот миг наверху, у стрельницы кто-то завозился, завыл. Протяжный женский крик «Петро-о-о-о-о!» слился с треском рвущейся материи, и перед Ивашкой разбилось о камни что-то мягкое. Он застыл, холодея от ужаса, замер, затаив дыхание, догадываясь что случилось, но не в силах открыть глаза, чтобы убедиться в своих страшных предположениях. Перед его внутренним взором возник образ обворожительной статной крестьянки Златы, вспомнились её последние слова, и писарь испугался, когда на пронзительный женский голос наложился скрежет его собственных зубов, сконцентрировав гнев маленького человека, осознающего, как мало от него зависит и как много он хочет исправить в этом несправедливом, несовершенном мире… Князь Долгоруков, торжествовал вместе со всеми, оглядывая поле боя, усеянное трупами врагов, и ужасался, узрев поредевшие собственные сотни, понимая, что заменить павших будет некем. Он тоже кричал что-то обидное в адрес папистов, размахивал саблей, но в его воинственном кличе прорезались тоскливые нотки понимания, что всё только начинается, и эта локальная победа аукнется более тяжкими испытаниями и последствиями.Глава 12 После битвы

По окончанию битвы начинается скорбная страда погребения павших и отчаянные попытки спасти раненых. На поле боя за жизни человеческие выходит Её Величество Медицина. Врачебное искусство на Руси существовало с незапамятных времен. Лечцы и резальники, именуемые сегодня терапевтами и хирургами, упоминаются в «Русской Правде» — своде законов, относящемся к Х веку, ко времени Ярослава Владимировича. Как указывал сей документ, книга эта «не есть сочинение тогдашнего времени», но «за несколько веков до Ярослава существовавшая, и токмо оным великим Князем в некоторых статьях исправленная». В книге «Великие Минеи Четии», опубликованной святителем Макарием, содержится «Житие святаго Андрея, Христа ради юродивого», где в главе «О Феодоре мученике» от имени раненого подробно описан процесс обезболивания. Приблизились «скопци красни велми во одежи беле», причем один держал «медяницю», другой «голек мира», а остальные двое — «полотенца бела яко снег»… Един же, намакая платно в медяницю, прикладаше ми к лицю и держаше ми на многы часы, тако сластию воня то я забыл бых болезни своея…. Хирург, вынужденный причинять страдания ради блага больного, упоминается в «Просветителе» Иосифа Волоцкого, «Слове на латинов» Максима Грека, «Слове похвальном Михаилу и Федору» Льва Филолога, «Истории о великом князе московском» и третьем послании князя Курбского. Искусство врачевания не могло пройти мимо монастырей. Монахи — лечцы и резальники, владея методами, унаследованными от своих византийских собратьев или заимствованными из старинных рукописей, задолго до появления на Руси первых иностранных лекарей исцеляли раны, язвы, переломы костей. Найденная в православном Кирилло-Белозерском монастыре рукопись «Галиново на Ипократа», написанная в ХIV-ХV вв. была предназначена православным врачевателям, и содержала предписания действовать в духе высказываний древнегреческого ученого. Ссылки на врачебный опыт античного целителя, именуемого Ипократом или Панкратом, содержатся в древнерусском «Вертограде», «Зельнике», православном «Лечебнике». Иван Васильевич Грозный, отдавая должное врачебному искусству, не ограничивался отечественной практикой, собирал лекарей со всей Европы, определяя на службу в царскую Аптеку — первое на Руси государственное лечебное учреждение, всеми уважаемое и весьма престижное, подчеркнуто роскошное даже внешним убранством. Стены, потолки в Аптеке были расписаны золотом, полки и двери обиты «английским добрым» сукном, окна стеклились разноцветными витражами. Работа длилась с раннего утра до позднего вечера, а когда заболевал кто-то из членов царской семьи, аптекари работали круглосуточно. Иноземные медики ехали в Москву не только за длинным рублем. В «просвещённой» Европе хирургия и жизненно необходимая ей анатомия с огромным трудом «продирались» сквозь невообразимо глупые законы и нелепые запреты того времени. Чтобы исследовать организм человека, требовались папские буллы, соизволения высших административных инстанций. В 1566 году университет в Саламанке всерьез обсуждал запрос Карла V, подобает ли христианам-католикам вскрывать тела умерших. Россия подобных запретов не знала, и лекари охотно сбегали сюда работать, не таясь и не опасаясь репрессий зловещей инквизиции. Чтобы врачевать подданных царя, медикус обязан был сдать квалификационный экзамен в присутствии самого государя. Выдержавшие его по статусу и денежному окладу приравнивались к окольничим, получая в кормление поместье с 30–40 крепостными крестьянами и «многую рухлядь».[45] Награды за хорошую работу были поистине царскими, но и ответственность врачевание сулило немалую. В случае смерти высокопоставленной особы, врач рисковал собственной головой.
«И того лекаря мистро Леона велел князь великый поимати и после сорочин сына своего великого князя велел его казнити, главы ссечи. И ссекожа ему головы на Болвановьи, априля во 24».В монастырских лекарнях столь трагические строгости не практиковались, поэтому, несмотря на суровость бытия, сюда сбегали от царского и боярского гнева. Здесь же находили утешение и возможность применения своих знаний медики-иностранцы, не отягощенные политическими амбициями и согласившиеся принять православие. С первых дней осады все они, а равно монахи, имеющие лекарские навыки, послушники, посадские и сельские жители были привлечены игуменом к богоугодному делу — исцелению страждущих и болящих. А таковых было не счесть. В просторной монастырской лекарне очень скоро не оказалось свободного места для раненых, а после битвы врачевателям в одинаковых черных скуфейках и широких кожаных передниках, снующим вокруг болящих, стало вообще невозможно протолкнуться. Вдоль стены стояли высокие столы из грубых, прочных досок. Возле них безостановочно кипела работа. Из колотых ран отсасывалась кровь. Застрявшие в телах пули и наконечники стрел извлекались с помощью специальных хирургических ложек. Рубленые и рваные раны промывались крепким хлебным вином и тут же зашивались волокнами льна или конопли. Нехватка опытных рук способствовала стремительному росту карьеры учеников. Ещё вчера они робко смотрели из-за плеча наставника на его врачебные манипуляции, а сегодня сами стояли у стола, слушая на ухо чтение однокашников, как лечить «рану всякую сеченую и стрельную и колотую». — «Возьми олфы, да терпентины, да ладану белого немного, да яри немного, только бы масть зелена, а коли не будет терпентины,ино приложити козлового масла, а тою мастию наперед прикладывати ко всякой нечистой ране колотой или фрянцузной», — изредка поглядывая на руки коллеги, диктовал инструкцию школяр. За соседним столом, потея от волнения и страха, священнодействовал ещё один вчерашний подмастерье, а его напарник бубнил под руку, как заведенный, другую главу «Лечебника». — «А коли рана слинится и не живет или огнь в ней, ты возьми уксуса винного, да белила, да квасцев, да свинцу, да вари вместе, да мешай, как простынет, да смачивай плат, к ране прикладывай, да тот плат изгибай вдвое или втрое, ино вода из плата не борзо высохнет». — Да не то! — раздражался новоиспеченный эскулап, — тут еще одна рана — застарелая, воняет дюже… Суфлёр понимающе кивал, быстро находил нужную страницу и снова заводил свою шарманку. — «Аще у кого рана гниет, а не живит, а болит добре и рвет, указ: винного уксусу, да полыню, да поцелу мелково, да наряди с того пластирь, да привей на суставы, ино болесть выйдет…» За соседним столом колдовал провизор, добавляя в вино или уксус толченые медные руды, порошок из раковин улиток, разные виды глины, разводя в нужной пропорции лауданум — изобретение великого Парацельса, облегчающее страдания. Он ловко орудовал яичной скорлупой и половинкой грецкого ореха в качестве мерки. Рядом у печи подмастерья готовили лекарственную воду: таз повязывали полотном, на него помещали свежее измельченное растительное сырье, покрывали листом бумаги; на неё насыпали слой крупного песка, на песок ставили сковороду и разжигали в ней огонь. Под действием нагревания из травы вытекала жидкость, образуя искомую лекарственную воду. Последние столы занимались перевязкой, как тогда говорили — «обязанием» или «обитием». Материалом служили полотно, холст, «убрусы», «понявицы», «баволна» или «вамбак». «Обязание» делалось «крепкое», с обильным орошением раны растительным или животным «олеем». На повязку рыхло накладывались «покроми» сукон домотканных, покупных, не всегда белых. Для иммобилизации «уломленных» конечностей употребляли лубок — «лубяницу» или «млычину», «корсту березовую» или «скепу». Для дезинфекции использовался высушенный мицелий гриба, «губы дождевки», древесный мох, собранный «с дерев благовонных», так как «мох древесной заключает всякое течение крововое аще его прикладываем или внутрь приемлем». Раны и язвы орошали целебными жидкостями, присыпали «порохом коры березовой толченой», окуривали дымом «смолы галбановой». Глубокие раны — фистилы — спринцевали «кристиюмом» или «крестером», заклеивали «левашами», средневековым прообразом пластыря. Изготавливали примочки с использованием увлажненного «плата», «тафты» или «ветоши платяной чистой», сложенной обязательно «вдвое-, три- или четверосугубно». Гвалт и грохот, стоны и проклятия витали в воздухе лекарни, словно печной едкий дым. Суета и беготня персонала были не в силах разогнать тоску и отчаяние этой юдоли скорби. Только в ординаторских, отведенных под палаты для особо важных персон, было относительно тихо и спокойно. В одной из них, бездумно глядя на изображение «раненого человека», лежал младший воевода Алексей Голохвастов. Наглядное пособие, срисованное из Венецианского медицинского сборника Fasciculus medicinae, с ног до головы покрывали кровоточащие раны, увечья, нанесенные стрелами, копьями, мечами и ножами. По задумке авторов, образ должен был не пугать, а вселять надежду на решение проблем со здоровьем, утверждать, что человек может выжить, даже получив страшную рану. На Алексея Ивановича медицинская картинка не производила ни малейшего впечатления. Он был слишком молод, чтобы размышлять о бренности всего земного, и слишком полон сил, несмотря на полученные ранения, чтобы нуждаться во внешней подпитке оптимизмом. Промытые раны воеводы были закрыты чистой льняной тряпицей, под нее наложены припарки из трав и ароматической живицы. Боль после принятого лауданума беспокоила меньше, но настроение было паршивым совсем по другой причине. Младший воевода Алексей Иванович Голохвастов, родившись столбовым дворянином[46], был менее знатен и богат, чем князь Долгоруков, хотя имел хорошее состояние, владел частью огромного наследственного поместья своих предков в Сурожском стане недалеко от города Рузы, что под Москвой. При Иване Грозном он состоял на воинской службе головою ночных сторожей в Лифляндском походе, в 1597–1598 годах — головою в Смоленске при основании там мощной каменной крепости, затем два года — в новом сибирском городе Сургуте. Когда в Москве престол занял Лжедмитрий I, не стал домогаться милостей у самозванца и отказался ему присягнуть. Всех, служивших Лжедмитрию, презирал открыто и глубоко, а потому Долгорукова на дух не переносил, не веря в альковную романтическую историю князя и в грош не ставя старшего воеводу. Он демонстративно манкировал чинопослушанием, пренебрегая помощью отрядов и княжеских слуг, подчиненных непосредственно Долгорукову. Даже сейчас, лежа раненным на широкой дощатой скамье в монастырской лекарне, ни о чем не жалел и ни в чем не раскаивался. По всем правилам воинского искусства, разгромив сторожевую сотню лисовчиков, требовалось остановиться, дать перевести дух коням и всадникам, послать для разведки разъезды во все стороны, дождаться стрельцов и договориться с Долгоруковым о совместной атаке. Но всё это лишало младшего воеводу самостоятельности, обязывало послать князю гонца, доложить об успехе, запросить поддержку. Исполнять весь придворный этикет подчинения он не собирался. Результат печальный — от пяти его дворянских сотен тульских, алексинских, переславских осталась половина, захваченный обоз потерян, а сам он, будучи дважды раненым, не нанёс папистам и пятой доли того ущерба, что понесли латиняне у брода и на луковом поле. Опять всю воинскую славу заберет себе Долгоруков, а он, как побитая собака, сиганувшая за тетеревом на охоте, возвратился без добычи! От осознания такого позора Голохвастов отвернулся к стене и застонал. — Что болит? — подскочила к младшему воеводе дежурившая около него Ксения. — Благодарствую, царевна, — справился со своим гневом Голохвастов, повернувшись к Годуновой, — только мучения мои не телесные, но душевные, лекарю неподвластные. — Понимаю, — вздохнула Ксения, опускаясь на стул, — столько детей боярских полегло, много ратников побило — не сосчитать… Весь день по полям собирают, возят и отпевают… Годунова кротко вздохнула, будто всхлипнула. — Как ляхи? — тихо осведомился Голохвастов. — Тех ещё поболе, — без всяких эмоций произнесла царевна, но в её глазах вспыхнул такой злорадный огонь, что младший воевода удивленно вздернул брови, а Годунова, смутившись, опустила глаза и совсем бесцветным голосом добавила, — у мельницы вповалку лежат, на поле земли не видать. Вельми паче[47] наших. — Ну и слава Господу, — прошептал младший воевода. — Спаси и помилуй, — Годунова перекрестилась. — Стрельцы, что на стенах стояли, бают — когда чернецкий полк приступил к гусарам, над обителью простёрла руки сама Богородица и смахнула на город покров лазоревый. Наши спиной к стенам стояли, не видали, а ляхи узрели и в бегство обратились, хотя и было их десять к одному воину русскому. — Да хранят тебя силы небесные, царевна, — прикрыл глаза Голохвастов, — одно твоё слово способно ратников поднять на подвиг, а врагов — устрашить. Вот я услышал — и снова готов в сечу скакать, токмо не свезло… — Ты, воевода, в рубашке родился, — Годунова впервые улыбнулась, — лекарь сказывал — раны кровавые, но не опасные. Через месяц плясать будешь!
* * *
То же самое говорил Ивашка Игнату, аккуратно, как драгоценность, затаскивая носилки со стрельцом в ту же горницу, где лежала Дуняша. — Аккуратнее възняти! Давай, под правую руку заноси… — властно командовал он монастырскими слугами. — Вишь, какая оказия приключилась, — Игнат морщился от боли, но крепился, — я уж думал — успел, а мне жердиной по хребту как переехало… — Что ж не поберёгся? — качал головой Ивашка. — Да что тут судачить, дело сделано. Ты видал, как ливануло! Два десятка враз смыло! — Мне итить — палить надо было, — вздыхал писарь. — И что? Фитиль длиннее сделал бы? — усмехнулся сквозь боль Игнат. — Как вышло, так вышло. Если б не твоя придумка, нас бы литвины побили. А так замятня их одолела, замешкались вельми, и мы животы свои сберегли. Дуняша полулежала на подушках, у изголовья пристроилась дочь Златы и Петра, а под боком посапывал их только что накормленный малыш. — А ну-ка тише, — шикнула девушка на неуклюжих санитаров, — малой только уснул, никак успокоить не могли. Игнат послушно прикрыл ладонью рот. Ивашка, покачав головой, зыркнул на монастырских и глазами показал им на свободную лавку. Укладывая раненого на грубые доски, служки неловко повернулись, едва не уронив стрельца, причинив ему новые мучения. Игнат выпучил глаза, покраснел, покрылся испариной и с силой прикусил рукав кафтана, дабы не застонать. Дуняша, сопереживая страданиям парня, широко раскрыла глаза и прикрыла ладошкой хорошенький ротик, а писарь удивленно застыл рядом с ней. — Дуняша! — прошептал он радостно, — рука! Девочка непонимающе смотрела то на писаря, то на стрельца… — Ты первый раз руку с постели подняла, Дуняша! — расплывшись в улыбке, продолжал шептать Ивашка. — Ой, а я сразу и не поняла, хотела спрыгнуть, да не смогла… Игнат, слегка отойдя от болевого шока, тоже широко улыбался, не спуская глаз с Дуняши, и всем троим на миг показалось, что ужас первых дней войны, боль и слезы, длинные вереницы повозок с телами погибших и раненых, липкая осенняя грязь на монастырских дорожках, смешанная с кровью, постоянный тревожный перезвон и заунывный бесконечный обряд отпевания — это где-то далеко, а тут, в светлой горнице, ничего страшного нет, и если они вместе, то всё будет хорошо, не может быть иначе.* * *
Долгоруков зашёл к Нифонту Змиеву, когда перевязка уже закончилась. Просторная монастырская каптёрка, отделенная от общих палат, скудно освещалась восковыми свечами. Ещё один нарисованный на стене «раненый человек» жутковато колебался в такт пламени, глядя на проходящих безучастными, пустыми глазами. Воевода, увидев этот рисунок, поежился и ускорил шаг, стараясь не смотреть на медицинские художества. Нифонт Змиев был не только перевязан, но и обмыт, и переодет. Его крепкое тело чуть выглядывало из-под огромного количества аккуратных льняных полос, но всё равно впечатляюще бугрилось загорелыми мускулами. «На богомолье так солнцем не напечёт», — отметил про себя воевода, подходя к монаху. — Поговорить надобно, чернец… — начал князь медленно, привычно-надменно, но запнулся на полуслове, наткнувшись на смешливый взгляд чёрных пронзительных глаз, смутился и скороговоркой добавил, — ежели ты недужный от ран или после сечи усмяглый, то можно и таче повидаться. Губы Нифонта тронула легкая улыбка, подобно летней паутинке. Он движением головы показал на скамейку рядом с собой и коротким взмахом руки указал на дверь крутящимся вокруг него служкам. Братия, безмолвно поклонившись, безропотно направилась к выходу. Змиев внимательно проводил их взглядом. — Слушаю тебя, княже. — Ты решил нарушить обет молчания? — А как бы у нас разговор случился? — вопросом на вопрос ответил Нифонт. Князь подвинулся ближе, наклонился к голове монаха. — Ты можешь научить мои сотни столь искусно конно биться? — Прости, княже, — поморщился Змиев, — своевольны дети боярские, да и времени мало. Так наказать врага за наглость и самоуверенность можно только единожды, второй раз — не обманем. Теперь они умнее будут, осторожнее, да и сполу, — Нифонт опять сделал легкое непонятное движение кистью правой руки, — копейному бою учить твоих воев поздно. Сподручнее дать сотням оружие грядущего… Палец монаха указал на угол, где сгрудились трофейные пищали, мушкеты, ручницы и другая огнестрельная рухлядь. — Где ж конному, да с мушкетом управиться? — удивился воевода. — Мню, что дети боярские чаще на стенах сгодятся, чем в седле, — Змиев поерзал на лавке, покривился от боли, перехватил раненую руку здоровой и положил ее на живот. — А пищали — они пока что громоздки, с годами станут легче, снаряжать их будет проще. Пищаль за триста шагов броню пробивает, а будет — за пятьсот, семьсот, тысячу… Попробуй, подойди с копьецом к такому полку… Издали продырявят… — Тебе к государю надо бы, — перебил монаха воевода, внимательно вглядываясь в его лицо, — огневое и сечевое дело вельми ведаешь, рассуждаешь здраво, такие мужи при дворе состоять должны, а не в келье прозябать. — Тебе ли не знать, воевода, что многим и в хоромах царских прозябать приходится. Не хочу приумножить собой их скорбное число. В сиденье своём я больше пользы вижу. Одними сотнями дворянскими да стрельцами крепость не удержать. Истое ратников добрых из мужиков сделать. Толпа с рогатинами для польских жолнежей — не противник. Пройдут сквозь них, как нож горячий сквозь масло, и не заметят. А надобно наравне биться. — Мужики против солдат королевских? — князь хмыкнул с сарказмом, — да никогда они не станут равными, сколь ни учи! Куда им, сиволапым! Монах закрыл глаза и улыбнулся. — Самая выносливая и самая стойкая армия — набранная из мужиков. В недалёком прошлом в битве при Азенкуре семь тысяч английских йоменов[48], вооруженных только ножами и луками, наголову разгромили восьмитысячную армию французских рыцарей. А в будущем крестьяне станут становым хребтом любого войска. Работящие, безотказные, богобоязненные — не то, что бесшабашная, неуправляемая шляхетская вольница. Сказано это было настолько уверенно, словно монах говорил о событиях, уже случившихся. Долгоруков встал и прошелся по каптерке, задумавшись. Остановился, упёрся взглядом в лицо монаха, словно пытаясь проникнуть в самую его душу. — Кто ты, чернец Нифонт Змиев? — воевода задал вопрос, давно вертевшийся на языке. Улыбка пропала с лица монаха. Он глубоко вздохнул, желваки коротко пробежали по скулами. — Когда б я сам сие ведал…Глава 13 Тайны царские

Скинув верхнюю одежду, пропахшую потом, порохом и чужой кровью, инокиня Ольга, а в миру — царевна Ксения Годунова, долго и тщательно ополаскивала руки, желая избавиться от усталости и ужасов этого бесконечного дня, стереть из памяти и смыть вместе с грязью всю боль и страдания, пропущенные через себя за последние сутки. — Господи, дай мне смиренного духа Твоего, дабы не потеряла я Твою благодать и не стала рыдать о ней, как рыдала Ева о рае и Боге, — шептала молодая женщина, чувствуя, как к горлу вновь подкатывает колючий комок, прорывающийся наружу слезами. — Господи Милостивый! Скажи, что я должна делать, чтобы смирилась душа моя? Она запнулась на мгновение, осознав, что более всего желает попросить Господа о беспамятстве. Устыдившись своих мыслей, Ксения поняла, что сегодня вновь не сможет усмирить гордыню, и как всегда из под монашеского обличия прорвется наружу её вторая, царственная натура, не желающая мириться с собственным зависимым бедственным положением.
— Господи, помилуй! — склонившись над медным рукомойником, снова шептала она, орошая пальцы колодезной водой и прикладывая ладони к разгоряченным щекам, — Иисусе кроткий и смиренный сердцем! Услышь и избави меня от желания избежать обиды, утвердить свое мнение, быть принятой в советах, избави от желания быть восхваляемой, уважаемой и первой. Услышь и помилуй меня, Иисусе!..
Инокиня Ольга глянула на поверхность успокоившейся воды и увидела в её зеркальном отражении не монашеский смиренный образ, а плотно сжатые губы и глаза молодой двадцатишестилетней властной красавицы, горящие жаждой борьбы. Усмехнувшись тщетной попытке спрятаться от своей деятельной натуры, царевна рода Годуновых пыталась взвалить на свои плечи и нести заботу о подданных и Отечестве так, как она себе это представляла. Ей не удалось удалиться от мира, достающего ее своими страстями. «И такоже докучаемо бываше от народа по многи дни. Боляре же и вельможи предстоящий ей в келии ея, овии же на крылце келии ея вне у окна, народи же мнози на площади стояше», — то ли жаловались, то ли восхищались ею монастырские старицы. Совершая ритуал омовения, она отложила решение стать прилежной послушницей прежде, чем сможет хоть чем-то помочь себе, обители и многочисленным, формально не своим подданными, попавшим в жестокие жернова войны и вынужденным сражаться с профессиональной армией. Ксения прошла в свою келью, плотно затворив дверь, зажгла от лампадки свечу, положила на стол бумагу. Проверив пальцем гусиное перо, обмакнула его в чернила и аккуратным почерком вывела первую строчку своего письма.
«Отоидох, рече, аз суетного жития сего; яко вам годно, тако и творите…»Ксения была слишком мала, чтобы помнить отчаянную борьбу за власть, начавшуюся после смерти Ивана Грозного, названную в Москве четверобоярщиной, созданной «по воле старого царя» во главе с батюшкой Борисом Годуновым, князьями Иваном Мстиславским, Иваном Шуйским и Никитой Романовичем. Много позже она прочла в письмах англичанина Джерома Горсея, английского посла при дворе Ивана Васильевича: «Они начали управлять и распоряжаться всеми делами, потребовали отовсюду описи всех богатств, золота, серебра, драгоценностей, произвели осмотр всех приказов и книг годового дохода; были сменены казначеи, советники и служители во всех судах, так же как и все воеводы, начальники и гарнизоны в местах особо опасных. В крепостях, городах и поселках особо значительных были посажены верные люди от этой семьи; и таким же образом было сменено окружение царицы — его сестры…»
«Егда царствовати Фёдор Иванович, — переложила Ксения на бумагу воспоминания, — почалась вражда меж бояр, розделяхуся они надвое, и утвердился батюшка мой, шурин царев боярин и конюшей Борис Федоровичь Годунов з дядьями и з братьями, к нему же присташа и иние бояре и дьяки и думные и служивые многие люди»…Ксения задумалась, стараясь сформулировать следующую мысль так, чтобы не накликать на себя беду. Пик политического и личного противостояния Шуйских с Борисом Годуновым пришелся на 1586 год, когда ей не было и пяти лет. События того времени восстанавливались по крупицам чужих воспоминаний чаще всего иностранных подданных, регулярно отправляющих отчеты своим правителям. Польский посол Михаил Гарабурда открыто обсуждал в Москве перспективы заключения «вечного мира» при условии, что русская сторона даст согласие возвести на русский престол польского короля Стефана Батория в случае бездетной смерти царя Федора. Высшие аристократические рода князей Мстиславских и Шуйских благосклонно смотрели на такую политическую комбинацию. Они уже прекратили господство худородных выскочек Ивана Грозного, разогнали его «особый» двор. Надёжа и опора православной Руси, московские бояре полагали, что останутся в своем государстве на таких же прочных позициях, как магнаты Речи Посполитой. Шуйские, ободренные польской поддержкой, рассчитывали с помощью шляхты справиться с возросшим влиянием Бориса Годунова, и судя по отчетам посла Михаила Гарабурды, преуспели в этом: в Боярской думе случился мятеж и «даже дворяне великого князя отступили от Годунова и к другой стороне пристали, открыто заявляя, что сабли против польского короля не поднимут, а вместе с другими боярами хотят согласия и соединения». В этих условиях Годунов был вынужден бороться за трон, чтобы выжить. В случае присоединения Руси к Речи Посполитой шансов на это у него, давнего польского недруга, не было.
«Потом ненавидяй враг добра роду человеческому нача возмущати боляр между себя враждовати, како бы друг друга поглотити, еже и бысть. Власть же и строение возложи на ся,»— Писала Ксения про финал 12-летней дворцовой склоки, в результате которой Годунов был наречен на царство в Новодевичьем монастыре 21 февраля 1598 года. Как написал автор «Повести, как восхити царский престол Борис Годунов»:
«…егда нарицали его царем, тогда в наречении являлся тих, и кроток, и милостив».Ксения пыталась вспомнить детали нервного, шумного воцарения отца, но перед глазами мелькали суетливые руки и напряженные лица дьяков, послов, бояр… Картинка сливалась в пестрый переполох, не позволяя вычленить главное. Одно она помнила точно — в семье Годуновых в то время не было ни эйфории, ни особой радости, лишь ощущение зыбкости и тревоги, ежедневного ожидания удара в спину.
«Князи же Шуйские едины ево не хотяху на царство: узнаху его, что быти от него людем и к себе гонению; оне же от нево потом многие беды и скорби и тесноты прияша».— Вновь написала Ксения, закусив губу и понимая, что эти слова, как обоюдоострый меч, могут не только стать оружием в борьбе за трон, но и смертельно ранить. Борису Годунову скрытая, кровная оппозиция князя Василия Ивановича не предвещала ничего хорошего. Однако было еще нечто особое, связывающее этих двух претендентов на российский престол. Боярин Борис Годунов и князь Василий Шуйский оказались оба, хотя и по-разному, причастны к тайне гибели царевича Дмитрия. Ксения не понимала, что стало причиной назначения Годуновым князя Василия Ивановича главой следственной комиссии в Угличе. Чего в этом было больше? Желания беспристрастно разобраться в причинах трагического происшествия? Но если Борис Годунов действительно сам виновен в нем, почему он так рисковал, назначая своего врага главным следователем? Или же злодейство Бориса Годунова было столь велико, что он намеренно послал Шуйского с преданными людьми — окольничим Андреем Петровичем Клешниным и дьяком Елизарием Вылузгиным? С таким «конвоем» князь Василий Иванович легко мог вернуться из Углича не в Москву, а в более «отдаленные» места. Все эти вопросы так и останутся без ответа. Чем бы ни руководствовался новый царь, но после 1598 года правила игры устанавливал только он, а князьям Шуйским оставалось лишь повиноваться. Будущий царь Василий Шуйский всё равно оказался в положении опального уже через два года после приказа расследовать причины гибели царевича Дмитрия. Удаление боярина из Москвы на воеводство в Великий Новгород 1 сентября 1600 года стало лучшим исходом, избавляя его от других возможных унижений, и объяснялось нежеланием царя Бориса Федоровича допустить Шуйских к переговорам с послом Речи Посполитой Львом Сапегой. Канцлер Великого княжества Литовского провел в Москве почти полтора года, и все это время князь Шуйский безвылазно находился в Новгороде, вернувшись в Москву лишь после 25 мая 1602 года, когда польско-литовское посольство заключило договор о перемирии и уехало из пределов Русского государства. Одновременно с приездом польского посольства, Годунов начал душить Романовых, подчеркивая осведомленность о составе сторонников польской партии в Москве. Царь Борис Федорович сделал все, чтобы не допустить даже предположения о возможных контактах кого-либо из членов Боярской думы, происходивших из самых заметных княжеско-боярских родов, со своими заклятыми врагами из Речи Посполитой, претендующими на часть русских земель и на сам трон. Тогда и появился Лжедмитрий — шаг отчаяния оппозиционных аристократов, нестандартный, неожиданный, а потому не просчитанный Годуновым. Как только Борис услыхал о появлении Лжедмитрия, прямо сказал боярам, что это их рук дело, что они подставили самозванца. Он всё понял, но было уже поздно. Внезапная смерть Бориса Годунова, наступившая в субботу 13 апреля 1605 года «после бо Святыя недели, канун жены мироносицы», была настоящим спасением и для Шуйских, и для Романовых. Двадцать лет после смерти Ивана Грозного они оставались под постоянным подозрением и дамокловым мечом расправы. В тот день у них появился шанс чужими руками поквитаться за все свои страхи и унижения. 3 июня 1605 года князь Федор Иванович Мстиславский и князья Василий и Дмитрий Шуйские отправились на поклон к царю Лжедмитрию, находившемуся в тот момент в Серпухове со своим едва образовавшимся «двором». «…А самые лучшие из вас, как князь Мстиславский, князь Шуйский и другие, в Тулу к нему, в 30 милях от Москвы, добровольно приехав, за государя своего признали, дали ему присягу и, в столицу препроводив, короновали» — писали в 1606 году послы Речи Посполитой в Московском государстве Николай Олесницкий и Александр Госевский. Последовала жестокая, показательная расправа Лжедмитрия над сыном и вдовой Годунова, такое же показательное унижение Ксении, казни их сторонников и даже холопов. Глядя на все происходящее в Кремле и столице, колеблющиеся бояре понимали: у них не осталось выбора — присягать или не присягать царю Лжедмитрию, ибо не желали повторить судьбу Годуновых. Ксения мстительно усмехнулась, вспоминая слова самозванца, сказанные в отношении Шуйских — «Рим предателям не платит!», как и собственный вклад в тайный донос царю Лжедмитрию, о котором позднее писал коронный подстолий Станислав Немоевский. И не её вина, что Шуйские избежали плахи. Она сделала всё, чтобы стереть их род с лица Земли. Лжедмитрий, как и Борис Годунов, помиловал Шуйских, поплатившись за своё милосердие так же, как и отец Ксении. День 17 мая 1606 года стал одной из главных вех в жизни князя Василия Шуйского. Казалось бы, весь опыт напрочь отучил его действовать самостоятельно. Он испытал опалу всех царей, коим служил, едва не сложив голову на плахе, и он же сумел нанести первый удар заговорщика. План князя и его сторонников состоял в том, чтобы под благовидным предлогом впустить в Кремль толпу людей, расправиться с охраной царя Лжедмитрия и убить его. Точку в жизни самозванца поставил дворянин Григорий Валуев, протиснувшись в толпе к боярам и выстрелив в него «из-под армяка» из ручной пищали. Царь был убит, и толпа бросилась терзать мертвое тело. Ксения прекрасно помнила состояние удовлетворения от возмездия, настигшего её насильника, и ужас понимания, что заговор возглавил не менее опасный и безжалостный враг, получив всю полноту власти. 19 мая 1606 года на московском престоле появился новый царь Василий Шуйский. Бывший глава заговора так спешил воцариться, что совершил непоправимую ошибку, устранив от выбора нового царя представителей «всей земли». В столице обсуждалось несколько кандидатур на трон, но никакой предвыборной борьбы не случилось. Впрочем, новоиспеченного царя тоже можно понять. За прошедшие двадцать лет при каждом династическом повороте князья Шуйские оказывались на грани жизни и смерти. Снова дожидаться подобной участи князь Василий Иванович не желал, а потому не устраивал никаких «предизбраний», не приучал к себе подданных щедрыми пожалованиями и демонстрацией силы, как это было при вступлении на престол Бориса Годунова. От выбора князя Шуйского до венчания на царство 1 июня 1606 года прошло недостаточно времени даже для правильной организации земского собора. Да и думал ли новый царь о его созыве? Главным аргументом стало его действительное, а не ложное, как у самозванца, происхождение от Рюриковичей, что не могла не признать дочь Годунова.
«Понеже, он, Шуйский, от корени великих государей наших царей и великих князей Росийских — от великого князя Рюрика, иже от колена Августа кесаря Римского, и равноапостольного великого князя Владимера, просветившего землю Рускую святым крещением, и от достохвалного царя и великого князя Александра Ярославича Невского; от сего убо прародители твои, великие государи, на уделы переселиша на Суздальское княжение, яко же обычай бе меншим братиям на уделы садитися, и сих сродник ваших начальных государей корень пред ста», — тяжело вздохнув, написала Ксения, изо всех сил стараясь быть объективной и справедливой, не обращая лишний раз внимание на постыдную суетливость и неловкость, с какой князь Василий Иванович использовал шанс воцариться на русском престоле, даже не дождавшись, когда тело повергнутого самозванца уберут с Красной площади… На это и без неё указывали русские и иностранные летописцы. Обычно нейтральный в оценках Конрад Буссов, очевидец и писатель о России, в период Смутного времени в «Московской хронике» написал, что князь Василий Шуйский был избран «без ведома и согласия земского собора, одною только волею жителей Москвы, столь же почтенных его сообщников в убийствах и предательствах, всех этих купцов, пирожников и сапожников и немногих находившихся там князей и бояр».В руках Ксении был другой, гораздо более серьёзный аргумент нелигитимности воцарения, приведший к тому, что присяга избранному впопыхах на престол царю Шуйскому разделила русских людей: «и устройся Россия вся в двоемыслие: ови убо любяще, ови же ненавидяше его». Нарушение церковного канона — святотатство, и на это упирала в своем письме опальная царевна, понимая, насколько процедурные вопросы важны для любого государственного действа. «Наречение» нового царя произошло в отсутствие патриарха, а уже на следующий день по всему государству были разосланы «окружные» грамоты о его восшествии на престол с двумя приложенными крестоцеловальными записями. Если одна грамота о приведении к присяге царю не вызывала никаких вопросов, то другая крестоцеловальная запись самого царя Василия Шуйского своим подданным выглядела необъяснимым разрывом с традицией. Случилось то, чего никогда не простили Василию Ивановичу.
«На четвертый день по убиении Ростригине приехаша в город и взяша князя Василья на Лобное место, нарекоша ево царем и пойдоша с ним во град в Соборную церковь Пречистые Богородицы. Он же нача говорити в Соборной церкви, чево искони век в Московском государстве не повелось, что целую де всей земле крест на том, что мне ни нат кем ничево не зделати без собору никакова дурна: отец виноват, и над сыном ничево не зделати; а будет сын виноват, отец тово не ведает, и отцу никакова дурна не зделати; а которая де была грубость при царе Борисе, никак никому не мститель. Бояре же и всякие людие ему говорили, чтоб он в том креста не целовал, потому что в Московском государстве тово не повелося. Он же никово не послуша и поцелова крест на том всем».— Аккуратно зафиксировала Ксения факт, недопустимый и достаточный, с её точки зрения, для признания Василия Шуйского ничтожным правителем. Дочь покойного царя Годунова была в этом мнении совсем не одинока. 25 мая, в первое воскресенье после «наречения» нового царя, из-за начавшихся волнений пришлось отложить обещанный прием послов Николая Олесницкого и Александра Госевского в Кремле. Народ и стрельцы «очень жалели о смерти Лжедмитрия, обвиняя бояр в том, что они его убили». Об этом же писал оказавшийся на посольском подворье аугсбургский купец Георг Паерле. Он объяснил, что царю Василию и боярам удалось успокоить ропот черни, уверив ее, что убит не Дмитрий, а плут и обманщик, что истинный царевич погиб в Угличе и что народ увидит своими глазами его нетленные чудотворные мощи, которые уже везут в столицу. Царица-инокиня Марфа Федоровна во всеуслышание просила прощения у царя Василия Шуйского, освященного собора и всех людей в том, что она лгала им: «А большее всего виноватее перед новым мучеником, перед сыном своим царевичем Дмитреем: терпела вору ростриге, явному злому еретику и чернокнижнику, не объявила его долго». Объяснение было бесхитростным и откровенным: «…а делалось то от бедности». Слушая признания престарелой царицы-инокини, Ксения Годунова испытала гадливость, а потом — ужас, когда неожиданно прозвучало еще одно откровение Марфы: согласившаяся ранее на «воскрешение» своего сына, она свидетельствовала, что царевича Дмитрия убили «по Борисову веленью Годунова». Но, единожды солгав… Теперь ей по-настоящему никто не верил, и «ценными показаниями» царицы-инокини пренебрегли, а Ксению как угрозу новый царь, слава Богу, не воспринимал… Первые недели царствования Василия Шуйского показали, что не только в столице, но и во всем Московском государстве произошел глубокий раскол. Новгородские дети боярские приняли участие в московском восстании 17 мая 1606 года и присягнули царю Василию. Служилые люди северских и рязанских городов заартачились…
«А черниговци, и путимци, и кромичи, и комарици, и вси рязанские городы за царя Василья креста не целовали и с Москвы всем войском пошли на Рязань: у нас де царевич Дмитрей Иванович жив, — прилежно живописала Ксения разлад и брожение, охватившие города русские. — А как после розтриги сел на государство царь Василей, и в полских, и в украинных, и в северских городех люди смутились и заворовали, креста царю Василыо не целовали, воевод почали и ратных людей побивать и животы их грабить и затеели бутто тот вор рострига с Москвы ушол, а в его место бутто убит иной человек».Все лето царские воеводы безуспешно осаждали Кромы и Елец, лишь жарче раздувая пожар междоусобной розни, о чем написал автор «Бельского летописца»: «И под Кромами и под Ельцом были с воры с ызменники многие бои, и кровь ту многая междоусобная пролилась от воровского заводу». В Москве появление на дальних подступах к городу отрядов сторонников царя Лжедмитрия вызвало шок. Сама Ксения в столице в то время не жила, но внимательно читала письма от верных людей, была прекрасно осведомлена об атмосфере потрясения, царившей при царском дворе и среди самих москвичей. В столице появилась «Повесть о видении некоему мужу духовну», написанная прекрасным грамотным слогом. Как огонь, попавший на сухую траву, вспыхнул и пошёл гулять по Москве сказ про «видение во сне» протопопу Благовещенского собора в Кремле Терентию. Тот по «скаскам» написал «писмо» и отдал патриарху Гермогену, рассказав также царю. Протопоп не открыл имени этого «мужа духовна», которому было видение: якобы тот «заклял деи его именем Божиим, не велел про себя сказывати». В видении рассказывалось о молении Богородицы к своему Сыну, гневавшемуся на народ «нового Израиля» за его грехи: «Понеже бо церковь Мою оскверниша злыми своими праздными беседами, и Мне ругатели бывают, вземше убо от скверных язык мерския их обычая и нравы: брады своя постригают, и содомская дела творят, и неправедный суд судят, и правым убо насилуют, и грабят чужая имения». В «видении» Господь обещал пролить свой гнев: «Аз же предам их кровоядцем и немилостивым розбойником, да накажутся малодушнии и приидут в чювство, и тогда пощажу их». Никто из царских розмыслов не удосужился проверить, какой же столь грамотный автор, прекрасно знающий Священное писание, дворцовый этикет и обстановку в Кремле, так проникновенно и страстно пробуждает недоверие народа и слуг царёвых к правителю. Впрочем, Шуйский о чем-то начал догадываться и даже попытался как-то исправить положение, начав с пряника. Именно этим объясняется устроенное им пышное перезахоронение останков царя Бориса Годунова, его царицы Марии Григорьевны и царевича Федора Борисовича в Троице-Сергиевом монастыре осенью 1606 года. Ксения шла за гробом и с удовлетворением отмечала, как всего за три месяца правления изменилось выражение лица и весь облик царя Василия, как ветром сдуло маску высокомерия и под ней оказался растерянный, бегающий взгляд, ищущий и не находящий поддержки, боящийся даже своей тени. Столица царский шаг поняла по-своему — дескать, Василий Шуйский решил окончательно очиститься от последствий клятвопреступления, случившегося «по злодейской ростригине прелести, начаялися царевичу Дмитрею Ивановичу». Для современников это был первый и главный грех, наказанием за который стало все произошедшее. Дьяк Иван Тимофеев писал во «Временнике», перечисляя, «от ких разлияся грех земля наша»: «Крестопреступления беспоученную дерзость в клятвах первее предреку». Всю многоходовку Ксении Годуновой сломало пришествие второго Лжедмитрия. Он, как дикий голубь, смахнул с шахматной доски тщательно расставленные фигуры, объединив ранее непримиримых и прочертив новые линии раскола в русской элите. На стороне Лжедмитрия II пришли воевать участники «рокоша» — внутренней междоусобной борьбы короля и шляхты в соседнем государстве. После поражения 6 июля 1607 года в битве под Гузовым, вольная шляхта была вынуждена выбирать, где ей служить дальше. Одни откликались на летние призывы «дважды воскресшего царевича», другие просто шли наудачу в Московское государство, потому что дома после окончания рокоша им не приходилось ждать королевской милости, и когда прошел слух, что Дмитрий жив, к нему отовсюду потянулись люди. Полковника Лисовского, основателя войска «лисовчиков», как и других шляхтичей, ждала в Речи Посполитой смертная казнь. Поэтому в Московском государстве они готовы были пойти на все, а Лжедмитрию II следовало бы уже тогда задуматься, кто к кому нанимается на службу. Впрочем, он тоже был заложником внешних обстоятельств, категорически не учитывающих его намерения. Претенденту на престол положено быть щедрым, раздавать подарки и милости, укрепляя и расширяя тем самым свою неустойчивую власть. У «тушинского правителя» конфетно-букетный период заигрывания с народом закончился, так толком и не начавшись. По всему северу городовые общины пересылали грамоты о том, что произошло в Вологде после присяги тушинскому царю: «Велено собрата с Вологды с посаду и с Вологодского уезда и со архиепископских и со всяких с монастырьских земель с сохи по осми лошадей с саньми, и с верети, и с рогожами, да по осми человек с сохи, а те лошади и люди велено порожжие гонити в полки». Кроме обременительной подворной повинности, наложенной на церковные земли, Вологодский посад и уезд обязаны были поставить с каждой выти — податной единицы — огромное число разных продуктов, утомительное перечисление которых, вероятно, было заготовлено каким-то тушинским Фальстафом: «столового всякого запасу, с выти, по чети муки ржаной, по чети муки пшеничной, по чети круп грешневых, по чети круп овсяных, по чети толокна, по чети сухарей, по осмине гороху, по два хлеба белых, по два ржаных, да по туше по яловице по болшой, да по туше по баранье, по два полти свинины свежия да по два ветчины, да по лебедю, да по два гуся, по два утят, по пяти куров, по пяти ососов, по два зайца, по два сыра сметанных, по ведру масла коровья, по ведру конопляного, по ведру рыжиков, по ведру груздей, по ведру огурцов, по сту ретек, по сту моркови, по чети репы, по бочке капусты, по бочке рыбы, по сту луковиц, по сту чесноку, по осмине снедков, по осмине грибков, по пуду икры черныя, да по осетру по яловцу, да по пуду красныя рыбы, да питей по ведру вина, по пуду меду, по чети солоду, по чети хмелю». Все это добро надо было везти в Тушино на других подводах, взятых у мирских уездных людей. Иногда такие грубые «материальные» детали лучше всего объясняют высокую политическую материю. Выслушав присланный указ, «вологжане против тех грамот ничего не сказали, многие заплакали, и говорили де тихонько друг с другом: хоти де мы ему и крест целовали, а токо б де в Троицы славимый милосердый Бог праведный свой гнев отвратил и дал бы победу и одоление на враги креста Христова государю нашему царю и великому князю Василью Ивановичу всея Руси».
Именно тушинские грабежи стали спасительными для правительства царя Василия Ивановича. В окружных грамотах, рассылавшихся из Москвы, очень умело обыгрывалось недовольство повсеместным присутствием тушинцев. Действия «воровских» отрядов объясняли как борьбу против православной веры: «А ныне и сами не ведаете, кому крест целуете и кому служите, что вас Литва оманывает; а то у них подлинно умышлено, что им оманути всех и прелстя наша крестьянская вера разорите, и нашего государьства всех людей побита и в полон поимати, а досталных людей в своей латынской вере превратить». Ссылаясь на тушинский порядок, царь Василий Шуйский отвращал своих подданных от присяги тому, кто раздирает на части Московское государство: «…а ныне литовские люди нашего государьства все городы и вас всех меж собою поделили по себе и поросписали, кому которым городом владети; и тут которому быти добру, толко станет вами Литва владети». От царя шли обещания наград, прощение тем, кто, «исторопясь», «неволею» или по неведению целовал крест проклятому «Вору». О сидевших в осаде в Москве людях говорили, что они «все единомышленно хотят за святыя Божии церкви и за всю православную крестьянскую веру с воры битися до смерти». Всем, кто поддержит эту борьбу и «на воров помощь учинит», обещалось такое «великое жалованье, чего у вас и на разуме нет».
В городах Московского государства началось обратное движение в поддержку царя Василия Шуйского. Сделать это было непросто, потому что раскол, произошедший в городах и уездах, коснулся местных дворянских обществ, столкнул между собою «лучших» и «молодших» посадских людей. Одни только крестьяне никуда не бежали и не покидали своих мест, единственный выход для них оставался в самообороне. Посадские же люди убегали и искали приюта в других городах, где их не могли достать тушинские мытари. Представители одного и того же служилого «города» и даже родственники сидели в осаде в Москве и Троице-Сергиевом монастыре, а их братья воевали на стороне Тушинского Вора. Когда в ноябре-декабре 1608 года от самозванца отложились Ярославль, Кострома, Галич и другие крупные центры Замосковного края, дворянам этих уездов пришлось воевать друг с другом! Нижегородское ополчение воеводы Андрея Семеновича Алябьева, ходившее походами на Арзамас, Муром, Касимов, вступило в бои с отрядами под предводительством дворян из Владимира и Суздаля, воевавших на стороне Лжедмитрия II. В этих условиях Ксения Годунова, искренне презиравшая Шуйских и ненавидящая «тушинского вора», считала своим долгом и единственным спасением себя и Отечества привлечение третьей силы, не участвующей в династических спорах, но способной обоих низвергнуть. Вот тогда-то и понадобится новой власти легальное обоснование своего присутствия, тогда и сыграет свою роль, как ковровая дорожка к трону, ее царское происхождение. Ксения дописала письмо, придирчиво проверила текст и скорописью принялась переписывать его по-латыни.Сверив с оригиналом, она порвала первоначальный текст и выкинула обрывки в огонь, спрятала в рукав оставшийся в одном экземпляре латинский вариант и зашла в горницу, где увлеченно беседовали Ивашка, Игнат и Дуняша. — Поручение у меня к тебе, Иван, — повелительно начала Ксения, отведя в сторонку и внимательно осматривая щуплого подростка, будто прицениваясь, — да вот не знаю, справишься ли? — Распоряжайся мною, как душеньке твоей угодно, царевна-матушка! — Ивашка поклонился в пояс. — По-латински разумеешь? — присела на самый краешек скамьи Годунова, испытывающе глядя на паренька. — Языкам не обучен, — вздохнул писарь, — но копировать могу — не отличишь. — То, что можешь — это хорошо, — благосклонно кивнула Годунова, — а вот делать так, чтобы никто не отличил — не надо. Пиши своим почерком, не подражай… Но главное, Иван, про мое поручение и грамотку эту знать никто не должен. Разумеешь?
* * *
Когда через два дня Ивашка, гордый исполненным поручением, вприпрыжку выскакивал из подвального хранилища, он с размаху налетел на прогуливающегося по свежему воздуху Голохвастова. Ударившись головой в плечо воеводы, писарь не удержался на ногах, отлетел на несколько шагов назад, неловко и больно упал на мерзлую землю. Свиток, предназначенный Ксении Годуновой, выпал у него из рукава и предательски покатился к ногам воеводы, скорчившегося от боли в раненом боку. — Ах ты, шельма! — взревел Голохвастов, — совсем страх потерял!.. Метнув яростный взгляд на писаря, воевода ловко подхватил грамотку, развернул, и лицо его потемнело. — По-латински писано? — зловещим шепотом произнес он, нащупывая здоровой рукой рукоять меча. — Ну вот и конец тебе, писарь! Добегался…* * *
Справка: использованные материалы книги «Василий Шуйский». Автор — Козляков Вячеслав Николаевич.Глава 14 Главный выбор

Зло пнув закрывшуюся с лязгом дверь, Ивашка присел на лестницу, ведущую в подвал, с интересом прислушался к собственным ощущениям. Его поразило непривычное отсутствие страха, знакомого прикосновением к спине холодных липких щупальцев и противной судорогой внизу живота. Он исчез, испарился, растворился в бешеных глазах Голохвастова, остудив их до состояния черной зимней полыньи на белом, как снег, лице. Вместо страха перед начальством виски ломило от отчаянного стыда за невыполненное поручение, и сердце сжималось от тревоги за судьбу царевны, вверившей писарю свою тайну. Что, если Голохвастов ославит её, опозорит, покажет свиток кому не след, а там… Ивашка представить не мог, что дальше, но мнилось ему, что сокрыта в письме тайна великая, способная возвысить Ксению, попади оно в надежные руки… А попало к младшему воеводе… Растяпа! Вскочив на ноги и снова пнув крепкую, дубовую дверь, Ивашка вздохнул и спустился в просторный библиотечный подвал… Огляделся… Будто и не уходил отсюда — даже дерюжка, служившая спасительной накидкой, лежала на том же месте на скамье, где он её оставил, уходя к Долгорукову… Видно, Митяю тоже недосуг… Пошарив по столу, паренек нащупал кисет с кремнем, кресалом — куском железной ленты с насечками и трутом — заботливо и тщательно высушенным мхом. Высек искру, раздул огонь, заправил свечной огарок. Длинные тени послушно заплясали по тёмным сводам подземелья, потянулись к огоньку своими корявыми руками. Ивашка подтянул к себе книгу, покрытую изрядным слоем пыли, протёр её, прикрыв нос рукавом и стараясь не дышать. Он сел и уставился на аккуратные прописи. Текст расплывался в глазах, смысл прочитанного ускользал от воспаленного сознания. Перед его внутренним взором стояли, не отпуская, внимательные глаза Годуновой и преисполненный холодного бешенства взгляд Голохвастова. Она просила. Он требовал. Да только любое слово и даже молчание Ивашки обязательно кому-то навредит… Что делать? Открыться воеводе? Сказать, чью тайну содержат эти латинские письмена — значит нарушить слово, данные царевне. Как после этого жить вероломцем? Не сказать — прослыть подсылом вражеским. А ведь воевода не успокоится, пойдет искать толмача, и какие секреты раскроет этот свиток? Боже, что же делать? Как спастись от навета, сберечь своё доброе имя и тех, кто тебе доверился? Спаси и научи, Господи! — Трудный выбор, Иван! — гулко раздался в подземелье знакомый тихий голос… Испуганно вскинув голову, писарь узрел за столом того самого монаха, явившегося к нему однажды во сне. Старец чинно сидел за столом, положив руки на столешницу, был в такой же поношенной, выцветшей рясе, подвязанной самой простой веревкой. Светлые, словно отбеленные волосы, аккуратно зачесанные назад, и такая же белая борода отражали пляшущий язычек пламени, и казалось, что смуглое лицо старца и глаза его окаймлены огненными сполохами. — Трудный выбор, — повторил преподобный, — для человека неверующего — непосильный. — А для православного? — шумно сглотнув, спросил писарь. — Момент истины, — старец не отводил своих внимательных глаз от юноши, — испытание, посредством которого Спаситель вопрошает, помнит ли христианин, какие наветы претерпел Господь наш Иисус Христос. Готов ли следовать за ним, принимая неправедную хулу и казни так, как принимал их Спаситель? Писарь опустил голову и задумался. Воображение услужливо нарисовало картину распятия — гвозди, врезающиеся в ступни и кисти, трепещущее тело, поднятое на кресте. Ивашке стало по-настоящему страшно. — И что? — прикусив губу, прошептал он и вскинул глаза на старца, — страсти Христовы… это обязательно? — Господь не даёт испытаний больше, чем человек может выдержать, — произнес преподобный тихо, — но они неизбежны и для простолюдина, и для государя, для всей земли нашей, ибо только через испытания имеем возможность укрепить веру и волю свою. И не роптать надо из-за них, а воспринимать, как благодать божью… — Но почему?! — не выдержав, перебил старца Ивашка… — разве обязательно страдать? По лицу преподобного впервые пробежала тень улыбки. — В своем диалоге с Сократом Платон сказал: «Трудные времена рождают сильных людей. Сильные люди создают хорошие времена. Хорошие времена рождают слабых людей». Так понятнее? Ивашка покачал головой, умоляюще глядя на монаха, и молитвенно сложил руки, чтобы тот не серчал на его тугодумие. Преподобный и не думал сердиться. — Человек становится сильнее, когда идет в гору, — говорил он также медленно и обстоятельно. — Мы растем, пока на нас давят, становимся увереннее, когда пытаются ослабить. Только в борьбе с угрозами и страстями окружающего мира мужает и крепнет душа… Но стоит нам только попытаться уклониться, спрятаться, хотя бы чуть-чуть успокоиться, предположив, что все победы одержаны и можно почивать на лаврах, именно тогда начинается падение, и поражение наше становится неминуемым, как закат Солнца. — И не убежать? — обреченно вздохнул Ивашка. — Убежать… — монах тяжело поднялся из-за стола, расправив плечи, подошёл к окошку, крошечный зев которого еле угадывался под потолком. — Как было бы просто решать хоть какие-то проблемы, всего лишь убежав… Старец замолчал, а Ивашка, озадаченный его словами, вдруг заметил, что подвальные стены словно растворились в вечернем сумраке, и перед преподобным в смутном зареве костров и факелов вдруг проступили контуры величественного белокаменного пятикупольного собора. — Что это? — прошептал писарь, не отрывая глаз от зрелища. — Ростов, — не поворачиваясь, произнес старец, — Успенский белокаменный храм, воздвигнутый по велению Великого князя Владимирского Андрея Боголюбского ещё до татарского разорения. Собор сей — свидетель дерзновенной мечты объединения земель русских под рукой древнего города, а позже — угасания и забвения после добровольного отказа от борьбы за соборность, от жертвенности, тягот и лишений ради комфорта и уюта, дарованных дерзкими беспокойными предками… Целое княжество, зажиточное и сильное, решило однажды, что жить надо тихо, спокойно, не суетясь и не дерзая. Пойдём со мной, Иван. Ты своими глазами узреешь, чем заканчивается бегство от испытаний, предначертанных свыше… Опираясь на высокий посох, монах не спеша направился к огромному крыльцу-паперти. Писарь поспешил следом, боясь отстать и потеряться в незнакомом месте. Чем ближе подходили они к Успенскому собору, тем больше бросались в глаза незаметные издали следы упадка храма, проступающие на стенах и куполах, как седина на голове и морщины на лице дряхлеющего человека. Каменное узорочье, обвивающее лентою стены собора, местами обветшало и сбилось. Львы, грифоны, крылатые херувимы, украшающие портики, потеряли части своих фигур и выглядели инвалидами, внушая не трепет и восторг, а жалость. Штукатурка язвилась голой каменной кладкой, и даже чешуйчатая кровля зияла кое-где чёрными проплешинами. Обветшалость храма словно передалась людям, снующим на площади. Они все были чем-то похожи на него. Издалека — вполне зажиточные и довольные собой, вблизи оказались небрежно одеты в некогда добротную, но заношенную одежду, сбитые сапоги и опорки. Но более всего Ивана поразили лица. Они несли на себе отпечаток какой-то обреченности, как у приговорённых к самому жестокому наказанию и потерявших любую надежду на помилование. — Что здесь случилось? — испуганно озираясь по сторонам, прошептал писарь, — кто эти люди? Почему они так странно выглядят? — Это те, кто предпочел непротивление борьбе, — не оборачиваясь, произнес старец. — Они решили, что смогут до конца земных дней пользоваться отцовским статусом и дедовскими благами, накопленными до них, но не знали, что именно так и наступает упадок. Равно, как для человека, так и для государства. Со слабости, с отказа от схватки, с потери желания превозмочь непреодолимое пропадает обоснование необходимости самой жизни. И тогда в единой доселе семье начинаются свары, вместо новых приращений — дележ накопленного предками, вместо взаимопомощи — взаимная неприязнь… Из-за ложного миролюбия любимые становятся дальше, чем лукавые, и оборотистые дельцы из иных земель облепляют почтенного главу семейства, позабывшего о долге перед домочадцами, и братья вручают родовое добро незнамо кому, лишь бы не досталось своим. — Отче! — воскликнул Ивашка, — а если нет сил бороться? Если чувствуешь, что слаб? — Любой человек слаб! — преподобный остановился, обернулся к писарю, и тот впервые увидел сдвинутые брови и суровый взгляд игумена, — но надо быть очень сильным, чтобы, ссылаясь на это, перечить промыслу божьему! — Прости, Отче, — Ивашка прибавил шага и догнал игумена. — А ты перечил, раз говоришь о том так уверенно? Преподобный задумался, оглянулся вокруг, присел на корявый комель, неизвестно за какой надобностью привезенный на площадь, упер посох в дорожную пыль и прикрыл глаза, погружаясь в воспоминания. — Два смертных греха — уныние и гордыня, сменяя друг друга, особенно усердно подтачивают человека, как короеды — дерево. Не избежал этой участи и я, грешный… Всё есть в твоей книге, обо всём можно прочесть, да только свеча… Ивашка встрепенулся и открыл глаза… Он сидел за тем же столом, уронив голову на руки. Перед ним лежал исполинский фолиант, а рядом тлел в глиняной крынке погасший восковой огарок. Метнувшись к хозяйскому ларцу, писарь торопливо достал еще одну свечу, морщась и сбивая пальцы, высек огонь, снова запалил фитиль и обследовал подвальное пространство вокруг себя. Никого! Опять привиделось, приснилось… Озираясь, Ивашка подтянул поближе книгу и уткнулся в прописи, силясь в них найти то, о чем хотел, но не успел рассказать преподобный, такой понятный, и в то же время очень непростой человек… Отец его — Кирилл — был знатным чистокровным русским боярином ростовских князей, мама Радонежского — Мария — вела свой род от знатных татар — чингизидов. Во время отрочества Сергия, тогда еще Варфоломея, Ростовские земли попали под руку великого князя Ивана Даниловича Калиты. Железной дланью собирал сей московский правитель русские земли, скупая у хана Узбека ярлыки на обедневшие княжества. Скупил он и право управлять Ростовом. С местной знатью не церемонился. Воеводы московские Кочева и Мина, прибывшие в город, вели себя в новой вотчине, как тати и лиходеи. «Многие принуждены были отдавать московитам свои имущества, доходя до крайней нищеты, и за это получали только оскорбления и побои. Не избежали этих скорбей и праведные родители Варфоломеевы,» — бесстрастно сообщала Ивашке летопись о мытарствах ростовских. Писарю казалось, что из-под книжного полуустава проступают слезы и кровь ограбленных и униженных. Он читал и представлял воочию, как юный Варфоломей в час разгульного грабежа бродил по родительскому дому среди перепуганных, суетящихся слуг и шныряющих тут и там новых хозяев княжества, спотыкался о вывороченные узлы с рухлядью, сдвинутые и отверстые сундуки. Со страхом смотрел, как мать, с пугающе-тонким, в нитку сжатым ртом, с запавшими щеками, с лихорадочно светящимся взором на белом, бумажном лице открывала ларцы, кидая в большой расписной короб серебряные блюда и чаши, драгие колты и очелья, перстни и кольца, словно чужое, как морщась, вынимала серебряные струйчатые серьги из ушей и, не глядя, кинула их, невесомо-сверкающие, туда же, в общую кучу домашнего, ставшего чужим серебра…
«Со всем родом своим он „въздвижеся и преселися въ Радонѣжь и с ним и инии мнози преселишася от Ростова“».— Вслух прочёл Ивашка окончание жуткой главы о ростовском разорении. Про переезд семьи преподобного в Радонеж Ивашка читал взахлеб, глотая страницы, и казалось ему, что и не читает он вовсе, а незримо присутствует среди домочадцев Сергия, внимая их речам и переживая вместе с отцом семейства падение некогда славного и влиятельного рода в бездну нужды. Ростовский боярин Кирилл при иных обстоятельствах мог претендовать в Москве на высокое положение, но вовремя подсуетились недоброжелатели, положив на стол Великого князя московского подметное письмо, да не одно… В московском Кремле боярина Кирилла сочли неблагонадежными, и никто из его рода не смел мечтать о светской карьере. Ивашка читал и представлял, как гонец приносит известие об опале в дом будущего игумена земли русской, погружая всю семью в тоску и страх, как приходит Варфоломей к своему старшему брату Стефану, и сидят они, обнявшись, у остывшей печи, прижимаясь друг к другу, в страхе перед грядущим. Прежняя жизнь и все надежды на восстановление положения окончательно рушатся. Обоих колотит нервная дрожь. Они молчат, брошенные и потерянные в безысходной пустоте погибшего дня, и оба не ведают, что делать им, что думать и как строить свою жизнь, не ту, внешнюю, где слуги, хлеб и с голоду не умрешь, — а внутреннюю, духовную, важнейшую всякой другой. Куда направить ум и силы души? А за стеной не спит, мается отец их Кирилл, уж и не боярин вовсе, не веря, что питала его доселе глупая, тщеславная надея, что блеск прошлого величия, прежних заслуг на службе княжеской что-нибудь да значить здесь, на московской земле. А теперь, хоть и вольный он человек, муж, владелец холопов и земли, но уже не служилый. Придется и дань платить, яко всем, и мирскую повинность выполнять, наряду с простолюдинами. Хорошо, хоть не записали в черносошные крестьяне, а в вольные землевладельцы. И то благостыня великая! Очень быстро вчерашние боярчата исподволь стали осваивать мужицкий труд — валили лес, рубили хоромы, готовили пашню под новый посев, чистили пожни. Приходилось работать секирой и тупицей, пешней и мотыгой, теслом и скобелем, молотом и сапожною иглой. Мяли кожи, сучили дратву, тачали и шили, гнали деготь, чеботарили, лили воск… Когда впервые пошли на ляд[49], старший брат Стефан, глянув искоса, повелел Варфоломею сурово: — Лапти обуй! Сапоги погубишь! Боярин в лаптях! Срамота-то какая!.. Ещё одна ступенька вниз, удар по самолюбию. Варфоломей переобулся без слов и наравне с холопами весь день ворочал горящие комли и ветви, размазывая сажу и пот по лицу, временем поглядывая на младшего Петра — не провалился бы невзначай в какую огненную яму. Когда ставало невмоготу, читал про себя «Отче наш» или свой любимый псалом:
«Камо пойду от духа твоего, и от лица твоего камо бежу? Аще взыду на небо, ты тамо еси, аще сниду во ад — тамо еси, аще возьму криле мои рано и вселюся в последних моря, и тамо бо рука твоя наставит мя, и удержит мя десница твоя!»Воротясь с ляда, он нестерпимо желал лечь без обычной вечерней молитвы. Но и обуреваемый сном, тихо скуля от боли, от сухого жжения опаленной кожи, Варфоломей все-таки поднялся, добрел до иконы и, встав на колени, горячо поблагодарил Господа за данные ему силы к труду. Стало легче. Одолев себя, уж и разогнуться сумел, и твердо дойти до ложа, перетряхнул слежавшуюся солому, с грустью вспоминая пуховые перины в боярском фамильном тереме, но закручиниться не поспел. Голова лишь коснулась соломенного тюфяка из грубой дерюги — нырнул в сон, как в омут… На следующий день Стефан, глянув на обгорелые останки лаптей в руках у брата, процедил, скорее себе, чем ему: — И лапти плесть научиться надоть! Не ответив ни слова Стефану, пожертвовав своим сном и отдыхом, Варфоломей за две недели выучился заплетать и оканчивать лапоть, постиг прямой и косой слой, уразумел, как ловчее всего действовать кочедыком[50]. Настал тот день, когда сподобился Варфоломей участвовать в первой в своей жизни посевной. В мельчайших деталях на всю жизнь запомнил он, как торжественно насыпали в кадь и в пестери[51] припасенную рожь, как мешали с семенным зерном сбереженный пасхальный кулич, ставили свечи. Священник, взяв кропило с освященной водой, благословенной за всенощным бдением, шёл в поле и там, облачившись в епитрахиль, становился лицом на восток и совершал молитву, брал в ладонь благословенное зерно, бережно сыпал его в семена со словами «Увенчай, Господи, лето Твоими благодеяниями и поля Твои исполнятся обилием и долины покроются хлебом», кропил святой водой, трижды бросал рожь на поле, произнося: «Благословение Твое, Господи, да сойдет на эти семена и да произрастут они и дадут обильный плод, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь». Разувшись и повесив пестери себе на плечи, пошли вчерашние бояре вперемешку с холопами по вспаханному полю, покрестив лбы и прошептав молитвы, одинаковым движением рук разбрасывая тугие струи сыпучего зерна. А следом за ними двинулись две конные упряжки с деревянными боронами. Одну вел будущий основатель Троицкой Сергиевой обители, другую — его младший брат Петр. Варфоломею тоже дали пройти по пашне, бросить в пушистую землю зерно, и он с замиранием сердца, хоть и неумело, взмахивал рукой и кидал разлетающуюся в воздухе горсть семян, всей кожей ощущая причастность к творению чуда воссоздания нового бытия из предыдущего, к таинству возрождения жизни из пепла. Как вырастает из семени целое растение, никто не знает. Точно так же неуловимо и необъяснимо преображение души человека, совершаемое силою благодати Божией, где Закон самопожертвования является законом самосохранения. Семя, брошенное в землю, умирает, но дает плод, который со временем становится посевом и так преумножается. Так и у людей жизнь, сохраненная для вечности — это жизнь, добровольно отдаваемая в служение. Жертвующие своею жизнью в этом мире, сохранят ее для жизни вечной… Ивашка вынырнул из книги, словно из воды, и долго тер глаза руками, настолько зримо представилось ему прочитанное, будто вместе с Варфоломеем мучительно переживал стыд падения в простолюдины, ходил за бороной и кидал рожь в теплую землю, покрытую пеплом пожога. Он встал, прошелся по подвалу, неслышно шевеля губами, повторяя про себя прочитанные строчки о таинстве возрождения зерна после смерти, о жертвенности, как обязательном условии вечной жизни, грубыми ножницами откусил подгоревший фитиль и снова окунулся в чтение, как в пучину, жадно поглощая детали юношеского бытия человека, ставшего при жизни святым… И вновь ему привиделось, что взирает он не на округлый полуустав, а на Стефана, ловко орудующего плотницким инструментом, беседующего с Варфоломеем. — Благо есть, что все так окончилось! — громко проговаривает Стефан, втыкая в ствол блеснувшее лезвие секиры. — Богатство, палаты, вершники впереди и назади, седла под бирюзой, серебряные рукомои… На коне — едва ли не в отхожее место! Варфоломей слушает раскрыв рот, не сразу разумея, что Стефан бает про ихнюю прежнюю жисть. — Роскошь не надобна человеку, коли Господь есть в сердце! — распирает Стефана изнутри, и слова выпрыгивают оборванные, словно обугленные, без начала и связи. — А мы все силы — опасти себя от тяжести! Облегчить, от поту опастись! Алчем сокровищ, что червь точит и тать крадет! И на сём, тленном, задумали строить вечное! Московляне правы, что отобрали у нас серебро! Стефан говорит, как рубит. Летят в разные стороны щепки из под его топора и вслед за ними — колючие, как занозы, слова. — Срам, что, пока не свалит на тебя беда, сами не можем! Слабы духом! А надо самим! Нужно величие жертвы! Да! В монахи! — продолжает он яростно орудуя тесалом. — От роскоши, гордости, от похвал и славы — ото всего! Тогда только узришь свет Фаворский! Вот путь! Очистить себя от скверны стяжательской! Дьявол взыскует плоть, Господь — дух! И это должны сделать мы! Бояре! Мужики — они еще не вкусили благ, а мы, отравленные ими, должны сами себя изменить! Хватит сил духовно — сумеем поднять всю Русь! Все прочее — тлен. Слова не нужны. Нужны дела! Подвиг! Ивашка не верил своим глазам. Он столько раз слышал и читал, что монашеский постриг — это удаление от мира, его отрицание… И вдруг из уст Стефана, признанного святым, слышит про подвиг монашества, как про способ поднять и сплотить Русь. Монастырское служение — не бегство от мира, а вторжение в него! И Варфоломей соглашается — нужен подвиг духовный, монашеский, обретение в себе Духа Божьего! Фаворский свет! Огонь, от коего возгорится новое величие Руси! Он, стоя на отцовской земле, уже знал — другого пути не могло быть и не будет. Ивашка захлопнул книгу и прикрыл уставшие глаза. Неосознанные мысли не давали покоя, роились в голове, внутренний протест рождался в его душе. От этого чувства было страшно и торжественно, как на службе в страстную пятницу. Преподобный так и не ответил на его вопрос, как спастись от навета, сберечь своё и доброе имя тех, кто тебе доверился, но поведал нечто более важное, на фоне чего все придворные интриги, письма, слухи, сказки, династические споры казались мелкими и несерьезными.
* * *
Справка: Описание взаимоотношений братьев Стефана и Варфоломея позаимствованы из книги Дмитрия Балашова «Похвала Сергию».Глава 15 Литургия

Ещё никогда литургия святителя Иоанна Златоуста для казначея Троицкого монастыря Иосифа Девочкина не бежала так стремительно, неумолимо приближая встречу, которой он так хотел избежать. Письмо, переданное ему Голохвастовым, c требованием перевести и сообщить об авторе, адресате и содержимом послания, жгло кожу и предательски отвлекало от священнодействия. «И, взяв хлеб и благодарение, преломил и подал им, говоря: сие есть тело Мое, которое за вас предается; сие творите в Мое воспоминание[52]», — вслед за братией повторял казначей во время Проскомидии, мыслями блуждая в лабиринтах свалившейся на него задачи и не находя решения, позволяющего закончить дело миром, без жертв и распрей. Он мгновенно узнал почерк монастырского писаря, а прочитав всего пару фраз, понял, кто являлся составителем, и мучился, чувствуя себя ключиком к ларцу, содержащему чужие секреты. Ему бы слукавить, сказать Голохвастову, мол забыл эту треклятую латынь, но решил быть любезным, услужить и вынужден держать в руках этот немыслимо горячий уголёк, понимая, какой вред он может принести Ксении Годуновой, любимой им по-отечески, почтенно и робко. Назвать письмо Ивашкиным — смешно! Писарь не мог составить бумагу, имеющую все признаки династического заговора. На кого же показать пальцем, чтобы все остались целы? Погруженный в тяжёлые думы, Девочкин не заметил, как закончилось чтение Часов и началась Литургия оглашенных, хор антифонно запел псалмы, прозвучала Великая ектения — возможность помолиться за тех, кто дорог. — Господи, Спаситель наш! — шептал Девочкин истово, — наставь и вразуми, как уберечь рабов твоих Ивана и Ольгу от бесчестья мирского и падения духовного, не преступая законы твои, никого не хуля и не лжесвидетельствуя!.. «Как быть? На кого указать? — металась в голове колючая мысль, — принять на себя?» Но откуда он, скромный келейник, мог знать имена и события придворной московской и европейской жизни? Тогда кто?… Игумен? Келарь? Не то… Не так много в осажденном монастыре людей, имеющих отношение к сильным мира сего. Как ни крути, все дорожки ведут к Годуновой и ее наперснице — королеве-инокине Марфе Старицкой… Казначей очнулся от своего забытья, когда началась Литургия верных, на престол перенесли Дары с жертвенника и хор затянул Херувимскую песнь. Под призыв возлюбить Святую Троицу и пение «Символа веры» сознание кольнула не оформившаяся идея. «Бог Троицу любит» — вертелась в голове мысль, намекая на созревающее решение. Диакон опоясался орарем, возгласил «Вонмем», и завеса Царских Врат задёрнулась, напоминая о камне, который был привален ко Гробу Господню. Священник, поднимая Святой Агнец, возгласил «Святая — святым». Присутствующие на литургии ответили: «Един свят, един Господь, Иисус Христос, во славу Бога Отца», тем самым сознавая свое недостоинство. Вместе с братией отец Иосиф повторил эти слова, и смутный образ в его голове приобрёл глубину и законченность. Конечно же! Дорога в монастырь закрыта польско-литовской осадой так же, как был заслонён камнем вход ко Гробу Господню. Тут образовался свой микромир, где есть государь, которому можно всё, и его подданные, обязанные выполнять беспрекословно указания правителя. Властителем на всё время осады является князь Долгоруков, и ему одному не страшны никакие наветы, ибо судить его некому. Выше — только Господь. А что, если сказать Голохвастову, что Ивашка переписывал его письмо? Тогда всё сойдется! Писарь служит ныне у старшего воеводы. Долгоруков, как окольничий, знает в московском Кремле все входы-выходы, да и с посольствами в иноземные страны не раз выезжал, языкам иностранным обучен… Всё получается складно… «А что в письме?» — «Скажу — не читал всего письма, как понял, кем оно писано. Не пристало скромному келейнику касаться тайн государственных…» И ничего Голохвастов с Долгоруковым сделать не сможет, ибо сам — его подчиненный. И Ксения не попадёт под подозрение, и писаря выпустят из подвала. Что ж за вина — княжью волю исполнять? Полностью обдумав план действий, казначей облегченно вздохнул и, наконец, смог сосредоточиться на литургии, подходившей к концу. Он с умилением взирал, как священник разламывает Агнец на четыре части: первую с надписью «IC» — опускает в чашу, вторую с надписью «ХС» — откладывает для причастия священнослужителей, а кусочки с надписями «NI» и «КА» — для мирян.
* * *
После литургии братия ждала, когда вынесут Панагию. «А доколе панагии не вынесут, и ты с места своего не мози ступати», — сказано в уставе монастыря. Слово «Панагия» в переводе с греческого языка значит «Всесвятая». Так обычно именуется Богородица, но в чине Панагии это название относится к просфоре, из которой на литургии изъята частица в честь Пресвятой Богородицы. История этого монастырского чина уходила в апостольские времена. Согласно церковному преданию, апостолы после Сошествия на них Святаго Духа жили вместе и обычно за столом оставляли незанятое место для Христа, полагая там «укрух» — кусок хлеба. По окончании обеда и благодарственных молитв они поднимали этот укрух со словами: «Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу. Велико имя Святой Троицы. Господи Иисусе Христе, помогай нам». Собранные на Успение Божией Матери и совершив ее погребение, они на третий день сидели вместе за трапезой. Когда после обеда апостолы по своему обыкновению подняли укрух и произнесли «Велико имя…», то увидели в воздухе образ Пресвятой Богородицы, окруженной ангелами. Она обещала всегда пребывать с ними. Тогда апостолы вместо «Господи Иисусе Христе, помогай нам» невольно воскликнули «Пресвятая Богородица, помогай нам». В этот раз появилась еще одна веская причина задержаться в храме — поблагодарить Богородицу за участие в отражении штурма крепости, за покров, распростертый над обителью, и за чудесное спасение воинства христова в бою с неприятелем, вдесятеро превосходящим по силам. После молитвы монахи вместе с приглашенными по такому случаю военными чинно и обстоятельно переместились в трапезную. Первым шел священник, служивший литургию, он нес на особом блюде Панагию. За ним следовали игумен и вся братия строго по одному — «един по единому» — с пением 144-го псалма. Войдя в трапезную, священник остановился на правой стороне, читая молитву «Господи, Боже наш, небесный, животворящий…». Иноки стали полукругом. За ними бесформенной толпой сгрудились десятники и сотники, непривычные к долгим монастырским церемониям. Игумен вынул из Панагии частицу, называемую «Хлебцем Пречистым», произнося тропарь Благовещению Пресвятой Богородицы «Днесь спасению нашему начаток», положил этот хлебец на панагиаре и поставил в трапезной на аналое, прочитав молитву перед вкушением пищи. Наконец, началась трапеза. — Ангела за трапезой! — произнес вполголоса казначей, присаживаясь рядом с игуменом. — Спаси, Господи! — поблагодарил келейника Иоасаф. — Во славу Божию, — завершил Девочкин обязательный этикет. Некоторое время сидели молча, в трапезной был слышен только монотонный монолог чтеца. — Что не вкушаешь, отец Иосиф? — игумен скосил глаза в сторону нетронутого варева. — Благодарствую, — коротко поклонился Девочкин. — Уж не захворали ли ты, — забеспокоился Иоасаф. — Нет, отче, Господь миловал, хотя… Девочкин запнулся, поймав на себе удивленные взгляды иноков. Разговаривать за монастырской трапезой было не принято, ибо она являлась продолжением богослужения и не могла прерываться частными беседами… — Ты о чем-то хотел спросить, отец Иосиф? — шепнул игумен. — Нет, ничего… Прости, отче, устал, — вздохнул Девочкин. — Господь простит, — произнес игумен, глядя с тревогой на прячущего глаза казначея, — или всё ж поведаешь, что гложет? Девочкин мотнул головой и ещё ниже опустил её. Желание рассказать Иоасафу про треклятое письмо испарилось, и казначей постыдился признаться самому себе, что причиной нежелания делиться с игуменом была боязнь, что тот начнет отговаривать казначея и, таким образом, разрушит хорошо сложившийся в голове план.* * *
По окончании обеда последовало краткое благодарение за трапезу, все вставали и молились, прося благословения на совершение чина Панагии. Игумен передал «Хлебец» диакону. Тот просил попрощения у игумена, готовя себя к священнодействию: «Прости мя, отче святый…» И игумен отвечал: «Благодатию Своею Бог да простит и помилует». Диакон, сняв куколь, взял просфору тремя пальцами, двумя — с правой руки и одним — с левой, а остальными делал сень над просфорой и поднимал ее над иконой Святой Троицы, громко говоря: «Велико имя». Настоятель отвечал: «Пресвятыя Троица». Далее диакон переносил просфору и крестообразно знаменовал ею икону Богородицы, говоря: «Пресвятая Госпоже Богородице, помогай нам». И клиросные монахи отвечали: «Тоя молитвами, Христе Боже, помилуй и спаси душа наша», «Блажим Тя вси роди, Богородице Дево». Клирос пел: «Блажим Тя вси роди, Богородице Дево, преблаженную и непорочную и Матерь Бога нашего». Игумен произносил молитву «Милостив и щедр Господь, пищу дал есть боящимся Его», дробил «Хлебец Пречистой» и раздавал братии. После заключительных благодарственных молитв Иоасаф изрек «Благословен Бог, милуяй…» и поблагодарил всех, служивших за трапезой. Закончился Чин Панагии. Причин откладывать неприятный визит больше не было. На подкашивающихся от страха ногах казначей направился к покоям младшего воеводы. Страж у дверей кивнул, узнав старца. Скрипнули половицы, и Голохвастов, не успев снять доспехи, легко поднялся из-за стола к монаху. — Ну? Чьи письмена удалось перехватить? Что там писано? — Не вели казнить, надёжа Алексей Иванович, — бухнулся на колени Девочкин, — но только не могу я читать сей свиток, ибо писан он собственноручно или со слов князя нашего Григория Борисовича… Голохвастов изменился в лице, метнул взгляд на закрытую дверь, зачем-то подбежал к окошку и вернулся к стоящему на коленях монаху. — Чего орёшь, — зашипел он ему на ухо, озираясь по сторонам, — а ну-ка, вставай с колен, садись на скамью и рассказывай подробно…* * *
Долгоруков зашёл в горницу молча, исподлобья глядя на ожидающего Голохвастова. Младший воевода сидел в Красном углу неподвижно, как изваяние, положив сжатые кулаки на дубовую столешницу, упёршись взглядом в приоткрытый печной зев, где язычки пламени облизывали свежеколотые поленья. Нетерпеливо рванув сыромятный ремешок, князь скинул на руки служке шлем, под которым обнаружилась лазоревая, шитая серебром тафья[53], повёл плечами, освобождаясь от длинного до щиколоток охабня из небесно-синей объяри[54] с залихватски закинутыми за плечи и завязанными на спине рукавами, остался в становом кафтане из кызылбаской камки[55], подпоясанном широким расшитым поясом, концы которого, украшенные богатой серебряной кистью, свисали аж до колена, доставая до голенищ сафьяновых сапог. Перекрестившись на Образ в Красном углу, князь дождался, пока холоп придвинет лавку, сел напротив Голохвастова, положив на столешницу ручищи, стянутые у запястий серебряными узорчатыми зарукавьями, пророкотал басом, немного осипшим с мороза. — Ну сказывай, Алексей Иванович, зачем пожаловал и почему от трапезы отказываешься? Голохвастов тяжко вздохнул, не отрывая взгляд от пляшущего в печи огня. — Измена, Григорий Борисович, — произнес он тихо, но твердо, — измена в обители. Оттого и снедать недосуг, да и кусок в горло не лезет. Светлая княжеская горница погрузилась в тишину. Лишь канонада осиновых дров звучала в печи всё настойчивей. — Не молчи, продолжай, Алексей Иванович, — строгим басом молвил Долгоруков. — Какая измена? Откуда сие ведомо, кто главный злодей? — Вестимо какая, — Голохвастов наконец-то поднял глаза на князя, — перехватил я письмо подмётное, писанное на латинице. — И что в том письме? — оживился Долгоруков, — кем и кому писано? — А вот ты, князь-надёжа, и сказал бы — кому. — Глаза Голохвастова сузились, а губы искривились в усмешке. — Ты ж у нас службой в царских посольствах отмечен, языкам обучен. А я кто? Скромный царёв хранитель, жилец из ночных сторожей. Грамоту сию не разумею, да только знаю, что писано то письмо тобой или с твоих слов. — Что-о-о-о-о? Грохнули об пол отброшенные скамьи, охнуло в печи пламя, потревоженное движением воздуха в горнице. Воеводы разом вскочили на ноги и замерли, опершись кулаками о стол, буравя друг друга взором глаза в глаза. — Что ты спохватился так, Григорий Борисович? — зловещим шепотом произнес Голохвастов, — надеялся, что о том никто не проведает, а оно вот как обернулось? — Ты, Алексей Иванович, говори, да не заговаривайся, — в тон ему отвечал Долгоруков, — а то за сочьбу наводимую и головы лишиться можно! — Какая ж тут сочьба[56], — злорадно отвечал Голохвастов, — когда всё кругом сходится! Письмо я нашёл у твоего Ивашки. Писано оно на языке, ведомом тебе и латинянам, адресовано некой высокопоставленной особе, какой — догадаться не сложно. Ты же верой и правдой служил Гришке Отрепьеву, называя его царём! Даже чин от него выхлопотал. Так что измену чинить тебе не дико, а первый или второй самозванец — какая разница? — Ах ты, щенок!.. Долгоруков попытался достать своим кулачищем до лица младшего воеводы, но тот, несмотря на раны, оказался шустрее, вовремя отпрыгнул от стола, и в руке его сверкнуло тонкое жало дамасского клинка. — Ах вот оно что? — тело князя среагировало на появление оружия автоматически, разворачиваясь боком в удобную для броска позу. Рука согнулась в локте, прикрывая грудь. — И что ты теперь намерен делать, Алексей Иванович? — Судилище над тобой учиню, Григорий Борисович. — Не по чину тебе судить меня, Алексей. Ежели только грамотка царёва имеется? — Добуду грамотку. — Так вот когда добудешь, тогда и поговорим. А пока — брысь из моих покоев. — А это ты — зря, воевода! Я — столбовой дворянин, а гонишь меня, как кошку блохастую… — А ты как хотел, Алёша? Чтобы я тебя за твой навет пирогами потчевал? — Навет?… Ах, значит — навет… Знаешь, Григорий Борисович, судить тебя мне, может, и не по чину, а вот на судебный поединок вызвать — вполне… — Хорошо придумал, Алёша. Если я тебя, раненого, пришибу ненароком, то имя своё опорочу. А если проиграю, то, стало быть, виновен буду… Неплохо… Только невместно мне с тобой драться по другой причине… Ты Судебник Иоанна Васильевича хорошо помнишь? Статью о взыскании с побежденного трех рублей? У тебя есть такие деньги, Алексей Иванович? — Найду… — У ляхов займёшь? — Ну вот и поговорили, Григорий Борисович! Буду ждать тебя на заднем дворе после вечерни. Не опаздывай! Голохвастов выскользнул в сени, а Долгоруков так ударил кулаком по столу, что центральная доска надломилась и пошла трещиной. — Найди мне писаря Ивашку, — скомандовал князь вбежавшему испуганному холопу, — и быстро! Проводив взглядом служку, опрометью метнувшегося во двор, воевода поднял опрокинутую лавку, тяжело присел на неё и задумался…* * *
Историческая справка: В допетровскую эпоху правом на поединок обладали все сословия, кроме подневольных холопов. Простолюдин мог биться с дворянином. Тогда бой шел не на саблях или копьях, а обычно на кулаках или дубинах. В качестве примера — известный поединок купца Калашникова, убившего своего соперника опричника Кирибеевича. Кстати, убийства на судебном поединке того времени теоретически были возможны, но практически — крайне не одобрялись. Церковь запрещала убийце приобщение к «святым таинствам» на семь лет. «Судебник» Ивана Грозного за 1550 год:Ст. 11. Если судебным поединком решаются дела… о личном оскорблении, то… с побежденного взыскать три рубля, окольничему полтина, недельщику полтина и за скрепление сделки сторон в поединке четыре алтына без двух денег, подьячему — две деньги. Если кто сбежит перед поединком или во время его, то окольничему, дьяку, недельщику получать как с закончившегося примирением дела, а полевые пошлины с рубля по гривне. Больше не получать ничего, если кто-либо из них возьмет сверх этого, тому отдать втрое больше; если подтвердится, что жалобщик солгал, его наказать торговой казнью и посадить в тюрьму. Ст. 12. Побежденный берется на поруки и кроме того его накажет Государь, а если его не возьмут на поруки — посадить его в тюрьму, до тех пор, пока не найдутся поручители. Ст. 14. Биться следует воину с воином, или не воину с не воином, разрешается проводить поединок не воина с воином, если инициатива исходит от первого.©
Глава 16 Небесное воинство

Задуманные как частичка небесного, горнего мира на грешной земле, как место, где Дух Святой освящает всякого входящего, монастыри уделяли самое серьезное внимание архитектуре. Со времен древних палестинских лавр святых Феодосия и Евфимия они строились в строгом соответствии с описанием града небесного Иерусалима, где будут жить спасенные народы. «И длина его такая же, как и широта,» — читали архитекторы Откровения святого Иоанна Богослова, словно техническое задание, — «он имеет большую, высокую стену» и «ворота на все стороны света: с востока, с севера, с юга и с запада». Мастера-строители искренне верили в существование города Господнего где-то там, «на третьем небе», за пределами первого, где летают птицы и светит Солнце, за границей второго, где рассыпаны по черному небосводу звезды, а посему воспроизводили символ своей веры с максимальным тщанием и заботой. Пока земная история не закончена, храм, созданный их руками, останется центром обители, местом, где совершается Божественная литургия. Троицкий монастырь, будучи земным образом Царствия Небесного, тоже строился по плану Иерусалима. Его четырехугольник обносили стеной с воротами на все стороны света. В центре обители поставили храм — око ангела, взирающее на паству. Рядом с храмом находилась трапезная, место такое же сакральное, ибо монастырская трапеза является частью и продолжением богослужения. Перекрёсток между кельями, храмом и трапезной всегда был самым оживлённым. Вкушать в кельях и где бы то ни было еще, а также иметь свои припасы братии запрещалось. Чтобы оградить монахов от соблазнов и искушений, все службы, хранившие продукты или готовящие трапезу, располагались в противоположной от келий стороне монастыря. В таком монастырском захолустье вечером и ночью встретить кого-то, кроме стражи, было весьма затруднительно. Именно это место было выбрано Голохвастовым, как наиболее удачное для судебного поединка.
* * *
Служка Ксении Годуновой, неслышно прошмыгнув в опочивальню госпожи, с порога повалилась на колени и запричитала. — Не гневайся, государыня наша, но только не могу я выполнить просьбу твою — заспу[57] для кутьи принесть. Замятня[58] в обители, все амбары монастырские, весь задний двор кметями княжескими окружён, никого не пускают, занеже[59] поединок судебный меж воеводами грядёт. — Какой поединок? Что за дикость? — выгнула тонкую бровь Годунова, нехотяоторвавшись от изучаемого свитка. — Не могу знать, матушка, да только стрельцы бают — колгота[60] стряслась меж воеводами нашими. Челядки Голохвастова про измену княжескую глаголят. И сам он среди ратников оружный ходит, грозный, аки Василиск… — Про чью измену? — перебила Ксения служанку ровным голосом. Лишь тонкие пальцы нервно смяли бумагу. — Подмётное письмо княжеское нашли у писаря евоного Ивашки, на латинском наречии писанное, — зачастила служанка, поняв, что наказывать ее не собираются… — Писарь жив? — В поруб воевода бросил его, матушка, а уж целого али нет, то мне неведомо… Служка еле успела отстраниться, не поднимаясь с колен, и пропустить к дверям госпожу, стрелой метнувшуюся в сторону хозяйственного двора. — Шубку, матушка, шубку накиньте! Студёно нонче! — крикнула она вслед Годуновой.* * *
После пережитых потрясений Ивашка на удивление легко уснул, словно провалился в черный колодец. Он летел по его длинному жёлобу, не касаясь стен и не видя их, но твёрдо знал, что они там есть, и стоит протянуть руку — обязательно наткнёшься на плотную кирпичную кладку, увиденную им вокруг монастырского источника, открытого самим Преподобным. В конце черного колодезного тоннеля чуть брезжил свет. Парнишка изо всех сил стремился к нему, любопытствуя и, в то же время, страшась неизвестного. Свет становился всё ярче, пронзительнее. Писарь невольно зажмурился, а открыв глаза, понял, что твёрдо стоит на ногах на самой вершине Маковца. Перед ним до самого горизонта строилось несметное войско. На лёгком, едва ощутимом ветру над шеломами лениво колыхались разноцветные яловцы и султаны, золотом и серебром сияли зерцала и бахтерцы, чешуёй на солнце переливались кольчуги. Ряды щитов с изображением сакральных символов упёрлись в морозную землю, заслоняя своих хозяев. Яростный барс святого Федора Стратилата соседствовал со вздыбленным львом Георгия Победоносца, на них обоих хмуро взирали грифоны, словно сошедшие с врат суздальского Богородице-Рождественского собора, а вдали на миндалевидных щитах-каплях пестрели изображения Вифлеемской звезды, Солнца, строгие диагональные полосы, символизирующие Иерихонские трубы и восьмиконечные кресты, впервые появившиеся на церковных куполах для защиты Московии от польской и литовской ереси. Над ратью реяли алые русские знамена с соколом — семейным гербом Рюриковичей, с золотым коловратом равноапостольного князя Владимира, с двузубцем великого князя Святослава, а среди них строго по центру возвышался багряный стяг Всемилостивейшего Спаса, перед которым, встав на колени, склонялись Дмитрий Донской накануне Куликовской битвы и Иван Грозный перед штурмом Казани… «Доспехы же русскых сынов, аки вода въ вся ветры колыбашеся, шлемы злаченыя на главах их, аки заря утреняа въ время ведра светящися…» — услышал Ивашка строки из читанного-перечитанного «Сказания о мамаевом побоище» и, вздрогнув от неожиданности, повернул голову на голос. Помолодевший и казавшийся выше ростом, в новом монашеском облачении перед ним стоял Сергий Радонежский, окруженный витязями, один из которых, удивительно похожий на Нифонта Змиева, располагался к нему ближе всех, прикрывая своей грудью. Красно-коричневая мантия преподобного волнами спускалась с плеч из под схимы, словно омывая тёмно синюю пресвитерскую епитрахиль. Куколь — капюшон, символизирующий шлем, хранящий монаха от земных соблазнов, сегодня был небрежно откинут на плечи, освобождая белёсые брови, высокий лоб, седые волосы, аккуратно зачёсанные назад. Взор основателя Троицы скользил по рядам собирающегося воинства, светясь нескрываемой радостью, весьма необычной для смиренного служителя Христова, избегающего проявления любых мирских эмоций. — Здрав будь, Отче! — поклонился писарь Преподобному, не в силах оторвать глаз от преображенного игумена и его грозной свиты. — Не там усладу очей своих ищешь, Иван, — промолвил Сергий Радонежский, не отрывая взгляд от стройных рядов копий и щитов. — Не на меня смотри, а на войско необоримое Христово. Не всякому смертному дано узреть его при жизни. — Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешного! — перекрестился Ивашка, возвращая взгляд к подножью Маковца. — Прости меня, Отче, но по малолетству и скудоумию своему не могу уразуметь, пошто чести столь великой удостоены мы, грешные? — Осада обители литвинами и поляками — лишь слабое отражение брани небесной, неутолимой и безжалостной, — посуровел Радонежский. — У Маковца сошлись в смертной схватке две силы. Одна стремится спасти, другая — погубить. Окрестности Троицы стали средоточием вселенской войны добра и зла. Преподобный глянул на быстро темнеющее небо, и голос его стал твёрже, в нём проступил звук металла, покидающего ножны. — Покоряясь греховным соблазнам, ленности и чванству, мы порождаем зло, которое нас же ничтожит. Гордыня мутит разум, тщеславие ослепляет, ложь поглощает, словно трясина. Стоит успокоиться, решить, что уж и так много сделал, устал, позволить себе расслабиться, как сразу же всё, созданное с таким трудом, идёт прахом. Грехи пресыщения из тварного мира стекают в преисподнюю, переполняя её. Откликаясь на страсти людские, оттуда выходит сам диавол со своей свитой, и уже никто из смертных не в силах загнать его обратно. Вот тогда и приходит на помощь небесное воинство. — Спаси и сохрани! — перекрестился писарь, заметив, как густо со всех сторон вокруг монастыря собираются грозовые тучи, как низко стелются они по окрестным склонам и перелескам, подступая всё ближе к тому месту, где стоял Преподобный. — Но в обители не токмо ратники. Двор полон баб, стариков да детишек малых. Им-то за что напасть такая? — Напасть случилась гораздо раньше, — вздохнул Радонежский, — когда после славных побед и объединения земель русских под рукой Москвы победители решили почивать на лаврах, а этого не дозволено делать никому и никогда, ибо ни одна победа не бывает абсолютной, как и поражение — фатальным. За беспечность отчичей и дедичей расплачиваются чады и домочадцы. Зло не разбирает кто стар, кто мал, гребёт всех одним гребнем, а истоки его — в греховности нашей. Господь наш Иисус Христос предупреждал, что войны будут сопровождать все время нашего земного бытия — как расплата за тяжкие прегрешения и нарушение верности Богу. — А как не нарушить верность Ему? — вскричал писарь, — молиться, держать пост? — Не лгать! — коротко ответил Преподобный, разрубив узел ивашкиных сомнений. — Всё остальное приложится. — Так просто? — изумился юноша. — Просто? — переспросил Радонежский. — Сиё вельми трудно и смертельно опасно. Ты разве сам ещё не почувствовал этого? Ивашка тяжело вздохнул, вспомнив про доверенную ему тайну царевны, гнев Голохвастова и свою готовность наплести что угодно кому угодно, лишь бы эту тайну сохранить. — Ложь — главная юдоль лукавого, — размеренно и спокойно продолжал монах. — Если она остаётся с человеком, всё остальное тщетно. Молитва, причастие, исповедь нужны не Спасителю — он и так всё про нас знает. Они нужны нам, грешным, дабы укрепиться в вере, что, выполняя заветы божии — не убий, не укради, не лжесвидетельствуй, обретаем больше, чем можем потерять. — Если я не буду врать, войны не будет? — глядя в глаза Преподобному, спросил писарь. — Чистосердечность твоя, Иван, наверняка облегчит чьи-то страдания, а может даже спасёт жизнь, — старец впервые посмотрел на писаря, заглянув сквозь глаза в самую душу, — и это очень много. Но человек — песчинка малая в вихре бытия и в одиночку не в силах остановить наступающую тьму, каким бы праведным он ни был. Только вместе, встав плечом к плечу, мы уподобимся силе, устрашающей зло. Так и воины, каждый из которых славен и могуч, только вместе становятся воинством Христовым… Ветер налетел на Преподобного, схватил за мантию, стал вздымать и жестоко трепать ее, словно пытался заставить замолчать святого, но тот, не замечая буйство стихии, продолжал. — Раздраженный Господом нашим, Евангелием, Церковью нашей, диавол ныне и присно будет употреблять самые свирепые войны между народами, дабы посрамить Спасителя и продемонстрировать его слабость. Маловерные и мятущиеся будут спрашивать, как же Бог с Его учением не может устранить междоусобицы, чтобы воцарился мир между людьми? Страхи и ужасы разорения будут употреблены со стороны христоборцев как доказательства немощи Христа и христианства. Это соблазнит многих. Спаситель предупреждал о том своих последователей. «Смотрите, не ужасайтесь, — проповедовал он, — размноженное среди людей и взбесившееся зло обязательно проявится через людоедские войны. В них отразятся все смертные грехи — гордыня, жадность, гнев, зависть, прелюбодеяние, чревоугодие и уныние. Но чем более они будут царствовать на Земле, тем более люди будут алкать добродетелей — мужества, умеренности, справедливости, благоразумия, веры, надежды, любви, ибо только в них утешение». Ивашка хотел сказать, что он давно, с самого детства своего стремится к этим добродетелям, что его пребывание в монастыре и есть попытка прийти к ним, окунуться в их объятия, защититься от серости и тоскливости нищего бытия, но вместо этого потупил глаза и прошептал: — Отче, пред кем пасть на колени, чтобы попасть в избранные, в небесное воинство? Радонежский замолчал, прищурил свои бездонные глаза, будто плохо видел и пытался получше разглядеть писаря, сделал к нему шаг и положил ладонь на макушку. Странное тепло разлилось по телу юноши, побежало от темечка по рукам и ногам, затопило живот и грудь, отозвалось гулкими ударами сердца. — Церковь каждому даёт такую возможность, — тихо молвил Преподобный. — Когда крестят младенца, его так и называют — «новоизбранный, новозапечатанный именем Христовым воин Христов». Даже младенцев называют воинами! Господь каждому предоставляет шанс, а использовать его или нет — это только наш выбор. Не кручинься, Иван, и не торопись падать на колени — место в строю добывается не смирением, а уверенностью в правоте своей и доблестью. — А что же мне делать? — вскинул писарь глаза на монаха. — Кликни братию. Пусть звонят в колокола, ворота закрывают. Стрельцы, отправленные на вылазку, угодили в засаду. Латиняне идут на приступ с трех сторон. Торопись Иван, время не ждёт. С последними словами голос преподобного стал стремительно удаляться, а четкая, ясная картина вокруг распалась на отдельные фрагменты и угасла. Ивашка вздрогнул всем телом и кулем свалился с лавки, на которой прикорнул, свернувшись калачиком, ошалело осмотрелся в знакомом до каждой щелочки подвале и бросился вверх по лестнице. Забарабанив руками по кованому дубу, он закричал срывающимся тонким голосом, словно изнемогая от мучительной боли, обращаясь к страже, как к любимой девушке. — Миленькие, откройте! Пропадём ведь все ни за грош! Отворите, миленькие! Ивашка долго охаживал дверь. Кулаки задеревенели и налились свинцом, как вдруг замок противно заскрежетал, подался, и писарь, толкнув в очередной раз окованную раму, вывалился на свет божий, едва не упав на Ксению Годунову и стоящего рядом с ней Силантия. — Ах ты ж! — пророкотал над головой писаря голос здоровяка. На загривке Ивашки сжался кулак размером с небольшой арбуз, встряхнул так, что из легких вышибло весь воздух. Писарь, одним рывком поставленный на ноги, не успел навести резкость зрения и просипел прямо в лицо княжны, плохо понимая к кому обращается. — Латиняне на приступ идут… Спасайте обитель… Колокола… Ворота закрыть… Засада литовская в посаде… — Откуда взял? Кто поведал? — резко поинтересовалась Ксения. — Преподобный, — упавшим голосом промолвил писарь, боясь, что его сейчас побьют, но твердо решив не врать, — во сне ко мне явился, повелел обитель варити[61]. Ксения застыла на мгновение, вглядываясь в расширенные от испуга глаза парня, посмотрела в сторону хозяйственного двора, откуда слышался гул голосов и разливался свет множества факелов, перевела взор в противоположную сторону, где распахнутым черным ртом зевала в ночную мглу надвратная Сергиева церковь… — Все за мной, — коротко приказала Годунова страже. Замешкавшегося стрельца, пытавшегося что-то сказать про начальство, мягко, но решительно пихнул в спину гороподобный Силантий, и крохотная процессия быстрым шагом направилась к выезду из монастыря, в сторону, противоположную месту судебного поединка, мимо костров, горевших в обители круглосуточно. Каждый вечер осаждённые снаряжали охотников «в лес по дрова». Стрельцы, послушники, казаки и холопы, заткнув за кушак топоры, погоняя лошадей, под покровом темноты неслись к сохранившимся постройкам, разбирали, грузили доверху повозки и довольные возвращались под сень монастырских стен, радуясь, что на эту ночь спасительное дерево для растопки, строительства шалашей и землянок доставлено, а значит люд, сгрудившийся на подворье, будет жить. Вот и на этот раз стрелецкая сотня ушла во мглу, откуда неспешно друг за другом ползли груженые телеги. Надвратная стража устало дремала, опершись на бердыши и пищали. Скрипели несмазанные колеса, шумно похрапывали кони, грохотали сваленные на повозки бревна, и в этом привычном шуме стрельцы не заметили, как тёмная тень метнулась в караульное помещение.Глава 17 Ляхи в обители!

— Некрас, ты уснул там, что ли? — встревожился рыжеусый ратник, свешиваясь с балкона воротной башни и силясь разглядеть в полутьме, что творится внизу, у вОрота, откуда доносились пугающие, булькающие звуки. В то же мгновение хищное узкое жало стилета легко прошло через его гортань, как сквозь свежее масло, прошило мозг и уперлось в задний свод черепа. Тело ратника тяжело перевалилось через перила, упало вниз, и земля жадно вбирала в себя кровь защитника обители. Темные тени, кажущиеся в сумрачном свете факелов пришельцами из преисподней, взметнулись по узкой лестнице, застав врасплох стоящую у бойниц стражу. Стрельцы не смогли запалить готовые к стрельбе пищали. — Божен! К билу! — кратко скомандовал десятник, половчее перехватывая бердыш — оружие, смертельно опасное в умелых руках, но неудобное для драки в тесном помещении. Откликаясь на команду, юркий новик покинул строй и стремглав бросился к железной балке, подвешенной на цепях. Всего-то пять шагов… Он добежал и с силой хотел ударить по ней молотком, когда один из нападавших вскочил на перила и резко размахнулся. Свистнув над головами защитников, стилет бесшумно вошел в спину между лопаток стрельца. Охнув, тот тяжело осел на дощатый настил, и вместо размашистого удара рука безжизненно упала на било, извлекая из металла слабое, неубедительное гудение вместо оглушающего, закладывающего уши набата. Предводитель нападавших, недовольно поморщившись, спрыгнул с перил, ловким движением обмотал рубиновый плащ вокруг левой руки, а правой выхватил из ножен диковинный змеевидный клинок, по форме напоминавший колебание пламени[62]. — Noli prohibere![63] — рявкнул он подчиненным, столпившимся перед частоколом бердышей. Сделав два резких шага, вожак неожиданно прыгнул к обороняющимся вперед ногами и скользнул спиной по замерзшим доскам под оскаленными косицами бердышей. Сбив с ног одного из стрельцов и проткнув снизу вверх второго, он перекатился, уходя от рубящего удара сверху, лягнул коваными каблуками еще одного замахнувшегося стражника и сразу же кувырком назад ушел от повторного клевка разъяренного десятника, подхватив бердыш убитого им Божена. — Hominis est errare, insipientis perseverare[64], — с презрительной усмешкой произнес предводитель, приближаясь к десятнику легким, танцующим шагом, словно дразнил стрельца своим беззащитным телом без доспехов. Стражник пытался сделал выпад, целясь в грудь наглецу, однако остриё бердыша провалилось в пустоту, а противник, отступив и блокировав атаку, нанес сокрушительный удар древком по голове стрельца, и как только его тело развернулось, одним движением сверху вниз буквально вспорол десятника своим лезвием. — Тати… — прошептал стрелец, падая ничком на половицы. — In hostem omnia licita[65], — злобно прошипел в ответ нападавший, отбросил бердыш, схватил факел и, высунув его из бойницы, описал несколько больших кругов.
* * *
Ксения Годунова в сопровождении Ивашки и Силантия с парой стражников успели дойти до самых ворот, когда снаружи послышалось приглушённое ржание и топот множества копыт о стылую землю. — Наши казаки возвращаются с вылазки, что ли? — щурясь в ночную мглу, предположила царевна. — Сегодня на вылазку конная рать не ходила, — пожал плечами слуга, — только мужики по дрова… — Ляхи, матушка! — выдавил из себя Ивашка, с ужасом оглядывая распахнутые настежь ворота крепости, поняв, наконец, о какой напасти предупреждал Радонежский. Силантий чертыхнулся и, схватив в охапку Ксению, потащил её к пушечной печуре, скрытой за частоколом, а писарь, перекрестившись, нырнул в двери воротной башни, намереваясь поднять по тревоге стражу. Ивашке хватило одного взгляда, брошенного на распростертые тела стражников караульного помещения, чтобы ясно представить бойню, разыгравшуюся в подошвенном этаже. Чужая речь на балконе не оставляла ни капли надежды, что кто-то из защитников уцелел, а через разверстую пасть монастырских ворот с криком и улюлюканьем уже влетала во внутренний двор вражеская кавалерия. Один из всадников замешкался, спрыгнул с коня и бегом направился к дверям, за которыми, ни жив, ни мертв, прятался писарь. Ивашка заметался, судорожно выбирая укрытие и понимая — еще несколько мгновений… О том, что будет после, думать не хотелось. Оборотиться бы мышкой и забиться под веник… Взгляд писаря упал на объёмную корзину, хранящую ветошь для пыжей. Вытряхнув содержимое на пол, паренек шмыгнул в угол и накрылся ивовой плетенкой, через которую было всё прекрасно видно и слышно. — Падре Флориан! — распахнув дверь, но не входя внутрь, кто-то зычно крикнул с порога, держа в руке обнаженную саблю, описывающую в воздухе замысловатые вензеля, словно у её хозяина отчаянно дрожали руки, — Auxilium opus est?[66] — Мартьяш! — раздался с балкона капризный, раздражённый голос, — не пытайся разговаривать на языке, которым не владеешь в совершенстве! Кто успел зайти в крепость? — Ваша хоругвь, господин легат, и полусотня полковника Лисовского… — Мало! Поторопите своих людей. Сабля стоящего у двери прекратила дрожать и вязать в воздухе кружева. Так и не переступив порога, рявкнув в сторону что-то по-польски, Мартьяш звякнул шпорами и почтительно прикрыл дверь. На балконе тоже перестали возиться, и только гулкое латинское бормотание нарушало внезапно наступившую тишину. Набравшись храбрости и твердо решив, что пора выбираться, Ивашка приподнял корзину, как вдруг дверь распахнулась, и в караульное помещение, словно ветер, ворвался еще один воин. Он не задержался у дверей, в два прыжка достиг лестницы и, как показалось писарю, не забежал, а взлетел на балкон. Только знакомый монашеский капюшон упал с головы, прикрыв спину буквицей оторочья. Не успел Ивашка опомниться, как тишина на балконе сменилась шумом яростной схватки, будто разом бросились в сечу десятки воинов. Отрывистые крики и стоны заглушал звон оружейной стали. Могло показаться, что сказочный лось со стальными рогами ломится через железный бурелом, вплетая в какофонию схватки непрерывный надсадный скрежет металла о металл. От страшного звука у писаря почему-то свело судорогой мышцы лица. Не в силах далее сидеть в своей ивовой скорлупке, поняв, что сейчас может решиться его судьба, Ивашка поднялся и еле успел отстраниться от падающего ляха с выпученными глазами на искаженном лице и с тонкой раной на шее, откуда била темная кровь, заливая сталь польского горжета. Отскочив к лестнице, парнишка влетел на балкон и в то же мгновение был снесён со ступенек ещё одним безвольно падающим телом в приметной польской униформе. Падая и судорожно хватаясь руками за перила, он различил среди небесно-голубых панских жупанов с красными разговорами крутящийся волчком черный монашеский плащ, словно лоскуток непроглядной зимней ночи, прорвавшейся в крепостной каземат и рассыпающей мириады звёзд каждый раз, когда клинки чашника Нифонта упрямо и кровожадно скрещивались с саблями захватчиков. Стряхнув с себя хрипящее вражеское тело, писарь снова вскарабкался наверх, в этот раз не выпрыгивая на балкон, а осторожно выглядывая снизу. Картина на втором этаже воротной башни полностью изменилась. Латиняне, танцевавшие вокруг монаха минуту назад, со стонами и всхлипываниями лежали вповалку на полу, разбросанные по разным углам караульного помещения. Самая большая свалка оказалась в центре, как раз там, где Ивашка только что видел Нифонта. Вокруг этой окровавленной груды тел, выставив перед собой клинки, по-кошачьи ступая, кружили два противника. Сам Нифонт в изрезанной рясе, сквозь которую блестела кольчуга-байдана, оказался к Ивашке лицом и, скорее всего, заметил его макушку, но не подал виду, а может просто сосредоточился на своем последнем враге, расположившемся к писарю спиной. Богато расшитый рубиновый плащ ляха с вышитым Солнцем и прямым папским крестом по центру не позволял писарю увидеть руки врага, зато речь его слышалась отчётливо и понятно. — Ах ты, Коля наш, Николенька! — медовым голосом молвил латинянин чисто по-русски, мягко переступая приставным шагом вправо-влево. Его плащ в протакт движениям колыхался и раскачивался. — Как же ты мне мешаешь! Ты всегда путался у меня под ногами, всегда был в каждой бочке затычкой! — Нет больше Николеньки, Фролка, — надтреснутым голосом отвечал Нифонт, — или как тебя там кличут… Падре Флориан? — Меня никто не кличет, — насмешливо отвечал обладатель шикарно расшитого плаща и сделал короткое резкое движение клинком в сторону монаха, — я сам прихожу, куда посчитаю нужным и когда мне надо. — Ой-ли, Фролка, — усмехнулся Нифонт, отклонив остриё одним еле заметным движением кисти и сделав полушаг в сторону, — сам, стало быть? В глаза ведь лжёшь, пёсий сын! Куда тебя твой римский Папа пошлёт, туда и поскачешь! От рабства бежал, в рабы попал… — Что ты, смерд, можешь знать о свободе? — папист повысил голос и сделал несколько резких выпадов. — Моя свобода — это власть над такими, как ты, возможность без стеснения делать то, что хочу, это доступность денег, знаний, женщин, в конце концов — всего, чего лишён ты… Ивашка видел, как иезуит, не прекращая говорить, вновь сделал быстрый смертоносный выпад, но сабля-шамшир в правой руке Нифонта описала полукруг, а левая рука, держа оружие обратным хватом, взметнулась на уровень плеча. Сверкнув синим пламенем, клинки пропели свою ледяную песню, и падре Флориан вдруг зашипел, как разбуженная змея, отскочив от монаха на целую сажень. — Что, Фролка, больно? Хошь за подорожником сбегаю, как в детстве? — участливо подтрунивая, спросил Нифонт. Выражение его лица показалось Ивашке абсолютно чужими. В эту минуту монах не был похож на смиренного богомольца, но как две капли воды походил на былинного витязя, явившегося писарю во сне вместе с Радонежским. — Ты, брат, слишком много времени тратишь на показуху и не замечаешь как слабеешь. Для тебя процветание — это внешние атрибуты власти и роскоши, возвышение над другими, но это — тлен, Фролка! Дьявол даст, дьявол и заберёт! Процветание — совсем другое… Разговаривая, Нифонт раскручивал клинки, сначала медленно, а потом всё быстрее, пока вокруг монаха не образовался сплошной кокон сверкающей стали. — Процветание — это умение в любом состоянии и возрасте быть полезным своей Семье, Роду, Отечеству, — продолжил монах ровным голосом, словно его руки не работали с бешеной скоростью, а сам он не кружил по залитому кровью полу в танце смерти. — Жить среди людей, как учил наш преподобный Сергий, значит находить в себе силы вовремя наступать на горло собственным желаниям и не страдать от недоступности соблазнов. Надо уметь получать удовольствие от преодоления своих слабостей, а не от потакания оным. У тебя же, братец, как я погляжу, это совсем не получается. — Не называй меня братом! — закричал иезуит, перехватил оружие другой рукой, и его клинок, словно змеиное жало, безудержно рванулся вперед. — Ты недостоин быть членом моей семьи! Ты и твой трижды проклятый пращур! — Наши пращуры, Ослябя и Пересвет, плечом к плечу стояли на поле Куликовом, — уворачиваясь и отражая град ударов, хрипел Нифонт. — Чем же мой предок так не угодил тебе, баловню и везунчику, родившемуся с серебряной ложкой во рту? — Стояли!.. Да!.. — иезуит выплевывал слова на выдохе с каждым взмахом руки, оттесняя монаха к бойницам. — И мой предок своими руками убил полсотни врагов! Полсотни, Николенька! А твой — всего одного! И ему — почёт и слава! Поминание и алилуйя! А моего забыли даже ближники! Не нашлось ему места ни в летописных списках, ни в синодиках…[67] — Дурак ты, Фрол! — процедил сквозь зубы Нифонт, отбивая очередной выпад и переходя в контратаку. — Пращуры наши не искали славы мирской, потому и снискали благодать небесную, и поныне стоят плечом к плечу в войске Христовом. А ты — отступник от веры Отеческой, блуждаешь, аки слепой в сенях храма, не находя ни выхода, ни входа… — Мы еще посмотрим, кто дурак, Николенька, — шипел иезуит, распарывая монашескую рясу хищным лезвием, противно завизжавшим по плоским кольцам кольчуги, — откуда тебе, презренному схизматику, ведать, где упокоились души наших пращуров? Или ты свою продал дьяволу, дабы лицезреть загробный мир, вопреки воле нашего Господа?… — Я видел! — не в силах больше прятаться и скрывать ведомое, завопил Ивашка, выпрыгивая на балкон, — я знаю!.. Рядом с преподобным нашим игуменом два витязя, оружницы его!.. Вздрогнув от неожиданности, иезуит шагнул в сторону, а Нифонт повернулся боком, прекратив непрерывное движение стального вихря. И тут за его спиной Ивашка узрел подкрадывающегося латинянина, очевидно раненного и оглушенного, но готового напасть на монаха сзади. — Нифонт! Там!! — вытянув вперед палец, словно желая проткнуть неприятеля, заорал во всё горло Ивашка. Уворачиваясь от удара и пропустив мимо себя длинный выпад подкравшегося сзади ляха, Нифонт, даже не повернув головы, причудливо изогнулся всем корпусом, в момент обвил клинком руку латиняна и резко опустил саблю вниз, потянув ее на себя. Панская кисть с глухим стуком упала на мокрый от крови настил, выпустив из ладони рукоять стилета. Из обрубка руки толчками хлестала черная кровь. В тот же миг из бойницы подошвенного боя сверкнуло зимней грозой аршинное пламя восьмифунтовой пушки, и прямо в лицо скачущим к монастырю сотням Лисовского брызнула убийственная на таком коротком расстоянии каменная картечь. Зарево пушечного выстрела залило кровавым светом полутьму крепостного каземата, и писарь увидел короткое движение руки иезуита в свою сторону. Смертельная опасность вынудила его отпрыгнуть назад, и он вновь скатился по крутым ступенькам, сопровождаемый криком Нифонта, «Иван! Ворота!»* * *
Ксения Годунова, весьма непочтительно доставленная Силантием в пушечную печуру, буквально свалилась на голову дежурившим у орудия стрельцам, расположившимся почивать прямо на полу на овчинных тулупах с нарушением всех наставлений. — Встать! К оружию! — пронзительно скомандовала она, особо не заботясь, насколько уместно её право отдавать распоряжения воинам. — Ляхи на приступ идут! Открыть бойницы! Запалить фитиль! Разбуженные стрельцы, не поняв, кто командует, стремглав бросились к пушке, и только плотный низкий десятник, одинаковый что ввысь, что вширь, проморгавшись, не обнаружил вышестоящего начальства. «Колобок» зело озлобился на вторжение в свою епархию и, подбоченившись, дерзко спросил, мол, что за баба тут командует. Силантий, приподняв стрельца апперкотом высоко над полом, отбросил его на пару аршинов в сторону, спасая наглецу жизнь, ибо в руках Ксении сверкнул тот самый кинжал, ранее чуть не продырявивший князя Долгорукова. — Ты как перед царёвой дочкой стоишь? — взревел Силантий, хотя стрелец уже не стоял, а лежал, прикусив язык и пуская кровавые пузыри. Остальные стрельцы, увидев скорую расправу над своим командиром, лишних вопросов не задавали, удвоив старание в подготовке орудия к стрельбе. — Матерь Божья! Сколько же их! — ахнул один из пушкарей, отбросив щит, закрывавший бойницу. Взору защитников открылась дорога в монастырь, вниз на версту усыпанная огоньками факелов в руках скачущих на приступ поляков. — Силантий! Ворота! — коротко скомандовала Ксения, нервно покусывая губы, указав на воротную башню. Кивнув, силач бросился к выходу из печуры, однако выглянув из-за частокола, немедленно развернулся назад. — Никак, матушка, не проскользнуть. Густо идут, тати! — Тогда стереги вход! — приказала Годунова и повернулась к пушкарям, — а вы пошевеливайтесь, аспиды! Готово? Пали!..* * *
Если суету и шум у ворот монастыря, волнами растекавшийся по внутренним монастырским дворам, можно было принять за возвращение из вылазки задиристых казачьих сотен, то грохот орудия однозначно сигнализировал осажденным о приступе! Не успело эхо выстрела отразиться от Волкушиной горы и докатиться обратно до монастыря, как на колокольнях ударил оглушительный набат, и по всему периметру крепостных стен вспыхнули тревожные огни факелов, а еще через мгновение побежали предупреждающие крики «ляхи в обители!», разлетаясь, как пламя по сухостою.Глава 18 Сеча

Ворвавшиеся в крепость латиняне растеклись, разлетелись по внутреннему двору монастыря. Факелы, рассыпавшие искры в такт конскому бегу, ломаной лентой опоясали границу вторжения, и по её краям ночной воздух разрывали отчаянные крики, звон металла, топот, лошадиное ржание и ругань на многих языках. Сгрудившиеся во внутреннем дворе беженцы, ожидавшие повозки с дровами, запрудив всё свободное пространство перед въездом в обитель, стеснившись между крепостной стеной и внутренними постройками, оказались безоружным живым щитом на пути вражеской конницы. Они пытались убежать и спрятаться, барахтались в давке, спотыкались и падали на мерзлую землю. По живым телам, калеча и убивая, бежали другие несчастные, били копыта лошадей, обезумевших от запаха крови, от предсмертных криков задавленных и зарубленных. Всадники, расчищая себе путь, секли саблями направо и налево, топтали, расталкивали толпу, но всё равно безнадёжно застревали в ней, теряя драгоценные секунды, а вместе с ними — эффект неожиданности от нападения.
* * *
Скатившись кубарем по лестнице воротной башни, ошалело оглядевшись по сторонам, Ивашка схватился за колесо с витым корабельным канатом, перекинутым через блок к крепостной решетке, подёргал спицы, отполированные множеством рук, упёрся ногами, поднатужился до красных мушек в глазах, и убедившись, что механизм заблокирован намертво, треснул со злости кулаком по вороту, беспомощно глянув на балкон. Оттуда доносилась возня борьбы и приглушенное бормотание. — Ни-и-фонт! Не могу-у-у-у! — завыл Ивашка, пытаясь хотя бы на вершок сдвинуть проклятущее колесо. — Секи вервь, Иван! — кряхтя, будто поднимает трехпудовый мешок с зерном, с балкона отвечал монах, — ножом, саблей али чем иным… Оторвавшись от заблокированного механизма, писарь подбежал к лежащим вповалку телам русских стрельцов и польских вояк, подхватил с земли первое попавшееся оружие — пятифутовый кончар[68], а когда попытался распрямиться, дверь распахнулась, и на пороге появился гусар, которого иезуит называл Мартьяшем. Во время разговора Ивашка не видел его лица, зато хорошо разглядел пляшущую саблю. Он не спутал бы её ни с какой другой. Кончик оружия точно так же нарезал замысловатые вензеля и восьмерки, но эти движения были опаснее и злее, ибо нацеливались прямиком в лоб писаря. — O kurwa! — удивился лях, но в то же мгновение сделал подшаг и выкинул вперед руку, намереваясь насадить Ивашку на свою карабелу[69], как куренка на вертел. Парень пискнул, попытался вскочить на ноги, отшатнуться назад, но споткнулся и упал. Это его спасло. Хищное изогнутое лезвие, похожее на змею, проткнуло воздух над головой и медленно, словно нехотя, вернулось к своему хозяину. Ивашка, не отводя глаз от врага, засучил ногами, пытаясь отползти от него на безопасное расстояние. Латинянин на мгновенье замер, решая, как поступить. То ли хмыкнув, то ли кашлянув от разочарования, он занес руку над распластанным ивашкиным телом, стремясь ударом наотмашь покончить с этим удачливым русским. Писарь, защищаясь, совсем по-детски хотел выставить вперед ладони. Но если левая рука послушно вытянулась вверх, правая, отягощённая польским мечом, забытым от страха, лишь немного оторвалась от земли, описала полукруг, и четырехгранный клинок, царапнув землю, легко распорол парчовую ткань, повредив ногу нападавшего. Зарычав, гусар отскочил назад, описав саблей в воздухе изящный пируэт. Ивашкин кончар, выбитый из руки резким движением противника, жалобно звякнув, отлетел в дальний угол караульного помещения. — Пся крев! — зашипел поляк, скривившись, переводя ненавидящий взгляд с раненой ноги на писаря. Резко, хоть и прихрамывая, поляк бросился на юнца, выставив карабелу перед собой. Но тот, успев вскочить на ноги благодаря паузе, прыгнул за ворот, уцепившись за туго натянутый канат, обернулся вокруг его оси на одних руках и вовремя соскочил, когда сабля нападавшего рассекла сплетенную пеньку там, где мгновение назад были ивашкины пальцы. Гусар окончательно рассвирепел, не переставая настойчиво двигаться за преследуемым, яростно размахивая саблей. Она то свистела в вершке от писаря, то молнией пролетала над его головой, то сыпала искры, натыкаясь на кованые детали подъёмного механизма. Ивашка удвоил скорость, смекнув, что его единственное спасение — в движении, и все эти игры в пятнашки в тесном помещении рано или поздно закончатся для него печально. Он не давал возможность грузному поляку, облаченному в латы, приблизиться для нанесения смертельного удара, но понимал, что долго бегать не сможет. Исхитриться и выскочить из дверей — попасть под копыта прорвавшейся в монастырь конницы, ускользнуть — подвести Нифонта, не выполнить его приказ закрыть входную решетку. Этого писарь допустить не мог. Уж лучше умереть… Уворачиваясь от очередного выпада, юноша скользнул под колесо ворота, а Мартьяш, вытянувшись вперед всем телом, распластался на нём сверху. На мгновение их взгляды встретились. В тусклом свете факелов глаза поляка оказались на удивление светлыми, а зрачки — демонически чёрными, словно два бездонных колодца, куда в своих снах неоднократно падал Ивашка. Эти неживые глаза были настолько зловещи, что писарь заорал дурным голосом, замолотил по массивному колесу ногами, желая сбросить и опрокинуть его вместе с гусаром. Среди твёрдого массива, подобного камню, ступни вдруг наткнулись на что-то податливое. Присмотревшись, Ивашка обнаружил дровяное полено, плотно зажатое в зубцы ворота, блокирующее любое его движение, совсем незаметное сверху и сбоку. Очевидно, налетчики его сюда засунули, захватив башню. Стоит вышибить эту помеху, и колесо закрутится, решетка под собственной тяжестью опустится вниз и закроет вход. Изловчившись, писарь несколько раз с силой ударил по застрявшему в зубьях полену. Оно скособочилось, колесо сдвинулось на вершок и снова замерло, словно раздумывая, поддаваться ли на тычки столь незначительного персонажа. Мартьяш, приподнявшись на локте, торжествующе ухмыльнулся, в надежде прикончить несносного юнца, привстал на колесе и ткнул саблей между спиц, стараясь попасть по вертлявому ивашкиному телу. Один раз, другой, третий… Мальчишка визжал, уворачивался и продолжал барабанить ногами снизу по колесу, как заведенный, не обращая внимания на многочисленные раны. Неожиданно деревяшка треснула, мощное колесо вывернулось из под ног, и неведомая сила вдруг подняла поляка над воротом. Выбитое полено, поломав дубовый зуб, с треском выскочило из воротного механизма. Ничем не сдерживаемое колесо, влекомое тяжелой решеткой, стремительно провернулось вокруг своей оси, отбросив гусара от станка, словно выстрелом из пращи, и с силой впечатало в столб. Со звоном покатился по земляному полу сбитый шелом, жалобно тренькнув, переломилась оставленная в спицах колеса сабля, и в караулке воцарилась тишина, нарушаемая лишь проклятиями польских алебардщиков, перед которыми неожиданно опустилась решетка, не пуская в обитель вражескую пехоту. Только теперь Ивашка понял, насколько он устал, и как сильно болело израненное тело. Сердце бешено колотилось, пытаясь выпрыгнуть из груди, а в голове колоколом отдавалось: «я выжил!», «я смог!»… — Нифонт! — закричал он во весь голос, желая поделиться с монахом своей радостью, — Ни-и-и-ифо-о-о-онт! Крикнув, прислушался. В башне было подозрительно тихо, и только совсем рядом, возможно, в ивашкиной голове, звенела весенняя капель… «Чертовщина какая-то,» — подумал он и выскользнул из под колеса. Бросив нервный взгляд на неподвижного ляха, мальчишка приоткрыл дверь, но сразу плотно её захлопнул, задвинув засов и подперев спиной. Двор кишел польскими всадниками, и только чудом можно было объяснить отсутствие внимания врагов к надвратной башне. — Нифонт! — еще раз тревожно позвал Ивашка. Опять тихо. Эхом на слова писаря смачно ухнули пушки в соседних печурах, да за крепостной стеной кто-то матерно заголосил. И снова эта капель, как в колодце… — Нифонт! Да что ж такое? Ивашка направился к лестнице на второй этаж и тут же в свете факела увидел огромное черное пятно и такого же цвета капли, вязко тянущиеся с балкона, нехотя отрывающиеся от почерневшего дерева. Они падали одна за другой в эту зловещую лужу, приглушенно шлёпая по маслянистой поверхности. Стараясь не наступить на бездыханные тела, лежащие у подножия лестницы, писарь торопливо шагнул на ступени и поскользнулся, успев опереться руками. Они моментально стали влажными и липкими… — Нифонт! Родненький! Не-е-е-ет! — обожжённый внезапной мыслью, завопил Иван. Срываясь и тычась лицом в ступени, он на четвереньках пополз наверх, боясь оказаться правым в своих догадках…* * *
Полуторная медная пищаль подошвенного боя, двенадцати пядей в длину, сыто рыгнула, выплевывая шестигривенную[70] порцию каменного дроба прямо в лицо залезающим в бойницу полякам, откатилась в дальний конец печуры, где её живо принялись обхаживать пушкари. — Половинным заряжай! — хрипел пришедший в себя десятник, загоняя пыж в мушкет и прилаживая его на бердыш, — рукой дроб закидывай… После минутного затишья в бойнице показалось сразу несколько голов. Мушкет оглушительно треснул, словно мощный великан сломал о колено огромный сухой сук. Гремя доспехами, упал и покатился вниз нападавший алебардщик. Десятник отбросил огнестрельное оружие и взял наперевес бердыш… — А ёв! — он сопроводил выпад непонятной присказкой, и тут же по крутому склону в крепостной ров кувыркнулось еще одно обмякшее тело. Нападавшие не унимались. Один подтянулся, приняв смертельный удар бердыша на крохотный щит, и согнулся, кривясь от боли. Второй, оттолкнув первого, попытался саблей достать стрельца, а за ним в бойницу лезли третий, четвертый… — Пали оттудова, робята! — скомандовал десятник, орудуя бердышом, словно челноком, — не поспеем подкатить! Рра-р-р-рах! — рявкнуло орудие, как гигантский веник, сметая на своём пути своих и чужих. Раскинув руки, словно пытаясь взлететь, десятник приподнялся от взрывной волны и ударился о камни. Печуру заволокло сизым дымом, как легкой ватой, и на расстоянии вытянутой руки ничего не было видно. Стоны и проклятия под стенами сливались в один непрерывный вой, не давая определить хотя бы примерное расстояние до врага. — Не стоять! Заряжай! — срывающимся от волнения голосом скомандовала Ксения, стоявшая неподвижно до сего момента, заткнув уши. Она тревожно обернулась туда, где Силантий в одиночку закрывал узкий длинный проход в их убежище. — Ух! Ха-а-а! — вздыхал богатырь, как филин, орудуя огромной палицей величиной с полный рост царевны. Вслед за взмахами раздавался скрежет сминаемых доспехов. — Не удержу, матушка! Шибко много их тут! — задыхаясь, прохрипел богатырь, увидев, что на него обратили внимание, и еще раз взмахнул своей дубиной с кованым наконечником. Кто-то невидимый в проходе заверещал, словно заяц, а потом неожиданно заглох. — Терпи Силантий, сейчас подмогнём, — прошептала Ксения, озираясь по сторонам и не находя, чем бы можно было помочь своему телохранителю. — Поберегись!.. Какой-то резвый шляхтич, не желая лезть под зубодробительные удары, решил обхитрить всех и перемахнуть через частокол, встав в седле и запрыгнув в печуру. Приземлившись возле Годуновой, он не удержался на ногах, выругался, вскинул голову, оглядываясь… — Матушка! — только и успел ахнуть Силантий, отступая со своего поста в сторону врага. — Ничего, отмолю, — сухо ответила Ксения, резким движением вырывая свой кинжал из горла осевшего на пол поляка. Подняв на слугу черные прищуренные глаза, она вздернула вопросительно брови, — а ты куда? Назад, к оружию! — Заряжено! — завопил пушкарь, торопливо вытаскивая из ствола банник. — Пали! — скомандовала Ксения и снова зажала ладонями уши…* * *
Гусарская хоругвь, растоптавшая, разметавшая толпу у воротной башни, наконец, прорвалась к Успенскому собору, где её встретила слаженным пищальным залпом стрелецкая сотня. Однако не стрельцы оказались главной проблемой польской латной кавалерии. Перед строем краснокафтанников, уперев пики в землю и наклонив их в сторону нападающих, ровной линией застыла вся монастырская братия. Монахи выскочили из храма без доспехов, стояли в рясах и скуфейках, сжимая длинные древки, в надежде перед смертью выбить из седла хотя бы одного врага, дать время на перезарядку стрелецкихпищалей, своими телами задержать бег неприятеля, пока собственная дворянская конница готовится к сече. Может оттого, что разогнаться и сомкнуть строй гусарам мешали монастырские постройки, или из-за робости перед этой неподвижной чёрной формацией, однажды удивившей оккупантов своим ратным умением, хоругвь начала разбег нерешительно, что предопределило слабость атаки. Слаженный удар единым бронированным кулаком не удался, и польско-литовская кавалерия окончательно завязла в ближнем бою. Сражение распалось на отдельные схватки. В темноте невозможно было разобрать, где свои, где чужие, и только наитие да специфическая ругань служили определяющей меткой. Сеча занялась знатная. Обе стороны понимали — дрогнувших будут добивать методично и безжалостно. В тыл и фланг полякам, отрезая их от ворот, с гиканьем и свистом заходила дворянская конница, с другой стороны напирали казачки. План неожиданного штурма, казавшийся неприятелю хорошо продуманным и выверенным, оказался обречён. Долгоруков и Голохвастов, забыв о своей вражде под напором смертельной опасности, стремя к стремени летели в сражение. Оба ругали себя последними словами за мальчишество, позволившее латинянам проникнуть в обитель, и оба жаждали погибели в бою, нежели участия в дворцовых головоломках, в коих нет ничего определённого, где дважды два может быть и три, и пять, в зависимости от текущего политического момента, где главное правило — не верить глазам своим.* * *
Прорвавшиеся в обитель польско-литовские сотни уничтожались до рассвета. Их загнали на кладбище и методично расстреливали из пищалей, а любые попытки идти на прорыв натыкались на поредевший, но всё ещё боеспособный монашеский строй, ощетинившийся пиками. После всего, что учинили латиняне, поубивав и перекалечив больше тысячи беженцев, надеяться им на милость было крайне наивно. Они ожесточенно, как крыса, загнанная в угол, при любой возможности бросались в рукопашную. Под стенами монастыря, внутри и снаружи обители бой шёл всю ночь. Крепостная артиллерия, не жалея зарядов, осыпала дробом и ядрами пешцев гетмана Сапеги, пытавшихся прорваться на помощь коннице. Вражеская артиллерия тоже палила, не переставая, стараясь подкатить пушки поближе и целясь по бойницам. Потери с обеих сторон были катастрофическими. Основные крепостные ворота перед опущенной решеткой удалось закрыть только к заутрене. Ивашку, израненного, но живого, нашли на балконе надвратной башни лежащим рядом с Нифонтом. Исподнее парня было всё располосовано на перевязки, а рука крепко сжимала рану на бедре монаха. В соседней орудийной печуре закопченная, пропахшая порохом Ксения молилась за упокой раба Божьего Силантия. Рядом с ним, во главе с десятником на залитом кровью полу был уложен бездыханным весь наряд полуторафунтовой пищали. Посмотрев исподлобья на вошедших, почтительно вставших поодаль Долгорукова и Голохвастова, царевна-инокиня тяжко вздохнула, поднялась на ноги, последний раз окинула взглядом место гибели сражавшихся под её началом ратников и пошла на выход, смиренно опустив голову. Проходя мимо воевод, не поднимая глаз, она тихо, но властно, как и подобает царствующим особам, произнесла: — За мной!Глава 19 И во веки веков…

— Это моё письмо, — стоя в шаге от младшего воеводы и глядя ему в глаза, отчетливо и громко произнесла Ксения Годунова, — моей рукой писано. Писцом Ивашкой список сотворен також по моему поручению. — Увидев, как поползли вверх брови дворянина и рот, сжатый в тугую струну, приоткрылся, царевна-инокиня продолжила, дерзко глянув на Долгорукова. — Послание сие адресовано тому, кто может спасти обитель… и нас, грешных, — добавила она, сделав паузу. — Царю-батюшке нашему Василию Ивановичу? — с надеждой прошептал Голохвастов. Годунова горько усмехнулась. — Вряд ли у Василия Ивановича есть возможность послать в помощь обители хотя бы сотню. Ему самому трон сейчас, что раскалённые уголья, вам это известно не менее моего… — Тогда кому адресована весточка? — поднял глаза на Ксению Долгоруков и загляделся. На изогнутые брови Годуновой из под небрежно повязанного платка упала непокорная прядь, и она нетерпеливо отбросила её легким движением. Внешний вид Ксении, не смотря на монашеское облачение, полностью совпадал с каноническим представлением о воинственной царственной особе: прямая, горделивая осанка, расправленные плечи, пронзительный взгляд воспаленных, уставших глаз и кровь собственноручно убитого врага на нежных тонких пальцах. Портрет державной воительницы эклектично дополняли плотно сжатые, пухлые, почти детские губы. Нижняя обиженно оттопырилась, как у ребёнка, оскорбленного в своих лучших чувствах. Долгоруков и Голохвастов, будучи осадными воеводами, имели полное право игнорировать слова монахини, однако статус представителей служилого сословия, крайне сложная политическая ситуация и происхождение инокини Ольги убедительно заставляли воздерживаться от резких движений и заявлений. Стремительная смена престолодержателей царства Московского приучила к возможности самых невероятных династических решений, и Ксения, как дочь абсолютно законного монарха, вполне могла неожиданно поменять своё скромное монашеское одеяние на дворцовое парадное платье. Такие примеры в истории Европы случались[71]. Но более того, Ксения Годунова всем своим нынешним видом дерзкого потрепанного воробья и бесстрашным поведением во время отражения штурма возрождала в сердцах этих суровых мужчин позабытые домашние сказки про Василису Микулишну — обаятельную красавицу с характером настоящего воина. Такой хотелось подчиняться, и такую хотелось завоёвывать, независимо от её положения и собственного статуса. — В своё время, — словно отвечая на немой вопрос воевод, продолжала Ксения, глядя на Долгорукова, — батюшка оказал шведской короне милость, отослав Карлу IX обоз с дарами великими, и король смог пригласить на службу многих славных воинов. Один из них — Иоахим Фридрих, германский граф фон Мансфельд цу Фордерорт, до сих пор находится на шведской службе в генеральском чине, но он не забыл милость русского царя… — …а также твои личные к нему симпатии, государыня, — не удержался Долгоруков, чувствуя, как голову заливает горячая волна ревности. — Это сейчас не так важно, князь, — оборвала воеводу Годунова, — главное, что граф, получив первое моё послание и воспользовавшись отсутствием в Ливонии одного из лучших польских полководцев гетмана Ходкевича, отозванного для подавления весьма своевременного шляхетского рокоша Зебжидовского… Годунова сделала паузу, и её лицо впервые за время разговора украсила злорадная усмешка, непривычно хищная для известного всем кроткого нрава царевны. Перехватив удивление собеседников, Ксения наклонила голову и отступила в сторону Голохвастова, а когда взглянула на младшего воеводу, от прежних страстей на её лице не осталось и следа. — Испросив высочайшего соизволения, — спокойно продолжила она, — генерал Мансфельд нарушил перемирие с ляхами и, двинувшись на восток, уже захватил Вейсенштейн, Дюнамюнде, Феллин и Кокенгаузен. В настоящее время его войска двумя колоннами идут на Динабург и Вильно. Если будет на то воля божья, к весне он ударит по тушинскому самозванцу с Запада, и осада с обители будет снята…[72] — Прости, матушка, — почтительно поклонился Голохвастов, — не ведал я про эти планы и про твою… про тебя…. — Потому что дело твоё — телячье. Обделался и стой, — негромко рыкнул Долгоруков, не меняя позы, не поворачивая головы, будто пытаясь разглядеть что-то в подслеповатом окошке. — То не твои печали, сударь мой, Алексей Иванович, — гася гнев вскинувшего голову, вспыхнувшего дворянина, произнесла Годунова мягким, обволакивающим голосом, положив руку на кулак, сжимавший эфес сабли, — не ведал, и слава Богу… — Стало быть, матушка, нашла ты себе защитника заморского… — сдавленно констатировал Долгоруков. Глаза Годуновой сузились, она отпустила руку Голохвастова и плавно переместилась от него к старшему воеводе. — А что же мне прикажешь делать, свет мой, Григорий Борисович, — произнесла она шелестящим полушепотом, от которого в горнице чуть не намёрзли сосульки, — если свои, родные защитники на острастку ворогу предпочли друг дружку лупцевать, да так увлеклись, что мне, слабой женщине, пришлось к орудию встать?! Смерив ненавидящим взглядом Голохвастова, спешно потупившего глаза, Долгоруков скрипнул зубами и склонил голову в пол. — Прости, царица-матушка. Идтить мне надобно, полон опросить, сторожей назначить, — тихо произнес он. — С Богом, князь, — кротко кивнула Ксения, — и мне пора к болящим. Страсть, сколько люду безвинного побили сегодня… Она отвернулась, тяжело вздохнув, и неожиданно всхлипнула, вспомнив про своего Силантия…
* * *
Ивашку и Нифонта принесли в ту же монастырскую светёлку, где коротали долгие зимние вечера Игнат с Дуняшей. Игнат чувствовал себя лучше, но пока не поднимался с постели, а девушка чудесным образом шла на поправку. Встав на ноги, она взяла на себя все хлопоты, уход за молодым стрельцом и осиротевшими крестьянскими детишками Петра Солоты. В её юные, не очень умелые, но заботливые руки попали оба защитника воротной башни, были старательно отмыты от крови, аккуратно перевязаны и бережно уложены на соломенные тюфяки, покоящиеся на тщательно выскобленных половицах. Дуняша отправила в стирку окровавленную одежду, жарко затопила печь, сладила отвар из лечебных трав и спрятала от глаз подальше саблю Нифонта, так и не пришедшего в себя после ночного боя. — Негоже человеку божьему, в священный сан постриженному, под образами да с оружием, — прошептала она недовольно засопевшему Ивашке. — Да кто ж тебе такое поведал? — возмутился полушепотом писарь. — Господь наш, Иисус проповедовал: «Возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут» (Мф. 26: 52). — Господь говорил про тех, кто начинает кровопролитие, а не силой оружия тщится его остановить, — возразил Ивашка. — Сам измыслил? — хмыкнула девушка. — То не я, — насупился Иван, — а Иоанн Златоуст. И Василий Великий ещё глаголил: «Убиение на брани отцы наши не вменяли за убийство, извиняя, как мнится мне, поборников целомудрия и благочестия». — А крёстный мой баял, что снасть воинская для монасей заборонена, — упрямилась Дуняша… — Это не святоотеческий, а греческий запрет, — шипел Ивашка, как рассерженный гусь, — и пришёл к нам от Феодора Вальсамона, патриарха без патриархата. Это он в злобе к войску крестоносному, отобравшему у него Антиохию, предписал отлучать от церкви клириков и монахов, взявших в руки оружие, ссылаясь на древний Халкидонский собор.[73] По его интердикту, воинское дело и употребление оружия священством «должно бысть запрещено совершенно». Ивашка так разволновался, что, забыв про собственные увечья, вскочил на тюфяке, ойкнул, скривился и завалился обратно, хватаясь руками за раненый бок. — Тише-тише, оглашенный, — защебетала над ухом Дуняша, гладя его рукой по голове и помогая устроиться. — Коль скоро греки так буквально понимают слова «все, взявшие меч, мечом погибнут», — продолжал обиженно бормотать Ивашка, млея от каждого прикосновения девушки, — то им бы внять и словам Спасителя: «Не думайте, что Я пришел принести мир на землю: не мир пришел Я принести, но меч» (Мф. 10: 34). — Хорошо, хорошо, — прошептала девчушка, укладывая его поудобнее, — токмо боле не вскакивай — не дай Бог раны откроются. Ишь ты, разухарился как. Не любишь греков? — Святую Софию османам отдали, а теперь лезут к нам с поучениями! — полностью умиротворившись, бурчал Ивашка скорее для порядка, чем от злобы. — Божий человек Филофей сказал: «Москва — третий Рим, а четвертому не бывать!»[74]. А коли так, значит, греки нам — не указ! Пусть лучше Евангелие читают, где чёрным по белому писаны откровения Господа нашего от Луки: «Но теперь, кто имеет мешок, тот возьми его, также и суму: а у кого нет, продай одежду свою и купи меч…» Помнили б это константинопольские иерархи, может и Царьград отстояли от османов, как стоит сейчас наша братия за обитель Троицкую с оружием в руках. Столь длинный эмоциональный монолог утомил Ивашку. Он закашлялся и побледнел. — Хорошо сказал, Иван, — неожиданно раздался тихий голос Нифонта. — Опамятовался, родненький! — воскликнула Дуняша, бросаясь к монаху. — Сейчас-сейчас, помогу! Она подбила тюфяк, смочила чистый платок, вытерла выступивший на лбу пот и повернула голову к иконам в углу светёлки, шепча молитву за здравие… Нифонт перевел дух, посмотрел вслед за девушкой в красный угол горницы на роскошный иконостас и улыбнулся, обнаружив морщинки возле глаз. — Хорошие слова, — повторил монах, — и образа хорошие у тебя в красном углу, хозяюшка. Георгий Победоносец, покровитель православных ратников, на боевом коне дракона копьём поражает. Архистратиг небесный архангел Михаил, глава воинства ангельского, с мечом и щитом… Дуняша удивленно распахнула глаза и приподнялась с лавки, глядя на почерневшие от времени образа, будто видела их впервые. — Православные святые не чурались держать в руках оружие, а церковь — утверждать сие в канонических парсунах, — продолжал Нифонт. — В пантеоне нашем, акромя Георгия Победоносца и архангела Михаила, есть Николай Можайский, грозно поднимающий меч одной рукой, а другой бережно храм предержащий, Дмитрий Солунский, равноапостольный князь Владимир, благоверные Александр Невский и Дмитрий Донской, воин-инок Пересвет, достославный Илья Муромец и многие другие… В памяти нашей образы мужей сих всегда с оружием… И не только мужей! Святой Варваре единственной Церковь позволила одной рукой держать потир, что по всем канонам доступно только священникам, а другой — меч, как и святой Маркелле… — Так это там, — Дуняша подняла глаза к потолку, — в царствии горнем… А мы, грешные… — А мы должны стараться во всём походить на святых наших, — продолжил Нифонт. — Господь сотворил нас по образу своему и подобию, а значит, обречены мы сражаться с диаволом и слугами его всеми доступными средствами — где словом господним, а где и мечом, ибо речами одними загнать демонов в ад невозможно. Дуняша снова внимательно посмотрела на иконы, смутилась, заалела, как маков цвет, и быстро удалилась в сени, где начала в сундуках что-то перекладывать. — А латиняне — демоны? — подал голос Игнат, бессловесно следивший за разговором с явным интересом. — Они — покойники, просто пока не ведают того, — потемнел лицом Нифонт. — Папская церковь умерла, продав первую индульгенцию, отпустив грехи за деньги. Погибнув сама, она погубила души своей паствы. — Разве церковь может умереть? — удивленно спросил Игнат. — У всего, имеющего начало, есть конец. — А когда умрёт православие? — тревожно спросил Ивашка. Нифонт задумался и закрыл глаза. Со стороны могло показаться, что он забылся или заснул. — Православие погибнет, когда в войско русское церковь наша не сможет отрядить ни одного Пересвета, — произнес, наконец, монах и замолчал, будто слова эти жгли ему губы. — Будем молиться, чтобы такого не случилось, и не настал тот день ранее Страшного Суда. — Разве такое может статься? — недоверчиво спросил Игнат. — Неисповедимы пути господни, — вздохнул Нифонт, — самым краешком ходит земля наша между небытиём и величием. Князя нашего благоверного Дмитрия Донского благословил на сражение с Мамаем не митрополит, глава русской православной церкви, а скромный игумен Троицкого монастыря, не побоявшись призвать к оружию не только мирян, но и братию. И если б не мужество игумена Радонежского и его полков чернецких… — Разве кроме Пересвета кто-то из иноков бился на поле Куликовом? — спросил заинтересованно Игнат. — Конечно! И не один! Иноки Александр Пересвет и Родион Ослябя — оруженосцы преподобного Сергия[75], обязались беречь князя в битве. Ещё один из воинов — племянник Преподобного Сергия Федор, игумен Симоновского великокняжеского монастыря, с первой чернецкой сотней был приставлен к воеводе Боброку в засадный полк… А сколько их ещё было, менее знатных, так и оставшихся не названными… — В Никоновском летописном своде писано, — Ивашка прикрыл глаза, напрягая память:«И начя просити у него князь великий Пересвета и Ослебя, мужества их ради и полки умеюща рядити, глаголя сице: „Отче, даждь ми воинов от своего полку чернечьскаго, да двух братов: Пересвета и Ослебя. Сии бо суть ведоми всем ратници велиции и богатыри крепции и смыслени зело к воиньственному делу и наряду“».— И что сие значит? — повернулся к Ивашке Игнат. — Летопись говорит, что Князь просил Преподобного в помощь воинов чернецкого полка и двух братьев, умеющих управлять полками. Много чернецов наших было на поле Куликовом… — Много, — вздохнул Нифонт, — и почти все остались там, ибо стояли в первых рядах войска русского и первый удар приняли на себя, как и подобает пастырям, болящим душой за паству. — Я б тоже так хотел! — жарко выдохнул Ивашка, — жаль только — уродился поздно… — Русской земле на роду начертано быть сретением Востока и Запада, — тихо произнёс раненый монах, — суждено вечно привлекать взоры алчные со всех сторон света. Стало быть, у каждого нового поколения будет своё Куликово поле, ныне и присно и вовеки веков… — Аминь, — тихо прошептал Ивашка. Светёлка погрузилась в пронзительную, тревожную тишину, когда Дуняша неслышно проскользнула к болящим и молча положила на лавку подле монаха его оружие, аккуратно завернутое в чистую холстинку. Закончился ещё один самый опасный и жестокий день осады обители Живоначальной Троицы.
Конец Первой части.
Примечания
1
Багрец — сорт сукна. (обратно)2
Чадь — младшая дружина. (обратно)3
Выдержка из устава «Уче́ние и хи́трость ра́тного строе́ния пехо́тных люде́й» — одного из первых, дошедших до наших дней русских трактатов по военному делу, изданного в 1647 году. (обратно)4
Авдий 1:18. (обратно)5
Коринфянам 4:17–18. (обратно)6
Десть — единица счёта писчей бумаги на Руси. 24 листа. (обратно)7
Псалтирь 82:6. (обратно)8
Целый многопрофильный производственный комплекс, 200 тысяч десятин земли и 7000 крестьянских подворий приносили Троицкому монастырю немыслимый по тем временам доход — полторы тысячи рублей в год. Судите сами — за одну копейку, похожую по форме и размерам на рыбью чешуйку, можно было купить курицу, фунт сала, три десятка яиц, две кружки сметаны или два килограмма ржаной муки. Воз сена стоил 3 копейки, за такую же цену можно было поставить крестьянский сруб. Дороже выходила бочка овса — «целых» 10 копеек, пуд сёмги торговали за 37 копеек, пуд масла за 60. Простая рубаха из холстины стоила от 10 до 12 копеек, а за овчинную шубу пришлось бы отдать от 30 до 40. Можно было приобрести и зипун, но тогда требовалось более полусотни таких «чешуек». Это при том, что заработок ремесленника составлял около 1 копейки в день. Пушкарям — элитному войску — платили всего рубль в год. Собрать сына боярского в поход конно, людно, оружно стоило целое состояние — от 30 до 50 рублей. Доходы Троицкого монастыря времен Бориса Годунова-Василия Шуйского можно сравнить с тридцатью боярскими родами, вместе взятыми. (обратно)9
Филип. 3, 8. (обратно)10
Игнатий Лойола — католический святой, основатель ордена Иезуитов и первый его руководитель. Папской буллой «Regimini militantis ecclesiae» в 1541 году Лойола был избран генеральным настоятелем ордена и правил им вплоть до своей смерти 31 июля 1556. (обратно)11
Однорядка — русская верхняя широкая, долгополая до щиколотки, как женская, так и мужская одежда, без воротника, с длинными рукавами, под которыми делались прорехи для рук. Телогрея (шугай, кацавейка, телогрейка) — верхняя однобортная крестьянская женская одежда наподобие кофты. Летник — старинная верхняя женская одежда. Длинная, сильно расширяющаяся книзу. Застёгивалась до горла. Шилась из однотонных и узорных тканей, обычно из камки (разновидность шёлка) на тафтяной подкладке. (обратно)12
Сарафанец (сарафан) изначально был именно мужской одеждой. Выглядел как длиннополый кафтан. (обратно)13
Чуга — специальная одежда для верховой езды, похожая на кафтан, но с перехватом в талии — впервые появилась в XVI в. в придворной среде. (обратно)14
Пря́сло — в русском оборонительном зодчестве участок крепостной стены между двумя башнями. То же, что и куртина в европейской терминологии. (обратно)15
Печура (камора) — в русской архитектуре XIV века название артиллерийских казематов с пушечной амбразурой в толще крепостных стен. Термин возник и закрепился благодаря внешне похожему устью на фасаде традиционной русской печи. (обратно)16
Весовая гривна — 206 грамм. (обратно)17
Длина русского боевого лука составляла в среднем 150–160 см со снятой тетивой, и примерно 130 см — с надетой, при среднем росте человека — 160 см. (обратно)18
Средней квалификации лучник умел выпускать 10 стрел, a его опытный товарищ — 16 стрел в минуту. (обратно)19
Охабиться — прятать, вводить в заблуждение. (обратно)20
Обажить — обмануть. (обратно)21
Сказка — в понимании того времени — любое повествование. (обратно)22
Шперак — малая наковальня. (обратно)23
Чеснок — военное заграждение. Состоит из нескольких соединённых звездообразно острых стальных штырей, направленных в разные стороны.
(обратно)
24
В артиллерийском музее в Санкт-Петербурге лежит одна из чугунных пушек, отлитых в 1600 году для всеобщего обозрения. Чугунная пушка в XVII веке — продукт искусства, а медная — ремесла, т. к. технология уже освоена. (обратно)25
В XIX–XX веках в России и за границей сложилось мнение, что допетровская артиллерия была технически отсталой. Но вот факты: «в 1646 году Тульско-Каменские заводы поставили Голландии более 600 орудий, а в 1647 году 360 орудий калибра 4,6 и 8 фунтов. В 1675 году Тульско-Каменские заводы отгрузили за границу 116 чугунных пушек, 43 892 ядра, 2934 гранаты, 2356 мушкетных стволов, 2700 шпаг и 9687 пудов железа». (Энциклопедия вооружений). Образцы клейм на стволах пищалей с начертанием названия монастыря (РГАДА. Ф. 1201/1. Оп. 10. № 298. Л. 3.):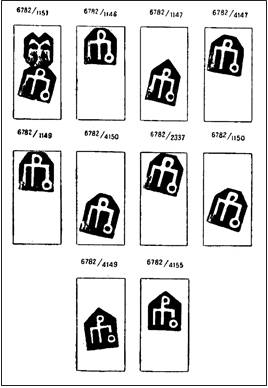
(обратно)
26
Выполнение монастырями функций, в дальнейшем переданных светским школам, университетам, юнкерским училищам и институтам благородных девиц, пестрят воспоминаниями иностранцев, посетивших Россию того времени. Бальтазар Коэйт. Исторический рассказ или описания путешествия господина Курнада Фкн-Кленка в Московию:«В стенах крепости (Китай-город) находятся и два прекрасных монастыря, один мужской, другой женский. Первый, впрочем, скорее можно назвать дворянским учебным заведением, чем монастырем; там редко увидишь кого другого, как детей бояр и важных вельмож; их помещают туда, чтобы удалить от дурного общества и научить благонравному поведению, наукам и военному искусству. По исполнении шестнадцати лет от роду, они могут уйти в мир».(обратно)
27
Современные лингвисты предполагают, что это слово произошло от праславянского vedrъ — «ясный, солнечный». (обратно)28
Мф. 13:3–23. (обратно)29
Для того, чтобы добраться до колоколов Духовской церкви, требовалось подняться на 10-метровую высоту по приставной или веревочной лестнице. В старину звонари были избавлены от этого рискованного занятия благодаря тому, что звонили в колокола с земли, раскачивая веревками длинные шесты — «очепы», прикрепленные к деревянным валам в пазах арок звонницы. Таким образом, звонари раскачивали не колокольные языки, а сами колокола, закрепленные на валах и издававшие звон при ударе о неподвижные языки. Описанный способ звона продержался на Духовской церкви до середины XVII в. (обратно)30
Скуфейка — повседневный головной убор православного духовенства и монахов. Имеет и другие названия — ермолка, тюбетейка, фес, еломок, шуточно — наплешник. Мисюрка — воинская шапка, с железною маковкою или теменем (навершие) и сеткою (кольчуга). (обратно)31
Турусы — осадные башни на базе обычных телег. (обратно)32
Узорочье — шитая золотом одежда, явно не для монастырского писаря. Князь так шутит. (обратно)33
Рамено и сечительно — напряженно и решительно. (обратно)34
Сам чин «наречённого», то есть назначенного государем на ещё занятую кафедру (или не посвящённого в сан) патриарха, по справедливому замечанию митрополита Московского и Коломенского Макария (М. П. Булгакова), происходил из обычаев литовских, чуждых Русской православной церкви. (обратно)35
Лагодити — потворствовать; делать приятное. (обратно)36
Однорядка — распашная, длинная, широкая одежда из сукна или иных шерстяных тканей «в один ряд», без подкладки, с длинными откидными рукавами и прорехами для рук у пройм, чем и обусловлено само название.(обратно)
37
Убрус — полотенчатый, как правило, богато вышитый головной убор, закалывавшийся специальными булавками (другое его название — шлык). (обратно)38
(Мф. 7:7; Лк. 11:9). (обратно)39
Cтропо́та — искажение истины, выдумка. (обратно)40
Катафракты или катафрактарии — тяжеловооружённые конные воины Византии. (обратно)41
Скончати скоротещи — заканчивать быстрее. (обратно)42
Te inveni. Tandem inveni te! (латынь) — Я нашел тебя. Я, наконец, тебя нашёл! (обратно)43
Ривати али извлечи — толкать или тащить. (обратно)44
Отщетить — повредить, испортить. (обратно)45
«Многая рухлядь» — Мартин Бер, «Московская летопись» (1600–1612): «Каждому из придворных докторов отпускали ежемесячно знатное количество хлеба, 60 возов дров и бочку пива, ежедневно штоф водки, уксусу и запас для стола, ежедневно три или четыре блюда с царской кухни. Когда царь принимал лекарство и когда оно хорошо действовало, то медиков дарили камнями, бархатами и соболями; одаривали также за лечение бояр и сановников». (обратно)46
Поместья, предоставляемые служивым людям, были оформлены по законам того времени в специальные указы — столбцы. Буквы фамилий владельцев поместий были вписаны не горизонтально, как принято, а вертикально, образуя «столбец». Дворянин, фамилия которого была в «столбцах», и назывался «столбовой дворянин». Списки просматривались и заверялись самим царем. Так государь всея Руси имел представления о количестве верных ему людей, владеющих поместьями. Попасть в такой список — мечта каждого служивого, ведь это означало не только владение земельными угодьями, но внимание и милость самого царя. (обратно)47
Использованные в тексте старорусские слова: вельми паче — гораздо больше. убрусы — полотенца, вамбак, баволна — вата, олей — масло, скепа — щепа, недужный — больной, усмяглый — усталый, таче — потом, истое — самое главное, исполу — вообще. (обратно)48
К XV веку йоменами в Англии стали называться все крестьяне, ведущие самостоятельное хозяйство, независимо от юридического статуса их держателя. (обратно)49
Ляд — участок леса, отведенный для подсечно-огневого земледелия на окраине лесного массива. (обратно)50
Кочедык — (также свайка) — плоское изогнутое шило для плетения лаптей. Встречались как металлические, так и костяные кочедыки, последние изготавливались из расщеплённых костей животных. (обратно)51
Пестери — заплечные короба с лямками, плетённые из бересты. (обратно)52
«Евангелие по Луке» гл.22 Стих 19. (обратно)53
Тафья — маленькая плоская и круглая шапочка, плотно закрывающая макушку головы — подобие тюбетейки или ермолки, сугубо русский мужской домашний головной убор привилегированных сословий. (обратно)54
Охабень — верхняя долгополая одежда, как мужская, так и женская, с большим отложным воротником, который мог доходить чуть ли не до середины спины. Охабень — от слова «охватить», звали этот наряд так за способность вместить в себя все одёжки знатного человека. Объярь — старинная шелковая ткань ручного производства с поперечными рубчиками и волнистым отливом. Позднее её стали называть «муар». (обратно)55
Камка — шелковая китайская ткань ручного производства с вытканным двусторонним узором. (обратно)56
Сочьба — навет, клевета. (обратно)57
Заспа — крупа. (обратно)58
Замятня — беспорядки. (обратно)59
Занеже — потому что. (обратно)60
Колгота — неурядица, ссора. (обратно)61
Варити — предупреждать, беречь. (обратно)62
Автор имел в виду фламберг — меч, появившийся в середине 16 века на территории Южной Германии. Стал востребован при сражениях в городах, где обычный классический меч был неудобен для рубящих ударов. Фламберг использовался в стеснённых условиях баталий для мощных пронзающих уколов. (обратно)63
Noli prohibere! — Не останавливаться! (Латынь). (обратно)64
Hominis est errare, insipientis perseverare. — Человеку свойственно ошибаться, глупцу — упорствовать. (Латынь). (обратно)65
In hostem omnia licita. — По отношению к врагу всё дозволено.(Латынь). (обратно)66
Auxilium opus est? — Нужна помощь? (Латынь). (обратно)67
Если подвиг Пересвета стали сразу прославлять в повествованиях о Куликовской битве, то древнейшие известные рассказы о ней умалчивают об Ослябе. Его имя не вошло в большинство летописных списков убиенных на Куликовом поле, нет его и в синодиках павших. Лишь «Задонщина» и «Повесть о Мамаевом побоище», изображающая иноков-воинов как былинных богатырей, говорит о смерти в битве не только Александра-Пересвета, но и Родиона-Осляби. Только в XVII веке имя Родиона Осляби было внесено в святцы. В месяцеслове Симона (Азарьина) середины 1650-х годов сказано: «Преподобнии старцы Александр и Родион, нарицаемии Пересвет и Ослябя, иж на Мамаеве побоищи убиени быша». (обратно)68
Кончар (или концеж, подвешивался на седле под коленом) — меч с прямым, длинным (до 1,5 метров) и узким трёх- или четырёхгранным клинком. Был на вооружении польских крылатых гусар. Применялся при потере или поломке основного оружия — копья. (обратно)69
Карабе́ла — тип сабли, имевший распространение среди польской шляхты в XVII–XVIII веках. Отличалась особой конструкцией рукояти, что делало её удобной для фехтования и круговых ударов. (обратно)70
Древнерусская гривенка = 200 грамм. (обратно)71
В 1040 году папа Бенедикт IХ по просьбе поляков возвратил им на престол монаха Казимира. (ANNALES SEU CRONICAE INCLITI REGNI POLONIAE). Почти такой же случай произошёл у арагонцев, которые после прекращения королевского рода, не спрашивая разрешения у папы, вывели из монастыря в Осте сына короля Санчо и брата покойного Альфонса — Рамиро, принявшего обет в монастыре святого Понтия в Томерасе, считавшегося монахом и священником, и посадили его на королевский престол. (Там же https://www.vostlit.info/Texts/rus5/Dlugos_2/frametext31.htm?ysclid=lh08v0veov393833147) (обратно)72
В июне 1608 года граф Мансфельд действительно открыл военные действия и взял штурмом указанные в тексте города-крепости. Карл IX повелел не только завоевать Задвинское герцогство, но и вторгнуться на территорию Великого княжества Литовского, однако на этом успехи Мансфельда закончились: гетман Ходкевич, служивший «пожарником» у польской короны, срочно прибыв в Прибалтику, в марте 1609 года разбил графа под Ригой, летом — под Пернау и, наконец, 6 октября — у Гауи. (обратно)73
7-е правило Халкидонского собора 405 года, гласило:«Вчиненным единожды в клир и монахам определили мы не вступать ни в воинскую службу, ни в мирский чин; иначе дерзнувших на сие и не возвращающихся с раскаянием к тому, что прежде избрали для Бога, предавать анафеме».Однако сам Папа Римский и его рыцарские ордена, благословляемые на крестовые походы, демонстративно пренебрегали этим правилом, не пытаясь даже каким-то образом отменить или толковать по-новому решения Собора. (обратно)
Последние комментарии
4 часов 6 минут назад
9 часов 10 минут назад
16 часов 59 минут назад
19 часов 29 минут назад
19 часов 37 минут назад
2 дней 6 часов назад